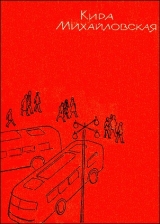
Текст книги "Переводчица из «Интуриста»"
Автор книги: Кира Михайловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
– До свидания, Аарне!..
Толстый Асикайнен застыл на площадке вагона и всех загородил.
К стеклу прижалось лицо Микколайнена. Он смеется и говорит что-то, но что – я не слышу. До свидания, господин Микколайнен! И ты, Лео, до свиданья! Ты не будешь больше смотреть так напряженно, и ты, наверное, сможешь даже помогать своему отцу клеить картонные ящики.
До свидания, Орава. Я не сержусь на вас за то, что вы чуть не опоздали на поезд. Зачем же вы плачете?
Поезд трогается. Плывут мимо меня лица моих туристов, серьезные, смеющиеся и плачущие. Вот мелькнула вытянутая рука Аарне. До свиданья!
Брошенный кем-то, кружится в воздухе платок. Он медленно опускается на сырую платформу. Прохожий наклоняется, поднимает его и протягивает мне. С платка улыбается бабка с веником. Она идет в баню. Я складываю платок, засовываю его в сумку, поднимаю чемодан и иду к вокзалу.
16
Я прихожу в «Интурист» в середине рабочего дня. В комнате переводчиков – всего несколько человек: Коля Смирнов, маленькая вертлявая Зойка и Валя. Остальные обедают.
– Аська! Это ты? – спрашивает Валя серьезно.
– Да. Я уже приехала.
– Книжку привезла?
– Какую книжку?
– Книжку подтверждения заказов.
– Да, привезла.
– А ордер не забыла отобрать у своих туристов?
– Нет, не забыла.
– И паспорт в гостинице не оставила?
– Нет.
– Ну молодец! Тогда здравствуй! – Валя встает из-за стола, подходит ко мне и целует меня в щеку. – Я рада, что ты приехала. Я уже начала скучать без тебя. Пойдем поговорим!
Мы выходим в коридор, и, пока спускаемся по лестнице в широкий холл первого этажа, я говорю Вале:
– А я тоже рада, что снова дома. Я за все время в Москве и не выспалась ни разу. А одну ночь так мне совсем не спалось – всю ночь просидела в номере у туриста.
Валя останавливается:
– Где?
– В номере. У своего туриста.
У Вали испуганное лицо, и я успокаиваю ее:
– Он был тяжело болен. Вызывали неотложку.
– Ну, я понимаю: болен, неотложка – я все это понимаю, но все-таки зачем в номере? Почему обязательно ночью и обязательно в номере у туриста?
– Да пойдем, пойдем! Что ты стоишь? Я тебе сейчас объясню. Человек заболел внезапно, неожиданно. У него было что-то с сердцем. Чуть не умер. Никто с ним объясниться не может – ни врач, ни сестра, ни горничная. Он лежит у себя в номере. Где же мне быть? На улице, что ли? Человек-то заболел у себя в номере. Там и лежит!
Валя с сомнением качает головой, а потом спрашивает:
– И ты всю ночь у него просидела?
– Ну конечно! Всю ночь.
Валя думает, потом говорит:
– Я понимаю, положение действительно безвыходное. Только я советую тебе больше этого не делать.
– Но почему?
– Почему-почему! Пойдут разговоры, сплетни, дойдет до начальства. Да и зачем до начальства – вот Соколова узнает и всыплет тебе.
Я знаю, что Соколова, заведующая бюро обслуживания, самая грозная женщина в «Интуристе», а сейчас, слушая слова Вали, я уже не сомневаюсь: да, Соколова узнает и всыплет! И непонятный страх перед этим именем охватывает меня.
Мы сидим в холле. В это обеденное время здесь обычно много народу, но сейчас зал почти пуст. Только в углу под картиной курят сигары и молчат двое немолодых людей, и около киоска стоят девушки в коротких юбках. Потом девушки уходят, и становится совсем тихо. Слышно, как работает вентиляция, что говорят рядом в бюро обслуживания и как бьют в кабинете управляющего часы. Двое пожилых в углу под картиной по-прежнему молчат, а сладковатый запах сигары наполняет весь холл. Мы разговариваем почти шепотом. Мы знаем, что Соколова терпеть не может, когда кто-нибудь из переводчиков сидит в холле. Она любит порядок. Но во всей гостинице нет другого места, где мы могли бы поговорить, и мы продолжаем сидеть здесь.
– Ты здорово отстала от нас за эти дни, – говорит Валя. – В Эрмитаже мы сидим уже на Веласкесе, метро сдали, а город будем сдавать на днях.
– Да. Мне придется туговато. Но ты дашь мне конспекты?
– Конечно.
– Ну, а что интересного случилось за это время? Кого-нибудь взяли из новеньких?
– Взяли. Какого-то дядьку. Высокого, немолодого, в очках. Худой – ужасно.
– Язык?
– Немецкий. И как будто английский. Довольно занозистый: ни с кем не разговаривает. Да, совсем забыла. У нас будет вечер. Здесь, в гостинице. Устраиваем сами. Что-то вроде складчины. Будет столик в ресторане. Ты пригласишь кого-нибудь?
– Пожалуй, нет.
– Ну а я буду с Вовкой. Никуда не деться – брачные узы!
– Ты как будто недовольна?
– Нет, отчего же?
Мы разговариваем с Валей до тех пор, пока из столовой не появляется Соколова. Не дожидаясь, пока она подойдет к нам, мы встаем и идем к лестнице.
17
И вот я снова дома. Снова сижу за столом и снова вижу рядом круглое и доброе лицо тети Музы. Тетя Муза шьет, и на пальце у нее блестит наперсток. Глядя на полные руки тети Музы, с коротенькими растопыренными пальцами, ни за что не скажешь, что они могут быть такими искусными и что все они могут: оклеить комнату обоями, сделать красивый абажур из бумаги, сшить платье и еще много такого, чего не смогут сделать ничьи другие руки. Тетя Муза может все. Единственное, что она не умеет делать, это рассказывать. Она всегда что-нибудь вспомнит в середине рассказа, отвлечется и забудет, о чем говорила сначала.
Сейчас тетя Муза поглядывает на меня поверх очков. Я рассказываю ей о поездке в Москву.
– Однажды я просто встала в тупик. Представляете, меня спрашивает одна туристка: «У вас легко выйти замуж?» Ну что я ей отвечу, я и сама не знаю, как это у нас, легко или трудно. Я растерялась и молчу, а она говорит: «У нас очень трудно выйти замуж. Мало мужчин. У вас на улицах я встречаю много мужчин. Мне очень нравится ваша страна». Я чуть не рассмеялась. Получается, что ей у нас только из-за мужчин и нравится. Смешно, правда?
– Ничуть не смешно, – серьезно отвечает тетя Муза. – Что смешного, если женщины замуж не могут выйти, а мужчины полегли в войну. Что смешного в одиночестве?
– Но ведь у нас тоже была война и у нас тоже погибли многие!
– У нас страна большая, людей больше. И то, мало ли у нас вдов?
Я замолкаю. Муж тети Музы погиб в блокаду. Он работал на том же заводе, что и она, и умер от голода. Мой разговор с туристкой больше не кажется мне смешным. Вспоминается лицо этой женщины, стареющее, с тщательно нарисованным ртом, ее жилистая шея и маленький золотой крестик на шее. Он качался, когда она кивала головой. Тогда и крестик показался мне смешным, но сейчас я не улыбаюсь.
Тетя Муза молчит. Она, наверно, вспоминает блокаду. Я вспоминаю ту женщину с крестиком и думаю об одиночестве. Силюсь представить себе, что это такое, – и не могу. Я знаю, оно бывает глухим, глубоким, тоскливым. Но как оно может существовать в нашем двадцатом веке в большом городе, полном людей, книг, кино, автобусов, – городе, где все время что-то случается, где люди сталкиваются с людьми в магазине, в метро.
Я понимаю – в блокаду. Тогда мы жили одни во всей квартире: я и тетя Муза. И в квартире рядом никто не жил. И никто не жил в квартире под нами. И целый день можно было тихо пролежать в кровати, забившись под одеяло, и не услышать ни одного звука ни со двора, ни с лестницы. А только сухие щелчки метронома по радио и сирены воздушной тревоги. Когда на всей нашей улице можно было увидеть порой только двух человек: одного – мертвого, а другого – полуживого, который тащит этого мертвого, – вот тогда да, тогда может возникнуть одиночество – и глубокое, и глухое… Я не знаю, возникало ли оно у тети Музы, у меня – нет. Наверное, потому, что я была слишком маленькая и слишком была измучена и голодна. Впрочем, я ничего этого не помню, и даже чувство голода для меня так непонятно, словно никогда я его не испытывала. У меня не осталось почти никаких воспоминаний, и блокада живет во мне не в сознании, – в нервах: они напряжены чуть-чуть туже, чем у моих подруг.
Хлопает дверь. Я оборачиваюсь: тетя Муза ушла из комнаты. Слышу, шаркают ее домашние туфли по коридору, и все стихает. И тут же звонок. Я вздрагиваю – до того неожиданно звучит он.
Все вдруг становится не просто, и прежде всего не просто оторваться от стены и шагнуть на звонок. Тетя Муза, я слышу, идет открывать дверь. Вот уже двое идут по коридору, коротко говорят о чем-то. Стук в мою дверь. Я отвечаю срывающимся голосом и вижу на пороге Юрия.
Все, что есть в мире загадочного и необъяснимого, заключено в человеческих отношениях. Человек способен познать природу, проникнуть в суть материи, открыть законы ее существования, а сам он разве не самая большая загадка?
Откуда зарождается внезапная близость двух людей? Еще не чувство, озаренное сознанием, а первый толчок крови, внезапное тяготение одного к другому, пробужденная интуиция, связующая их? Почему, по какому закону оно неизменно вызывает из человеческих глубин самое светлое и лучшее? И куда уходит оно, когда не определяется в чувство? И как образуется высокая чувствительность этих двух людей? Говорят, что биотоки. Но как? Каким образом? Почему, когда он еще только поднимался по лестнице, я уже начала волноваться, не распознав еще причину волнения? Где, в каком месте совпали направления наших мыслей?
Юра улыбается. Впервые я замечаю, что глаза у него расставлены широко, коричневые, с блеском. В них я вижу маленькую себя, свое смущенное и счастливое лицо.
– Здравствуйте, Юра, – говорю я, и он отвечает мне:
– Здравствуйте.
И мы снова стоим друг против друга, – может быть, долго, а может быть, нет, пока один из нас не спохватывается: «Что же мы стоим?»
Так смешно начинается наша третья встреча с Юрой.
18
Нет, мои занятия – это ерунда по сравнению с занятиями Юры. Ведь он строит жилье. Вернее, он ничего еще не строит. Он еще только защищает диплом, но какой! «Как быстрее, рациональнее и дешевле возводить дома методом подъема этажей». И не только жилища, но и детские сады, ясли, школы – в общем, все, что нужно людям. Я с уважением смотрю на чертежи, сваленные на столе у Юрия. Я ничего не понимаю в них, но не могу же я в этом признаться. Молча и внимательно выслушиваю объяснения.
– Понимаете, коробка – это целая квартира. Специальное приспособление выжимает ее на пятый этаж – раз! И укрепляет ее там – два. Следующая коробка закрепляется на четвертом этаже. Следующая – на третьем. И так далее. Называется – строить дом с крыши. А ведь его фактически не строят, а собирают. Ведь коробки-то изготовлены на заводе. А сборка занимает всего несколько дней. Интересно?
Еще бы не интересно, когда дом строится, как из кубиков, из этих самых коробок. Вот только… Коробки. Название какое-то непривлекательное. Мне бы хотелось жить в квартире, хорошей, удобной, как, например, наша. А в коробке мне бы не хотелось.
Юрий не обижается, когда я говорю ему об этом.
– Ну что вы! Это чисто условное название: коробки. На самом деле такие же квартиры, как ваша, даже лучше, современнее. Теперь самое главное – это найти механизмы, способные носить коробки к остову дома, поднимать и закреплять их. Мне пришлось заняться механикой, чтобы попробовать создать такой механизм. И вот посмотрите.
Юрий развертывает чертеж. В такой паутине я наверняка не разберусь.
– А вы присядьте, – говорит Юрина мама и, вытерев руки передником, пододвигает мне стул. – В ногах правды нет. И ты, Юрий, сядь. Обедать пора. С режима сбился.
Режим висит на стене. Там, в режиме, все помечено, когда есть, чем заниматься, сколько раз делать зарядку. Это кажется мне и странным, и интересным. Но вот уж совсем странным кажется мне, что над чертежным столом Юрия висит список дел, которые он должен сделать в течение месяца и конкретно в течение ближайшей недели. В этом списке значится и дополнительное изучение сопротивления материалов и механики, и какие-то конспекты по марксизму. А в конце одного столбика даже написано: выжать 25 килограммов. На окне лежат цветные гири, похожие на муляж. Я трогаю их. Гири настоящие, и Юрий, наверное, действительно выжимает их каждый день.
– Времени мало, чертовски мало, – говорит Юрий, глотая суп. – Отказываешь себе в самом необходимом. Книг не читаю. Только по специальным вопросам.
Я таращу глаза. Впервые вижу человека, который не читает книг. Если кто-нибудь и не читает, так разве признается в этом? А он говорит открыто, как будто гордится этим. Настоящий военный коммунизм. Время военного коммунизма представлялось мне именно таким: все усилия направлены в одну точку, книг никто не читает, театры закрыты, музеев нет. Юра явился как будто из эпохи военного коммунизма. Он кажется мне воплощением революции: то железным Феликсом, то Робеспьером.
Я робею перед ним и перед его суровой мамой и тороплюсь домой.
19
Все переводчики разбиты на группы: английская, французская, скандинавская… В каждой группе есть свои корифеи. Никто, конечно, не присваивает им такого звания и зарплата у них такая, как у всех, однако же самые важные и ответственные туристы, переводы на конференциях и приемах поручаются им. Корифеи давно работают в «Интуристе», прекрасно знают язык. Их берегут, ими дорожат. Это «золотой фонд» «Интуриста».
То, что у Коли Смирнова над верхней губой модные усики, ни о чем еще не говорит. Он самый настоящий корифей. Нет переводчика, который хоть раз в жизни не обратился бы к нему с вопросом. Его стол стоит у самого окна, широкого и незатворенного, за окном кипит жизнь, но Коля даже не поднимет головы и не посмотрит на эту жизнь. Он изучает последние английские газеты, что-то записывает в записную книжку, задумывается над чем-то и при этом потирает лоб двумя пальцами, указательным и средним. Зойка сидит за соседним столом, лениво перелистывает роман Франсуазы Саган, потом захлопывает книжку и начинает пудриться перед маленьким ручным зеркалом.
Я сижу за одним столом с Валей. Хотя у нас разные языки, у нас много общего. Даже ящик в столе. В одной стороне этого ящика лежат мои методички, лексика, словари, в другой – Валины. Мы любим сидеть рядом, касаясь друг друга плечом, и заниматься каждый своим делом. Мы не мешаем друг другу. Сейчас утро, и мы еще только раскачиваемся, еще только раскладываем на столе книги и тетради, устраиваемся поудобнее, разговариваем вполголоса о посторонних вещах, хотя некоторые, как, например, Ирка, уже углубились в работу. Ирка станет корифеем. Мы с Валей – никогда.
Гоша появляется некстати. «Гоша» – так между собой называем мы нашего старшего переводчика. Раз он стоит у двери, всматриваясь в наши лица, значит, кого-то нужно послать на экскурсию. А можно было бы и подождать еще часок-другой…
– Полякова! Экскурсия по городу с туристом «люкс» на русском языке, – говорит Гоша.
Весной переводчики скучают по «своему» языку. Пока еще не подоспел сезон, и времени вдоволь, и сил накопилось за зиму – хорошо получить туриста и поговорить всласть, попрактиковаться, получая удовольствие от того, что не утратил, оказывается, ни беглости, ни свободы в разговоре. Хорошо поговорить финскому переводчику с финном, английскому – с англичанином или американцем, немецкому – с немцем. А от экскурсии на русском языке стараются увильнуть. Экскурсия на русском языке – это значит у туриста уже есть свой переводчик из Москвы или, может быть, из Киева на все время его пребывания в стране. А переводчику разговаривать с туристом через переводчика – кому охота? Корифея на такую экскурсию не пошлют. Посылают кого-нибудь из «зеленых»…
Полякова вот уже три дня подряд водит экскурсии на русском языке.
– Ну и что же? Кому-то ведь надо водить! – тихо говорит Валя.
Она всегда одобряет то, что делает Гоша. А я почти всегда не одобряю. Это единственное расхождение в наших взглядах.
– Я не поеду, – говорит Полякова. И все смолкают. Все смотрят на Полякову. Никто до сих пор не перечил Гоше так открыто. Тем более Полякова – самая тихая, самая исполнительная в «Интуристе». Естественно, что Гоша краснеет – сначала краснеет шея, потом уши, потом лицо. И естественно, что все мы сидим затаив дыхание и с интересом ждем, что будет дальше.
– Почему? – спрашивает Гоша.
– Я ездила вчера. И позавчера ездила тоже.
– Ну и что же? – спрашивает Гоша. Краска сбегает с его лица, и оно снова становится белым. Белым становится и крепкая, гладкая шея и большие уши.
– Ничего.
Это Полякова сказала еле слышно, и мы подумали: «Сдает, сейчас поедет!»
Гоша обрадовался:
– Собирайтесь и поезжайте.
Полякова покачала головой:
– Вон сколько людей сидит, а вы заладили: меня и меня. Не поеду. Пусть другие едут. Пусть каждый хотя бы по разу…
Короткая пауза, после которой Гоша отрывисто бросает Поляковой:
– Зайдите в бюро обслуживания…
К Соколовой, на проработку! Лучше десять экскурсий по городу подряд.
Гоша оглядывает комнату. Он смотрит на Зойку, и та начинает ерзать под его взглядом. Он смотрит на Смирнова, потом на Валю, потом на меня. Так я и знала!
– Майкина! – говорит Гоша. – На экскурсию!
«Проходящий турист» редко запоминается переводчику. Вот они сидят в машине, волею случая соединенные на три часа. Они непроницаемы друг для друга: только что встретились и скоро навсегда расстанутся. Что привело туриста в этот город, чего он ищет здесь, как складывалась его жизнь до этого и как сложится дальше – все это останется неизвестным, потому что машина движется беспрерывно, беспрерывно разворачивается за окном город и переводчик беспрерывно говорит, а турист записывает или просто слушает. Если бы машина остановилась, и замер бегущий за окном город, и прервались бы мысли, и переводчик и турист внимательно посмотрели бы друг на друга, тогда, быть может…
Тогда турист спросил бы, наверное: «Простите, мисс. Что случилось? У нас так мало времени, а вы остановились на полпути».
Машина плавно сдвигается с места и несет нас к Неве – меня и мою американку. Американка седая, тщательно причесанная и крепко надушенная. Она понимает по-русски и даже немного говорит. Она слушает мои объяснения и задает вопросы, но не поглощена экскурсией целиком. Мы сидим рядом в глубине машины, очень близко друг от друга, но между нами нет доверия. Я жду не дождусь, когда кончится экскурсия.
У Эрмитажа машина останавливается, мы выходим и оказываемся на пустынной, продуваемой ветрами, набережной. Солнца нет, и город весь в голубых тенях. На расстоянии тени сгущаются, скрадывают детали и части зданий. Утонула в тумане Петропавловская крепость, и только шпиль ее тускло мерцает, как будто парит в воздухе, ни на что не опираясь. Мы привыкли к такой игре освещения, не замечаем ее – ведь наша память неизменно дополнит недостающее: подведет купол под парящий шпиль Петропавловки, а под купол подведет стены собора. И вот уже нет никакой тайны, а есть крепость с собором, построенным архитектором Трезини в первой четверти восемнадцатого века. А для того, кто здесь впервые, тайна есть тайна, и Петропавловская игла рождается прямо из тумана.
Мы замираем у парапета. Вон там налево должна быть Биржа, но ее нет – только смутно обозначены линии портика. В такие часы, когда солнцу не пробиться сквозь туман, город теряет свою материальность.
Я забываю про экскурсию, про американку, и, наверное, точно так же американка забывает про меня. А когда мы вновь возвращаемся к реальности, мы смотрим друг на друга по-новому, как сообщники, объединенные одной тайной.
Я могу иногда плохо провести экскурсию, и то, что я обычно люблю, чем восхищаюсь, что берет меня в плен, может внезапно показаться мне неинтересным. И тогда я рассказываю вяло… Злюсь на себя, а сделать ничего не могу. Но я всегда волнуюсь, попав на Марсово поле. Оно никогда не оставляет меня равнодушной.
Мы подъезжаем к полю со стороны Невского проспекта. Сейчас он полон людей. Беспрерывно течет поток, ручьи затекают в магазины, кафе, в метро. А тогда Невский был безмолвен: хоронили героев. Их несли на своих плечах через весь Невский рабочие Петрограда. Медленно плыли красные, обитые кумачом гробы. Я показываю американке, как заворачивало это шествие по Садовой и направлялось к Марсову полю. Вот здесь их похоронили. Сейчас на могилах лежат обтесанные камни, поддерживавшие когда-то решетку, которая окружала Зимний дворец. Рабочие взяли дворец приступом. А когда похоронили на Марсовом своих товарищей, сделали надгробья из этих камней.
В чаше горит огонь. Он словно оторвался от земли и повис над нею голубым прозрачным флажком.
Мы читаем имена погибших – и нас завораживает даже простой их перечень, как будто незримая армия встает за нашей спиной.
«Не жертвы, герои лежат под этой могилой, не горе, а зависть рождает судьба ваша в сердцах всех благодарных потомков. В красные страшные дни славно вы жили и умирали прекрасно.»
Напряженность и недоверие между нами тает. Может быть, это сделало время, а может, пытливая серьезность старой американки. А может, город, который одинаково действует на меня и на нее.
…Этот дом не занесен ни в какие туристские реестры. Я и сама не знаю, почему я везу сюда американку. Ведь я показала ей все примечательные места. Наконец, если бы она хотела узнать о Пушкине, можно было бы повезти ее на Мойку, в квартиру-музей. Так, наверное, и сделали бы все переводчики нашего «Интуриста». Но мне дороже не тот дом, из которого вынесли великого поэта, а тот, из которого когда-то выбежал губастый, курчавый мальчик. Выбежал и пошел по Фонтанке к Коломне, чтобы затеряться в толпе горожан и бродить среди них до позднего вечера. Его, конечно, не замечали, не знали, кто он такой. И он сам еще не знал о себе ничего. Будущее только смутно предчувствовалось ему, а листок бумаги был брошен в ящик письменного стола вместе с обгрызенными гусиными перьями. На бумаге – начало «Руслана и Людмилы».
– Разве здесь он написал свою поэму?
– Да, здесь. Ставил свечку на подоконник и писал. Вон, может, за этим, а может, за тем окном.
Есть еще одно качество, которое в глазах сухих, лишенных воображения людей, может быть, обернется недостатком: этот дом – старый, давно не ремонтированный, штукатурка облупилась на нем, и стерлись ступени каменной парадной, и потрескался в парадной камин. А кое-где от камина и вовсе отвалились куски мрамора. И, смотря на этот дом, мне легче представить себе, что в нем жил Пушкин, что по этой лестнице ходил, а к этому камину, наверное, протягивал руки.
И есть еще одно достоинство у этого дома: в нем живут люди. Хозяйки выходят на лестничные площадки и переговариваются, перегнувшись через перила. И какая-то девчонка сбегает легко по ступенькам, мы сторонимся, даем ей дорогу, она выбегает на крыльцо, и машет рукой, и кричит кому-то: «Наташка, Наташка…»
Я понимаю Соколову, она будет права, если, узнав о том, что я была здесь с американкой, станет ругать меня. Ведь есть туристы, которые только и видят что штукатурку. Сколько таких туристов я встречала! Но моя американка не такая. Не может быть такой старая американка, читающая в подлиннике Пушкина.
Мы расстаемся в холле гостиницы. Нет простоты и легкости прощания двух малознакомых, ни к чему не обязанных людей. Мы хотели бы встретиться еще. Но американка уезжает, в ее туристской книжке – длинный-длинный маршрут. Она молодо улыбается мне, пожимая руку.
…Когда заканчивается рабочий день, мы выходим с Валей на улицу. Сгустился дым над Ленинградом. Гранитный цоколь гостиницы вспотел и покрылся холодными каплями.
– Ты одна придешь на вечер?
– Одна. А может быть, и нет.
– А с кем же?
– Не знаю.
– Ты решай скорее, а то не будет билетов и столики все займут. Я – налево. Будь здорова.
– До завтра.
На Мойке стоят деревья. Большие, старые, с твердыми морщинистыми стволами. Они стоят здесь давно, наверное со времен Пушкина. И будут стоять еще долго-долго. И каждую весну они будут распускаться. Я не замечу никогда того дня и того часа, когда из их сучковатых веток полезут вдруг упругие почки. Вот сейчас они уже есть, а еще вчера их не было. Может быть, они лезут по ночам…
Зажигают свет в окнах, и он начинает качаться в Мойке. Отражения колеблются, и кажется, будто река движется. Туда и назад. Туда и назад. Мне не хочется идти домой. Мне хочется идти по улице и заглядывать в окна, к людям. А как у них?..
20
– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
Мы устали пожимать руки, а Юра, наверное, перепутал всех, с кем я знакомила его. Только Валю он не перепутал. Он сказал мне сразу, как увидел ее: «Эта красивая женщина тоже переводчица?» Мне смешно, что Валю назвали женщиной. Какая она женщина, такая тоненькая и маленькая! И какая же она красивая, если у нее большой рот и редко расставленные зубы. Но я не спорю.
– Да, это наша переводчица.
По правую руку от меня сидит Юра, по левую – наш новый переводчик Ломов. У него широкоскулое лицо и узкие блестящие глаза. И мне это нравится. У него совсем белые виски, и это мне тоже нравится. Наконец, мне нравится, как он молчит, и рассматривает всех, и немного улыбается при этом, и какое у него спокойное лицо. С другой стороны Ломова сидит Зойка. Она говорит без конца, но ее никто не слушает. Зато Гоша не говорит. Он очень важен.
Я пью вино, и мне становится тепло. Сначала тепло у сердца, потом согреваются ноги. И только голова у меня совсем холодная. Но после нескольких рюмок и она начинает согреваться. Я все чаще и чаще улыбаюсь. Улыбаться мне легко, совсем легко, потому что губы раздвигаются сами собой. Все шумят, говорит уже не одна только Зойка, а слушают только Юра, Ломов и я. Юра слушает, наверное, потому, что он изучает людей. Ломов – не знаю почему, а я – потому что мне нечего сказать. Выходит певица. Кто-то говорит:
– Интересно, можно быть толще?
Я начинаю смеяться. Мне кажется это очень смешным, потому что певица и вправду очень толстая, и все ее тело колышется, когда она ступает к микрофону.
Я беру Юру за руку и вытаскиваю из-за стола. Мы делаем несколько движений и оказываемся втянутыми в тесную толпу, в которой уже не имеет значения, умеет человек танцевать или нет, а только в состоянии ли он передвигаться. Мы в состоянии передвигаться. И мы танцуем. Юра смотрит на меня. У него широко расставленные глаза, и в этих глазах отражается весь зал, наклонно сбегающий прямо на меня: столики с закусками и винами, стулья в беспорядке, летящая прямо мне в лицо и рассыпающая огни люстра. Я смеюсь.
Мы возвращаемся к столику, и я замечаю, что Валя сидит рядом с Ломовым. Валя говорит что-то горячо и быстро, потом останавливается и смотрит на Ломова, прямо ему в лицо. Ломов тоже смотрит на Валю и ничего не говорит. Синие глаза Вали тают, становятся еще прозрачнее. Мне неловко, будто я подсматриваю что-то. Отворачиваюсь.
Певица колышется над микрофоном: «Если я отдам тебе мое сердце.»
– Вам не надоело?
– Нет.
– А мне надоело. Идемте.
– Совсем?
– Ну конечно. Только я возьму шарф.
Теперь Валя не говорит, а молча смотрит, как люди танцуют, и как они едят за соседними столиками, и как они разговаривают. И Ломов молчит тоже. Он катает по скатерти шарики, сталкивает их друг с другом, и у него очень сосредоточенное лицо.
– Тебе весело, Аська? – спрашивает Валя.
– Весело, но надоело, – отвечаю я и ищу на стульях свой шерстяной шарф.
– Ты что – уходишь?
– Ухожу.
– И его берешь с собой?
– Кого? – Я оглядываюсь. Валя молча кивает на Юру. Юра снисходительно улыбается и смотрит на Валю. – Я его не беру. Но, кажется, он идет сам. А где твой муж?
– Там. – Валя делает рукой в воздухе что-то непонятное, но мне все равно, где ее муж. Я вдруг становлюсь злой.
– Где мой шарф?
– Вот он. Так ты уходишь?
…Каким может быть воздух? Он может быть как вода, и им можно, как водой, захлебнуться! И он может набиваться в рот, в гортань, как самая настоящая, чистая, родниковая, холодная вода!.. И небо может быть совершенно зеленым. И деревья – синими. И площадь может лежать у твоих ног, тихая, укрощенная, без машин и пешеходов.
– Куда?
– А, все равно!
– Пешком?
– Пешком.
– Там развели мосты.
– Мы подождем.
…Как можно попасть на Васильевский остров? Можно прямо через Дворцовый мост, а можно идти и идти долго-долго по набережной, мимо Смольного, через мост и снова по набережной. И по улицам, каким – сама не знаю. Все идти и идти. И будет небо из зеленого делаться голубым, и будет луна уходить все дальше и дальше, и постелется над тротуаром седая кудель, а ты все будешь ходить и ходить…
Но все равно ты придешь к себе домой.
– Можно я поцелую тебя?
– Можно.
– Еще можно?
– Да.
– Идет дворник.
– Все равно.
А дворник: «Уу… бесстыжие» – и бренчит ключами.
21
Я просыпаюсь утром рано. Так рано я не просыпалась никогда. Как будто кто-то легонько толкнул меня спящую и скрылся бесшумно. Или, может быть, это была мысль? Но какая? Это, наверное, была добрая мысль, потому что мне хорошо и приятно, и я лежу тихо, не двигаясь, боясь спугнуть эту мысль. Я не открываю глаза и не знаю, который час, но по тишине, глубокой и полной, я понимаю, что очень рано. Внезапно я скидываю одеяло и сажусь в постели, потому что сразу мне становится жарко. Я провожу рукою по щеке. Все хорошее и приятное, что случилось со мною, – это Юрка. И та мысль, от которой я проснулась, – это тоже Юрка. Мы шли с ним пешком через весь город и он целовал меня прямо на улице. Он брал теплыми руками мои замерзшие щеки, поднимал мое лицо и целовал меня в лоб, в глаза, в губы. Я вспоминаю об этом с тоской и надеждой на то, что это когда-нибудь повторится. Мне очень хочется, чтобы это повторилось. Я долго еще лежу, ни о чем не думаю и задаю себе один и тот же вопрос: «Неужели я влюбилась?»
Я иду в «Интурист» самой короткой дорогой. Около университета – кустарник, мелкий и коротко остриженный. Почки лопнули и выкинули клейкий, завитый спиралью лист. Он упругий и, когда его трогаешь руками, не гнется, а тычется своим колючим хвостиком прямо в ладонь.
У гостиницы меня обгоняет Зойка: «Опаздываем!»– кричит она и бежит, высоко поднимая ноги.
Все переводчики сегодня сердитые, невыспавшиеся. Изредка заходит Гоша, намечает себе жертву и посылает жертву на экскурсию с русским языком. Сегодня сплошь идет русский язык: в заезде или русские эмигранты, или экзотические туристы со своими переводчиками.
Неожиданно Гоша собирает нас на совещание. Собственно, собирать нас не надо – мы и так собраны в одной комнате, но Гоша все равно шепчется с кем-то, суетится, приходит и уходит. Видно, кто-то взгрел Гошу за отсутствие воспитательной работы – воспитательная работа очень почитается у нас в «Интуристе». Наконец все готово, каждый сидит на своем месте, а Гоша сидит на месте председателя и поглаживает себя по голове. Он говорит, что только что вскрылся ужасный, чудовищный факт нарушения общепринятой этики. Я беру промокашку, пишу на ней: «Факт нарушения!» – и подвигаю Вале. Валя пишет ниже: «Общепринятая этика?» – и подвигает промокашку мне. Гоша говорит. Каждое слово, произнесенное перед нами, взвинчивает его больше и больше, и вот уже Гоша гремит на всю комнату. Мы слушаем затаив дыхание, мы жаждем узнать наконец, кто нарушил общепринятую этику и как он это сделал. Не тут-то было! Гоша говорит о достоинстве советского человека, о достоинстве нашей организации и, наконец, о женском достоинстве. Мы умираем от любопытства. Наконец кто-то не выдерживает и спрашивает: «Ну и что же?» Гоша замирает, в воздухе еще звенит оборванная им фраза. Гоша морщит лоб, он силится понять, отчего вдруг он перестал говорить.








