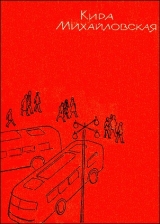
Текст книги "Переводчица из «Интуриста»"
Автор книги: Кира Михайловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
– Это не опасно, доктор?
– Нет, ничего угрожающего нет. Это должно пройти от укола. Если повторится, вызовите меня еще раз…
Врач уезжает. Горничная уходит. Я тушу люстру. И мы остаемся с Аарне вдвоем в комнате.
– Ты иди, Ася, спи. А я посижу здесь, – говорит Аарне. Он говорит мне «ты», но меня это не обижает.
– Нет, я посижу тоже. Вдруг еще…
Асикайнен лежит спокойно. Он, кажется, спит. Я устраиваюсь в глубоком кресле и кладу голову на мягкую спинку. Закрываю глаза. Каплет вода в умывальнике: тин-тон, тин-тон…
Просыпаюсь, сама не знаю отчего. Сижу минуту неподвижно. Слушаю. Прошел дождь. Это слышно по тому, как шелестят мягко шины об асфальт. И одинокие капли ударяют в стекло: тин-тон. А может, это вода, в умывальнике? Асикайнен дышит тихо. Так тихо, что я подымаюсь, подхожу к кровати, прислушиваюсь: дышит, спит! Аарне тоже спит в кресле у окна. Я сажусь в кресло. Где-то далеко бьют часы. Скоро утро…
8
Итак, сегодня целый день – на выставке. Обедать будем там же, в ресторане «Золотой колос». Жаль, что Асикайнен не может поехать с нами. Он чувствует себя лучше и даже сказал мне утром, улыбаясь:
– Вот теперь вы поедете на экскурсию без меня. Жаль…
– Что вы, господин Асикайнен…
– Не господин – товарищ.
– Прекрасно – товарищ! Вы выздоровеете, и мы поедем с вами на выставку вдвоем. Хорошо?
Асикайнен поворачивает к Аарне бледное лицо:
– Разве плохо? Как ты думаешь, Аарне?
Аарне морщит нос, растягивает губы и приставляет себе пару рожек. Получается чертик. Чертик шевелит рожками и говорит тонким голосом:
– Это прекрасно. Это великолепно. Будь здоров, дружище.
Мы все смеемся. Я машу Асикайнену рукой: поправляйтесь, товарищ!
Итак, мы едем на выставку. Почти все уже собрались в автобусе. И, как всегда, около автобуса – толпа наших советских людей. Жмут руки, улыбаются, обмениваются значками. Кто-то трогает меня за руку. Выглядываю из окна. На тротуаре стоит молодой парень и протягивает мне значок. Я удивленно смотрю на него: что ему нужно?
– На память, – говорит парень. – Возьмите на память о Москве.
Я смеюсь: парень принял меня за туристку. Я молча отстегиваю значок со своего пальто и протягиваю парню.
– Дружба, – говорит парень.
– Дружба, – повторяю я за ним. И прибавляю по-фински: – Рауха – мир!
– Откуда? Из какого города? – спрашивает парень. – Город какой? Хельсинки? Турку?
Я качаю головой:
– Лахти.
Парень стучит пальцем себе в грудь:
– А я – Ленинград. Слышали: Ленинград? На Неве город.
Я не выдерживаю больше:
– Я тоже Ленинград. Тоже город на Неве!
Я смеюсь над парнем. А он растерянно смотрит на меня. Автобус трогается. Медленно рассекая толпу пешеходов, автобус минует шумный перекресток. Я выглядываю из окна. Парень стоит на тротуаре и озадаченно смотрит нам вслед. Я машу ему рукой.
9
В ресторане «Золотой колос» я сажусь за один стол с Микколайненом и его сыном. Сыну, наверное, лет двадцать. У него бледное, несколько отечное лицо и странный, неприятный взгляд прищуренных глаз. Он смотрит всегда очень пристально, и от этого с его лица не сходит выражение крайней напряженности и не разглаживаются морщины между бровями. Он почти ничего не видит. Я знаю историю его болезни, потому что сама ездила с ним и его отцом в институт, а потом на оптическую фабрику, где ему заказали специальные цилиндрические очки. Тогда господин Микколайнен был молчалив и говорил только о здоровье сына.
Он и сейчас молчит. Подвигает сыну тарелку и кладет с ним рядом кусок хлеба. Потом он поднимает на меня глаза.
– Как вам понравилась выставка, господин Микколайнен? – спрашиваю я.
– Выставка – это чудесно. И сегодня такой хороший день – настоящая весна. Вы знаете, вот мы живем в маленьком городке, никуда не выезжаем, мы с женой целыми днями работаем, а по вечерам ходим к нашим родителям – они уже очень старые – пить кофе. И вот для нас очутиться вдруг здесь – это… как бы вам сказать… это переживание. Когда я смотрю на все это, я думаю: неужели и здесь, на этой земле, существуют несчастья? Кушай, Лео, кушай. Хлеб я положил тебе справа. Так вот, я спрашиваю: неужели и здесь существуют несчастья? Вы знаете, мы с женой были счастливы. У нас свой маленький домик – сейчас я покажу вам его фотографию, мы строили его сами, а землю нам подарили родители на свадьбу, – сейчас я вам покажу его. Нет, куда-то положил, не найду. Свой дом, работа – что еще нужно человеку для счастья? Право, – он усмехнулся, – грех было обижаться. И мы были счастливы. И когда родился мальчик, мы тоже были счастливы. У нас были кое-какие деньги, и мы могли воспитать сына. Мы назвали мальчика Лео. Вы знаете, Лео не финское имя, и многим не нравилось, что мы называем его так, но моя жена так была счастлива, а имя Лео – такое красивое имя, что мы назвали его Лео. Я копил деньги, чтобы приобрести мастерскую, и наконец купил ее, маленькую мастерскую по изготовлению картонных ящиков и коробок. Мастерская такая маленькая, что я работал в ней один, да и много ли коробок и ящиков нужно такому маленькому городу, как наш? Но я мечтал, что со временем мой сын Лео войдет в дело и мы расширимся. Ведь мы могли бы продавать коробки и в другие города – я работаю хорошо, и на мои коробки еще никто не жаловался. И я мечтал о том времени, когда Лео вырастет. Но он рос слепым. Вернее, почти слепым. Сначала он видел что-то, а годам к восьми ослеп. Нет, Лео, второе еще не подали, а это пустая тарелка.
Вы сами понимаете, как может слепой человек помочь мне в моей работе. Ведь Лео нисколько нельзя напрягать зрение. Ведь ему нельзя было даже учиться.
– Да, мне нельзя учиться, – неожиданно произнес Лео, и на лице его обострилось выражение напряженности. Он начал шарить рукой по столу, пристально вглядываясь в белую скатерть.
– Тебе что, Лео? – спросил отец. – Тебе нож?
Лео молчал, продолжая двигать рукой.
– Вилку? Хлеб?
– Нет, ничего. Я просто так. – И Лео сцепил пальцы обеих рук так, что они хрустнули.
Я украдкой взглянула на Микколайнена и сказала, наклонившись к нему, шепотом:
– Он волнуется. Быть может, его волнует ваш рассказ?
– Нет, – громко ответил Микколайнен. – Он привык, он ведь все это знает очень хорошо. Ему уже безразлично, когда при нем говорят об этом.
– Да, мне безразлично, – согласился Лео и повернул лицо к окну, навстречу солнечному свету.
– Так вот. Сын наш оказался слепым, – продолжал Микколайнен. – Я бы мог лечить его. Я сначала так и делал. Я уже не мечтал о расширении своей мастерской. Я работал дни и ночи, чтобы заработать на врача, и Лео был у лучших врачей Финляндии. И не только Финляндии. Мы ездили в Швецию, ты помнишь, Лео, доктора Кирстенсена? Очень приятный был доктор. Уже немолодой. Он сказал мне: «Не тратьте денег! Ваш сын никогда не будет видеть!» Но он же посоветовал тогда поехать в Америку и заказать там особые цилиндрические очки-бинокль. «Только в Америке сможете заказать их», – сказал доктор. А откуда у меня средства, чтобы ехать в Америку? Да и очки там такие дорогие, что мне пришлось бы продать всю мою мастерскую, чтобы окупить их. Разве мог я пойти на это? И вот однажды в журнале «Финляндия – Советский Союз» я читаю о том, что в Советском Союзе пытаются лечить врожденную слепоту и делают вот эти самые очки. Мы обрадовались с женой. Мы попросили Аарне написать в Советский Союз письмо и узнать, точно ли изготовляются там такие очки. И что вы думаете, мы получили ответ! Мы собрались в дорогу, но даже сейчас я еще не верю, что эти очки у Лео будут. И он будет видеть. Как вы думаете, они сделают их, раз обещали?
– Конечно, сделают! Непременно! Ведь у вас в руках даже есть квитанция, а это почти что очки.
– Да, квитанция. – Микколайнен полез в карман и достал из бумажника длинную розовую квитанцию. – Здесь, наверное, все написано – и какие очки, и сколько стоят. Подумать только, такие очки за тридцать рублей. Тридцать рублей – это разве цена для таких очков! А лекарство для Лео, как его называют? Лео, как называют это лекарство? Подумайте только, оно стоило пятнадцать копеек за бутылочку. Пятнадцать копеек, разве это цена за лекарство, да еще за лекарство для глаз! – Микколайнен покачал головой. – А вы спрашиваете, как мне понравилась выставка!
..
10
Вечер приходит на выставку. Я устала. У меня кружится голова от бесконечного мелькания зданий, фонтанов, киосков. Выставка ведет вокруг нас пестрый хоровод: купол, островерхая крыша, тонкая колонна с капителью, деревянная резная дверь, стеклянный куб, оштукатуренная стена, керамическая плитка – стоп! – нет, карусель не остановится до самой ночи – дверь высокая, рассчитанная на гигантов, и крошечное, узкое отверстие, в которое впору протиснуться лишь одному, окна, стеклянными дорогами бегущие вокруг здания, и высокие оконца, как в теремах… Мы входим, выходим. Снова входим. Снова выходим. Входим…
– Из этой древесины хороши не только дома. Из нее делают лыжи, лодки, весла. Таким веслом грести легко и удобно… – Грести – по-фински «соуделла», я оговариваюсь: «сууделла», получается «целовать». Все смеются и повторяют: «Целовать легко и удобно». Я не смеюсь. Я устала.
На улице прохладно. Достаю вязаную шапку, надеваю на голову. «Целовать легко и удобно», – пищит кто-то у меня за спиной. Я оборачиваюсь. Шевелятся рожки, и косые глаза смотрят весело.
– Ах, Аарне! Какой ты смешной! И какой ты добрый! Тебе надо было быть артистом, Аарне.
– Артистом? Что ты, Ася! Какой из меня артист! Лучше я останусь работать в обществе «Финляндия – Советский Союз». Ты не возражаешь?
– Нет, не возражаю.
Да и разве могу я возражать? Добрый, сильный Аарне, наш настоящий друг! Это он единым прыжком вскакивает в автобус, распахнув пальто, усаживается на первое сиденье, берет в руки микрофон, и сразу веселеют лица туристов. Это он ведет веселые и остроумные репортажи о наших поездках. И кто же другой запевает в автобусе то медленные, то быстрые песни? «Все мы, люди, – поросята, поросята, поросята… Ты и я, ты и я…» Porsaita äidin omme kaikki, omme kaikki…
Я тоже пою, хотя и очень устала. Я не могу не петь, когда, широко растягивая рот, поет Орава. И поет ее сестра. И даже Лео как будто веселеет и покачивает головой в такт песне. Я не могу не петь. Я вытаскиваю из сумки замусоленные бумажки, на которых Аарне дорогою или за обедом записывал мне слова песен, и, вглядываясь в неровные, прыгающие буквы, пою вместе со всеми.
За окном бежит Москва. Шумная, гостеприимная. Нас обгоняют легковые машины, а мы обгоняем переполненные автобусы. Светофоры разноцветно подмигивают нам. Пешеходы расступаются, пропуская нас. Белые шапки фонарей несутся вдогонку за нами. Мы поем, и люди останавливаются и смотрят вслед нашему автобусу. Некоторые машут руками и улыбаются. И мы тоже улыбаемся и машем руками. Автобус замедляет ход. Стоп! Приехали!
11
Я сначала не узнала его и, только когда он заговорил о значке, вспомнила – да ведь это тот парень! Тот самый, который протянул мне значок в окошко автобуса, тот, что из Ленинграда, – подумать только! – он разыскал меня в гостинице и пришел ко мне в номер. Он стоял в дверях, и я сказала ему: заходите. Что еще я могла сказать человеку, который стоит на пороге моей комнаты?
– Вы что же, только из-за значка сюда и пришли? – спрашиваю я с сомнением.
– Да, из-за значка, – простодушно отвечает парень. – Я не люблю, когда меня обманывают. Давайте значок обратно.
– Вот ваш значок. – Я шарю рукой по шелковому дну сумки. Я заглядываю внутрь. Значка нет. Я могла обронить его, он мог затеряться в бумагах – ведь это такая мелочь. Я досадую на себя за то, что не могу отдать значок этому спокойному, крепкому парню, который с любопытством и ожиданием смотрит на меня.
– Нет вашего значка, – наконец говорю я. – Не знаю, куда делся. Вот вам другой. Даже лучше. – Я отстегиваю с лацкана своего пальто яркий маленький значок, подаренный мне туристами. Я уверена, что он не возьмет, скажет: что вы, не надо, но он берет значок, рассматривает его, склонив набок голову, и говорит:
– Ладно.
– Вам что-нибудь еще нужно? – спрашиваю я.
– Нет, – говорит он и не двигается с места. – Вы всегда с туристами работаете? Это ваша профессия?
– Да, – коротко отвечаю я.
– А что вы сердитесь? – спрашивает вдруг парень, и брови на его белом лице простодушно складываются треугольником.
– Я не сержусь… Я тороплюсь. Мне идти надо.
– Куда?
А ему-то какое дело?
– Мне надо на ужин, в ресторан.
– Вы что же, и обедаете с туристами, и завтракаете с ними?
Какие дурацкие вопросы! Ну, обедаю с ними…
– Да, – отвечаю я, вместо того чтобы сказать что-нибудь злое и остроумное.
И тогда парень поднимается. Он улыбается широко и доверчиво смотрит мне в лицо. Я почему-то смущаюсь.
– Не буду мешать вам, – говорит парень. – Зайду позже, – и снова улыбается.
Дверь закрывается за ним. Я остаюсь одна. Мне становится почему-то тревожно.
12
Поздно вечером он снова приходит ко мне. Тогда ни с того ни с сего тревога моя исчезает. Я становлюсь спокойной. Величественно смотрю на парня, величественно опускаюсь на стул, величественно поворачиваю голову. А он не замечает. Рассказывает о московской премьере, иронизирует, посмеивается. Наконец мне это надоедает.
– Ну а все-таки, для чего вы пришли сюда? – прерываю я его.
– Для чего? – Парень смотрит на меня удивленно.
– Да, для чего?
– Я не знаю, для чего. Не знаю. Захотел увидеть – и пришел.
Вот здорово! Значит, это можно так просто. Захотел увидеть – и пришел…
И действительно. Что особенного в том, что одному человеку захотелось встретиться и поговорить с другим человеком?
Я говорю парню:
– Как вас зовут?
Оказывается, зовут его Юрий. Оказывается, он студент и в этом году заканчивает институт. Он будет архитектором. В Москве он в командировке и скоро уезжает в Ленинград.
– Подумайте, – говорит мне Юрий внезапно, без всякой связи с нашим разговором. – В Ленинграде живет три миллиона человек. Представляете, три миллиона! Да мы никогда не встретились бы с вами, не зайди я к вам сегодня, сейчас. А вы спрашиваете, для чего?
Пытаюсь представить: три миллиона человек, шесть Дворцовых площадей во время демонстрации, десять стадионов во время состязаний – столпотворение. Нет, ни за что не встретились бы!
– Хотите чаю?
– Какой там чай! Идемте на улицу!
– Поздно.
– Нисколько!
Я надеваю плащ и, уже когда повертываю ключ в замке, вдруг сомневаюсь: а может, не стоит? Уличное знакомство. А, ерунда!
Я и раньше нравилась некоторым ребятам. Правда, все они были какие-то недотепы. Еще в школе я дружила с мальчишкой из нашего класса. Он был отличник. Очень высокий. Все ребята в нашем классе звали его Гусь. Не знаю, за что. Меня это обижало, а он не обращал на это никакого внимания. Очень здорово он знал математику и всегда давал мне списывать. Когда мы оставались вдвоем, всегда получалось так, что я говорила, а он слушал – он был молчаливый человек. Он учил меня кататься на коньках, но так и не выучил. Я все время падала. Мы перестали встречаться, когда кончили школу.
В университете я встретила Вадима. Он был старше меня на два курса, и познакомились мы с ним на картошке. Он любил улыбаться. Даже когда мы ссорились, он и тогда улыбался. Я думала, что знаю о нем все, а он взял однажды и уехал куда-то в Казахстан. Не сказал ничего, не попрощался… Потом из Казахстана он прислал мне письмо и стихи. Начало стихов я не помню, а кончались они так:
И вот настал счастливый день,
Цветешь, под сень маня…
Увы, неверная сирень
Цветет не для меня…
Стихи мне понравились. Мне никто раньше не писал стихов. Из них и из письма я поняла, что Вадим был влюблен в меня. Ответить ему я не могла. На конверте не было обратного адреса.
Были и еще ребята, которым я нравилась. Но никогда я так не радовалась этому, как сейчас. Может быть, потому, что все удивительно совпало в этот день: моя успешная работа, хорошее настроение, хороший вечер и то, что сейчас рядом со мною шагает Юрий.
Женщина в платке, низко сдвинутом на лоб, протягивает нам первые цветы:
– Молодой человек, фиалки, первые фиалки…
Я тяну Юрия за рукав, но он уже останавливается, берет три букетика и складывает их вместе. Потом лезет за деньгами в карман и пересчитывает мелочь на своей ладони. В другом кармане денег нет вовсе. Мы стоим уже несколько минут около женщины, и люди обходят нас. Мне почему-то стыдно, что у Юрия нет денег, и я краснею. Но ему не стыдно. Он отделяет один маленький букетик и сует его вместе с мелочью женщине. Два других отдает мне. Я не знаю, что сказать, не знаю, что принято делать в таких случаях. С другими было просто, и я даже не помню, что говорила. С другими и цветы было покупать не стыдно. Можно было даже купить пополам. Здесь – нельзя. Не знаю почему.
К женщине с цветами подходят двое ребят с красными повязками на рукаве. Мы уходим, и Юрий говорит мне:
– Дружинники. Вот чего я не понимаю! Почему студенты, служащие, рабочие должны превращаться в милиционеров? Может быть, милиционеры на это время превращаются в колхозников и едут убирать урожай в близлежащие колхозы? Не лучше ли, если каждый будет делать свое дело: милиция – охранять порядок, студенты – учиться, а колхозники – работать на полях?
И правда! Как это разумно: каждый делает свое дело. Мне это и в голову никогда не приходило. Смотрела на дружинников и еще восхищалась: общественность на страже порядка.
Я смотрю на Юру исподтишка, сбоку. У него плохо выбритая темная щека, и мне это начинает нравиться: никакого пижонства. Человек не успел побриться, и это его не смущает. Он все равно идет по Москве и говорит о пустяках. Останавливается возле дерева. Эти деревья растут вдоль всей дороги, и на каждой ветке каждого дерева уже закипают туго спеленатые почки.
Юрка прыгает, задевает кончиками пальцев ветку, но не успевает заломить ее. Тогда он сбрасывает плащ:
– Держите!
Он разбегается и прыгает еще раз. В руке остается недлинный темный прутик. Он протягивает прутик мне.
– Зачем вы сорвали?
– А для чего тогда и растут деревья?
– Но если бы все так думали, то и деревья бы не росли.
– Не все так думают.
Мы прощаемся в дверях гостиницы. Юрий не задерживает мою руку в своей. Он коротко пожимает ее и улыбается:
– Встретимся в Ленинграде.
«Простите», – говорит кто-то на ломаном русском языке. «Позвольте пройти», – по-фински говорит Аарне.
Я пропускаю Аарне и киваю Юрию головой.
Я вхожу в гостиницу.
– Минутошку.
Аарне задержался у столика портье и догоняет меня на лестнице. Он шагает через две ступеньки, подавшись вперед коренастым телом.
– Как дела, Ася?
– Хорошо. Что слышно?
– Все превосходно. Говорят, завтра будет хороший день.
13
Сегодня – хороший день. Правда, дождь льет с утра. Моет мостовые, памятники, дома. Ну и пусть льет! Все равно сегодня – прекрасный день.
Сегодня встал Асикайнен. Он вышел к завтраку, и мы все шумно приветствовали его дружным: эхей! Он улыбался, был, по-моему, очень рад, а проходя мимо меня, положил на плечо мне руку и сказал тихо: «Спасибо, девочка». Я оглянулась, хотела спросить, за что это он благодарит меня, но он уже прошел на свое место.
Сегодня наконец мы получаем очки для Лео. Мы поехали на завод сразу после завтрака. И господин Микколайнен очень волновался в дороге, не потерял ли он квитанцию. Он беспрестанно вынимал ее, рассматривал и снова засовывал в бумажник.
– Так вы думаете, что они не подведут? – спрашивал он у меня.
– Ни в коем случае!
– Но ведь они могут ошибиться и сделать, предположим, не к сегодняшнему дню, а к завтрашнему. А завтра мы уже будем в Хельсинки. Как же быть?
– На наших заводах не ошибаются, – мужественно соврала я. – Если сказали, что сделают, значит, сделают.
Господин Микколайнен закивал головою. Он согласился со мною. Раз обещали, значит, сделают.
Нас провели в кабинет главного инженера завода и предложили подождать. Я уже сама начала волноваться: будут ли готовы очки и подойдут ли они Лео? В кабинет вошла молодая женщина и попросила квитанцию. Господин Микколайнен засуетился, полез в карман, достал оттуда бумажник и начал искать квитанцию. Её не было. Он вытряхнул содержимое бумажника на стол. Выпали железнодорожные билеты, удостоверения личности, финские деньги, несколько фотографий, аккуратно скрепленных у края. Он начал шарить в карманах. Руки у него, по-видимому, дрожали, так как он никак не мог попасть во внутренний карман и повторял растерянно:
– Куда же она запропастилась?
– Вы не волнуйтесь, господин Микколайнен. Вам и без квитанции выдадут, – пыталась я успокоить его.
– Как это без квитанции? Что значит без квитанции? Ведь она же у меня была, и вы сами ее видели. И Лео видел.
– Я не видел, – равнодушно сказал Лео.
– Ах, Лео, что ты говоришь? Ты же сам брал ее у меня там, в машине.
– Я брал, но не видел.
– Ах, Лео, не говори глупостей. Только не говори глупостей!
– Господин Микколайнен, вы, наверное, сунули квитанцию в карман пальто. Ведь вы были в пальто.
Микколайнен бросился к вешалке, пошарил в кармане пальто и достал оттуда квитанцию.
– Вот. Я же говорил вам, что она была. А вы говорили – «без квитанции».
Он сел, вытирая лоб носовым платком, а молодая женщина ушла. Мы остались ждать. Лео сидел, устремив напряженный взгляд в окно. А Микколайнен медленно и аккуратно складывал в бумажник все, что вытряхнул из него раньше: деньги, билеты, фотографии.
– Вот, я обещал показать вам наш дом. Вот, – он протянул мне небольшую любительскую фотографию.
На фотографии сияло солнце. И небольшой дом смотрел прямо в объектив двумя длинными окнами. Он так был важен, так исполнен чувства собственного достоинства – ну точь-в-точь человек, выбившийся наконец в люди. И была в нем необходимая для такого человека умиротворенность, если не самодовольство. Ни за что не скажешь, что за стенами этого дома живут сильные, глубокие чувства. Может, чувств и не было бы, не вторгнись сюда несчастье?..
Я возвращаю фотографию Микколайнену. Он прячет ее в бумажник. Устанавливается тягостная тишина, как будто вместе с бумажником во внутреннем кармане Микколайнена исчезли суета, хлопоты и волнения прошедших дней и не осталось ничего, кроме напряженного ожидания. Как будто вся прошлая суета и хлопоты, беготня по музеям и докторам, достопримечательностям и магазинам – все это имело только один смысл, было торопливой и мелочной подготовкой к тому, что произойдет сейчас. Длинное-длинное молчание.
В комнату входит женщина. У нее в руках небольшой ящик. Она открывает его и достает бинокль. Обыкновенный бинокль, вроде тех, какие мы берем с собою в театр. Только у этого бинокля с обеих сторон тонкие дужки. Женщина подходит к Лео. Тихо. Скрипнул стул. Это старый Микколайнен подался вперед всем телом, Женщина отдает Лео бинокль.
– Смотрите сюда. Меня видите?
Я перевела. Лео молчит. Микколайнен встал со стула, делает несколько шагов навстречу сыну. Останавливается, не дойдя до него.
– Видите меня? – повторяет женщина.
– Да, вижу, – наконец говорит Лео с таким трудом, будто к нему возвращается не зрение, а речь. – У вас на голове шапка… с козырьком.
– А это? – Женщина вынимает из кармана картонку с буквой «Ж». – Что это?
– Это забор.
– Какой забор? – спрашивает женщина.
– Какой забор? – спрашивает старый Микколайнен,
– Тот, что был у нас давно. У нас был такой деревянный забор.
– Да, да, он верно говорит. Был этот забор – был!
Микколайнен подходит к женщине, берет ее за руку, он говорит, заглядывая ей в глаза:
– Какая память у моего сына! Какая у него память!
Он говорит это все громче и громче, а женщина улыбается и гладит старого Микколайнена по плечу.
…Мы возвращаемся в гостиницу. Мы держим на коленях ящик. В ящике лежат очки. В этих очках Лео видит.
14
Чемоданы наши погружены на тележки, и носильщики уже покатили эти тележки по деревянной платформе. Мы идем позади тележек, позади носильщиков, натягиваем на головы капюшоны и раскрываем зонтики. Москва провожает нас дождем. Прежде чем сесть в поезд, надо получить талончик с номером места у Аарне и найти на тележке свой чемодан. Это делают все. Кроме меня. Я бегаю и считаю своих туристов. Это очень трудно, потому что туристы не стоят на месте, а входят в вагон, разгуливают по платформе, ищут свои чемоданы. И к тому же льет дождь, и высоко поднятые капюшоны плащей делают людей похожими один на другого. Я заглядываю им в лица и считаю: девятнадцать, двадцать, двадцать один… Какая-то взволнованная женщина подбегает ко мне: «Мой саквояж! Он был на этой тележке, а сейчас его здесь нет». Мы бежим к тележке, ищем, ничего не находим, бежим к следующей, ищем там, не находим снова, и только на третьей тележке из груды чемоданов туристка извлекает пестрый, заклеенный этикетками саквояж, успокаивается и входит в вагон. Я растерянно оглядываюсь: сбилась со счета. Вхожу в вагон и начинаю считать сначала: один, восемь, десять… Когда я выхожу на платформу, никого уже нет. Пустые тележки уехали куда-то, мой чемодан стоит одиноко посередине и по нему стучит дождь. Аарне ведет переговоры с проводником, считает железнодорожные билеты. Я заталкиваю свой чемодан в вагон и перебиваю Аарне:
– Послушай, одного человека не хватает.
– Как не хватает?
– А так. Нету, – я развожу руками.
Аарне отмахивается:
– Найдем. Погоди. – И снова начинает считать билеты.
Наконец билеты пересчитаны. Все вопросы выяснены, и я снова иду считать туристов, на этот раз с Аарне. В вагоне считать легко: двадцать восемь, двадцать девять… Одного не хватает! Я смотрю на Аарне. Он почесывает затылок, потом вскидывает голову, легко касается моего плеча ладонью и говорит по-русски: «Минутошку!» Он достает из кармана список, и начинается перекличка: Асикайнен, Аскиля, Бьернстед… Люди выходят из своих купе и, когда против их фамилии появляется птичка, уходят вновь. Когда Аарне доходит до фамилии Орава, никто не появляется в коридоре.
– Орава! – кричит еще раз Аарне. Снова молчание. Аарне вопросительно взглядывает на меня. Потом быстрым шагом он направляется в купе, где должна ехать Орава. Я иду за ним.
В купе, в самом углу, сидит Майя. Она повернулась спиной к двери и смотрит в окно.
– Эхей, – говорит Аарне, – привет! Где же твоя сестра?
Майя смотрит на нас, и лицо у нее совсем скучное.
– Не знаю, – отвечает она.
– Но где же ее чемодан?
– Вот. – Майя показывает рукой на верхнюю полку.
– Как же он попал сюда?
– Я принесла его.
– А где сестра?
– Не знаю.
– Но где ты видела ее в последний раз?
– Там, в зале. Там было много народу, а когда мы вышли на платформу, ее уже не было.
Конца разговора я не слышу. Я выскакиваю из вагона и бегу по платформе. Состав длинный, бежать приходится долго. В зале ожидания – толкотня. Я раздвигаю руками толпу людей, оглядываюсь и ищу, ищу эту сумасшедшую, эту ненормальную женщину. Иных слов я не могу для нее придумать! До отхода поезда остается пятнадцать минут. Двенадцать. Десять. Семь.
– Асья, Асья! Нэйти! Тулкки! Опас! – вдруг кричит кто-то на весь зал.
Любопытные останавливаются вокруг меня. Я знаю, что поезд уйдет через семь минут, и за эти семь минут нам с Орава надо успеть добежать до своего вагона. Я знаю это, хотя еще даже не вижу Орава, а только слышу голос, кричащий по-фински:
– Нэйти Асья!
И вот Орава рядом. Я хватаю ее за руку и устремляюсь к выходу, а она щебечет мне на ухо:
– Как хорошо, что вы понимаете по-фински, а то меня здесь никто не понимал.
Я тащу ее по платформе, дождь заливает мне лицо, течет за воротник. А Орава трещит без умолку:
– У вас совсем не знают финского языка, и объясниться совсем невозможно. Представляете, как я обрадовалась, когда увидела вас!
Вот наш вагон. Я впихиваю Орава, вскакиваю сама, проводник вытягивает из-за пояса желтый флажок. Поезд сдвигается с места и медленно ползет вдоль платформы. Отступают, отступают фонари. Дождь начинает косить. «Господи, все в порядке!» Я стягиваю с головы платок и глотаю дождь, сбегающий по лицу. Достаю носовой платок, вытираю волосы, лицо, шею. Кто-то кладет мне руку на плечо. Оборачиваюсь. Аарне.
– Молодец!
– Ну, ничего особенного, – бормочу я.
Я устала и иду прямо в свое купе. Раздеваюсь, привожу себя в порядок и слышу, как ругают мои туристы Орава и как она говорит громко и быстро:
– А что я могла сделать? Они все твердили мне, что они пионеры, а разве это красиво, если бы я отказала пионерам? Такие славные мальчики. Я им отдала все значки, какие у меня были, и две открытки – больше не было. Но зато смотрите, сколько я получила.
Наступает тишина. Никто больше не ругает Орава. Вероятно, все смотрят значки.
В сумерках пробегают за окном предместья Москвы. Дождь все еще льет, и капли катятся по стеклу, набегая снова и снова.
15
В Ленинграде тоже был дождь. Асфальтовая платформа потемнела, а в лужах плавают осколки серого ленинградского неба. Я стою на платформе около нашего вагона. Меня окружают мои туристы. Когда поезд тронется, туристы отправятся дальше, в Финляндию, а я останусь здесь, выйду на площадь, сяду в троллейбус и поеду домой. И больше, наверное, с этими людьми я никогда не встречусь. Оттого, что к этим людям я успела привязаться, а теперь мы прощаемся с ними совсем, то есть навсегда, – мне становится грустно. Им, наверное, тоже, потому что они стоят притихшие, и даже у нашего неутомимого Аарне сегодня совсем невеселое настроение. Я держу в руках чемодан, потом кто-то спохватывается и отбирает его у меня. Мы говорим о вещах незначительных и произносим стертые слова прощания:
– Приезжайте к нам в Хельсинки. Непременно.
– А вы приезжайте еще раз к нам.
И вдруг Аарне предлагает: «Споем что-нибудь!» – и первый затягивает песню. Несколько голосов подхватывают ее.
Она звучит нестройно и тихо. Я эту песню уже слышала и тоже пытаюсь подпевать: «Kotimaani ompi Suomi, Suomi armas synnyinmaa». – «Суоми – мое отечество. Суоми – милая родина».
Что-то печальное есть в этой песне, в словах и мотиве, какое-то щемящее чувство, не то тоска по прошлому, не то предчувствие близкой беды. Ее и создал, наверное, человек, жизнь которого была не очень-то устроена и не слишком богата радостями. Суоми – мое отечество. Суоми – милая родина…
Поют туристы песню, как будто вяжут сеть – петелька за петельку, узор за узор. Останавливаются люди, бегущие мимо, но ненадолго, подхватывают чемоданы и бегут дальше – некогда. Стрелка на больших вокзальных часах вздрагивает и ползет вверх. А длинная песня приходит к концу. Я протягиваю руку за своим чемоданом и показываю на часы. Вагон начинает заполняться людьми. Платформа пустеет. Из окон мне машут, кричат что-то, а рядом со мною стоит только Аарне. Он говорит мне о встрече в Хельсинки и о том, что он еще непременно приедет сюда. Но я уже плохо понимаю его. Я подталкиваю его к вагону, и вот он на подножке, улыбается мне, поднимает приветственно руку.








