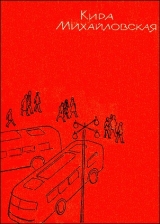
Текст книги "Переводчица из «Интуриста»"
Автор книги: Кира Михайловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 10 страниц)
Пока Анатолий Павлович препирается со своей женой и пока она, ворча, достает из корзинки еще одну бутылку, мы присаживаемся к чемодану, поставленному торцом посреди купе. На таком чемодане Анатолию Павловичу больше нравится есть, чем на столике у окна.
– Молодость напоминает. Всякий чемодан, как бы его ни поставили, напоминает мне молодость. Помнишь, мама? И ели на чемодане, и пили на чемодане, и спали, подложив под голову чемодан. А, мама? Кровать-то купили, когда уже девчонки родились. И ничего! Все было ничего! Все было ладно. А помнишь, мама, как я рубль поймал? – И Анатолий Павлович начинает смеяться, густо, весело, так, что все его тело содрогается и подпрыгивает от смеха, и мы, глядя на него, тоже начинаем смеяться, хотя и не знаем этой истории, как Анатолий Павлович поймал рубль.
– А, мама? Помнишь? У нас тогда денег не было. Ты еще последний четвертак извела на мыло. Чистюля была. Белоручка! И вот – ни гроша. Хочешь, живи, хочешь, умирай – твое дело. Нет денег. Я – в порт. Там иногда студентам работенку давали, поднести что или погрузить на корабль. И платили неплохо. Помнишь, мама, Евдохова? Евдоху? У-у. Крепкий был мужик. И обязательный. Но на этот раз и он отказал. Иду я из порта, настроение-то того, сами понимаете, какое может быть настроение. И вдруг смотрю: рубль. Смотрю, глазам не верю: на улице ветерок, а на ветерке плывет, качается рубль. Я его – цап! Разглядываю на свет, нюхаю, нет ли какого подвоха. Нет, рубль настоящий. Ну, я его, понятно, в карман и вот ей притащил. Ты налей мне, мама. И вы, молодежь, тоже пейте. Пейте и на ус мотайте. Не в деньгах дело! Правда ведь, мама?
Мы едим, слушаем Анатолия Павловича, а он говорит без конца, и все истории рассказывает только из своей жизни. Потом он устает, рассказы его становятся короче. «Мама», которая выходила в коридор, приносит удивительную новость: в нашем вагоне, через два купе от нас, едет очень ответственный работник. Сейчас он стоит в коридоре и смотрит в окно, и все могут его там видеть. «Мама» узнала его сразу, как только увидела, – так он похож на свои газетные фотографии. Мы все удивляемся, зачем такому ответственному работнику ехать в обыкновенном поезде да еще в жестком вагоне. Ответственный работник в его настоящем виде не интересует Юрку. Он говорит: «Хотел бы я посмотреть на него лет тридцать тому назад». Я выхожу в коридор и вижу, что там никого нет, только в самом конце стоит человек и смотрит в окно. Я подхожу ближе. Человек коротко острижен, а на голове наивно топорщится седой ежик. Когда я возвращаюсь в купе, все лежат на своих полках. Тихо. Я поднимаюсь на цыпочки, заглядываю к Юрке:
– Спишь?
Юрка кивает головой. Я тоже укладываюсь спать.
Стучат колеса. Мы едем.
82
По утрам пляж расцветал зонтиками. Их продавали на набережной, как мороженое. Все осеняли себя зонтиками. Кроме нас. Зато у нас была соломенная шляпа. И это было не хуже, чем зонтик. Шляпа оставляла открытыми тело и плечи, и солнце жарило их сколько хотело, и ветер обдувал с утра до вечера.
Здесь, на пляже, Юрка перестал быть только лицом и шеей, торчащей из воротничка. Оказалось, что у него есть круглые плечи, мускулистая грудь и высокие сухощавые ноги.
Я любила смотреть на его тело. Оно помогало мне лучше и полнее понимать Юрку. В ногах, сплетенных из сухожилий, была тайна Юркиной подвижности и стремительности. Они опирались на широкую, не по росту большую ступню, но зато как устойчиво стоял на земле Юрка! Мускулистая грудь – это свободное и большое дыхание… Я попыталась как-то подумать о том, что это тело не вечно, что оно состарится, одряхлеет, – и не смогла. Наверное, есть вещи, которых мы не поймем и с которыми не примиримся.
Никогда я не любила Юрку так сильно, как здесь, на юге. И не из-за природы. А потому, что здесь Юрка зажил жизнью, которую всегда осуждал. Оказалось, что он прекрасно плавает и неплохо играет в шахматы, что у него отличная память на стихи. Прочтя один только раз четверостишие, он может через два часа повторить его наизусть. Он научился распознавать сорта роз и удивлял продавщиц цветов тем, что говорил: «Не давайте мне роза цинамома, дайте лучше роза канина». Все это – и шахматы, и розы, и стихи – было «ненужно, нерационально». На это уходило время, которое в Ленинграде Юрка отдал бы своим проектам, чтению журнала «Архитектур ожурдюи» и борьбе с шефом. Но он как будто забыл обо всем на свете. У него обнаружилось много талантов, маленьких, неприменимых в жизни, непрактичных, вроде таланта составления букетов. Он часто шутил, прикидывался предсказателем изменений в природе и однажды удивил всех. Он посмотрел на чистое небо, на море, притихшее до горизонта, и сказал: «Будет дождь». Над ним посмеялись, а дождь все-таки полил.
Мы стояли под навесом, а дождь все шел и шел. Я сняла туфли, сунула их в сумку, Юрка закатал штаны, и мы побежали.
Мой дом был ближе к пляжу, чем Юркин, и, промокшие до нитки, мы прибежали ко мне. Пока мы сушились, дождь как будто начал стихать, шум за окном перешел в тихий шелест. Прошло полчаса, час, а он все не проходил и, казалось, не пройдет никогда. Он нарочно загнал нас под одну крышу и отгородил от всего света, чтобы мы острее почувствовали нашу близость. Дождь будил чувство неприкаянности, желание уюта. Я согрела на кухне чай и медлила идти в комнату. Смотрела в окно, за ним раскачивались мокрые кисти винограда. Юрка крикнул:
– Ася, куда ты делась?
Я взяла стакан чаю и вошла в комнату.
Мир сужался. Сначала он был пляжем, и морем, и чистым небом, глядя на которое Юрка сказал: будет дождь. Потом – навесом и дорогой к моему дому. Потом – домом с кухней и окном во двор. Потом – стаканом чая и звенящей ложкой. И наконец, Юркиным лицом, грудью и горячими руками. Мир стал тесным и жарким, я в нем задыхалась. Я вырвалась. Шагнула, как пьяная, к двери и остановилась.
– Аська, – позвал Юрка. – Аська…
Во дворе пахло зеленью. Дождь прошел, все блестело. От калитки уходила дорога. Она вела к навесу, а от него – к пляжу и морю. Я пошла по ней. На пляже никого не было. Я разделась и, не пробуя воду, быстро вошла в нее.
Когда я вернулась домой, Юрки не было. На столе стоял недопитый стакан холодного чая.
На другой день рано утром Юрка зашел за мной. Он кинул камешек в окно и крикнул:
– Аська, ты готова?
– Иду, – ответила я. Пригладила волосы и вышла навстречу Юрке.
У самой воды был воткнут в песок большой белый зонт. Под зонтом стоял молодой человек в темных очках и накладывал краски на кусок холста. Я подошла поближе. Мне было интересно, как он рисует в темных очках. На холсте были набросаны в беспорядке краски, и я решила, что это только подготовка. Хотела отойти, но он меня окликнул: «Постойте, одну минутку. Я хочу… (Он отложил палитру и вытер руки о штаны.)…Я хочу набросать… Где-то был карандаш… (Он начал искать карандаш и бумагу.)…Вот он. Я хочу вас набросать, это интересно, одну минутку».
Меня никогда не рисовали художники. А этот, судя по зонтику, был настоящим художником. Мне льстило, что именно меня он выбрал среди всех. Мне хотелось посмотреть, видит ли Юрка, как меня рисует художник, но неудобно было вертеть головой: ведь карандаш так и ходил по бумаге, быстро-быстро нанося какие-то линии. Через несколько минут художник отставил руку с рисунком, прищурил один глаз, пробормотал: «Любопытно, очень любопытно». И показал рисунок мне.
На ватмане была нарисована коротконогая женщина, с круглыми ягодицами и любовно прочерченной грудью. Я с изумлением смотрела на эту женщину.
– А вы хотите фотографию? – сказал вдруг художник. – Вон там, видите? Фотограф. В черных штанах, с папкой на боку. Он снимет вас и в фас, и в профиль, и даже, если захотите, выходящей из пены морской. И обрежет края фестончиками. А это, детка, не фотография.
«Абстракционист несчастный», – чуть не сказала я, но сдержалась. Хотелось выругаться каким-нибудь недопустимым, невиданным доселе образом.
– Абырпуркарбибно! – сказала я.
– Что? – переспросил художник. Он, ко всему прочему, воспринимал все всерьез. Это было уже неинтересно.
Я посмотрела на белый зонт, повернулась и ушла.
– Ты не волнуешься, что меня нет так долго? – спросила я Юрку.
Юрка лежал у моих ног и молчал. Я села рядом с ним на гальку и попробовала вытянуть из-под него кусочек полотенца. Юрка не двигался.
– Я тоже хочу на полотенце, – сказала я.
Юрка встал, встряхнулся, приложил ладонь козырьком ко лбу и сказал, глядя на пляж:
– Столько людей – и все за одним и тем же бессмысленным занятием! Ты не думаешь, что нам уже пора?
– Что «пора»? – спросила я, растягиваясь на полотенце.
– Пора в Ленинград.
Я молчала. Как это – в Ленинград? Ведь здесь так хорошо, и мы так счастливы здесь! И еще есть время. Зачем в Ленинград?
– Ну сколько можно лежать спиной вверх?
– Почему только лежать?
– А какая другая перспектива открывается перед нами? Что у нас впереди?
Я встала.
Впереди было море – море до самого горизонта, и там, на краю, на самой его морской поверхности, плавали три облака, три снежных царства, три айсберга.
…Так кончилась моя счастливая жизнь. Юрка очнулся. Он вспомнил вдруг, что сунул какой-то важный чертеж в нижний ящик стола, стол запер, а ключи увез с собой. Он вспомнил, что на следующую неделю назначено заседание кафедры и шеф наверняка выступит против Юрки.
– Ну, может, и не выступит, – уговаривала я. – Может, он уехал отдыхать, ведь он тоже устал.
– Ничего он не устал. Ему важно дать бой в моем отсутствии. Это слаще всякого отдыха. Да, наконец, и ты, – неужели тебя не волнует твоя работа?
– Но ведь меня отпустили. Нехорошо, конечно, что в такое горячее время… Но я отработаю, я буду втрое больше работать, чем все.
– А какие у вас в «Интуристе» перспективы?
– Какие перспективы? – переспросила я.
– Ну, роста, скажем?
– Очень большие. У нас библиотека. Можно читать, совершенствоваться – это приветствуют.
– Ну а движение?
– Какое движение?
– Да что с тобой, Аська? Что ты, как маленькая? Какое движение, какие перспективы? Так всю жизнь и будешь простым переводчиком? И ничего не добьешься?
Добиться? А зачем это нужно? Биться, биться. Разбиться, добиться. Чего? Гошиного места? Если я заслужу, мне и так дадут, и не надо никого бить – ни себя, ни других. Нет, правда! Я не знаю, зачем добиваться? Но как я скажу об этом Юрке? Я молчу.
– Меня будут уважать, – говорю я наконец.
– Ладно. Пойдем обедать, – говорит Юрка, – а то потом народу набьется.
В столовой уже полн о. Юрка останавливается на пороге, окидывает глазами толпу и продвигается к столику за подносами, прокладывая себе дорогу плечами. Я стою, сжатая толпой у двери, и вспоминаю вдруг почему-то, как тетя Муза сказала: «На рысь он похож, глазами так и рыскает!»
33
Юг оставался югом. Кипарисы, и море, и прибрежная галька – все было то же. Но я не радовалась больше. Мне стало неуютно в ярко освещенном пространстве с четко обозначенными тенями. Мне не хватало ленинградских туманов, мягкости ленинградских сумерек. Здесь сутки строго разграничивались на день и ночь, а в Ленинграде еще стояли белые ночи… От здешней воды волосы у меня стали тяжелыми и жесткими, а от невской были легки и разлетались как пух.
Мы купили билеты и собрались уезжать.
У меня оставалось немного денег, ровно столько, чтобы купить по персику всем: тете Музе, Басмановой, Калерии и одинокому соседу. На севере персиков еще не было.
А здесь, на рынке, они лежали на длинных деревянных столах, беззастенчиво дорогие и доступные всем, у кого есть деньги. И люди, которые торговали горами румяных душистых фруктов, тоже были беззастенчивы и равнодушно смотрели на покупателей.
Персики были сложены на столе не горкой, а рядком, одинаково крупные, круглые и усатые. На каждом боку каждого персика рдело смугло-красное пятно, как будто в этом месте под тонкой и пушистой кожурой бродило молодое вино. Были, правда, персики и ровного желтоватого цвета, они были нежнее, на их боках золотился редкий шелковистый пушок. Я отобрала несколько персиков и сложила их отдельно на краешек стола. Получилось не очень-то много, но зато каждый персик был настоящим, полновесным персиком. Я подняла глаза на продавца и спросила:
– Сколько?
Темные масляные глаза равнодушно задержались на моем лице, потом заблестели, зашевелились. Темная патлатая голова закачалась из стороны в сторону.
– Что, не продается? – спросила я удивленно.
– Продается!
– Так сколько стоит?
Губы раздвинулись, и под коротко стриженными усами заблестели белые зубы.
– Нычэго нэ стоит.
Человек стоял за столом, не изменяя позы, и только лицо его менялось: улыбка растекалась по лицу.
– Нычэго нэ стоит. Бэри так.
– Как же так?
Человек лениво шевельнул рукой:
– А так. Забирай! Дару!
– Но мне не нужны подарки! Я хочу…
– Дару!
И человек единым движением смахнул персики с прилавка ко мне в корзинку.
Я оглянулась, ища глазами Юрку. Его не было.
– Спасибо! – сказала я растерянно.
Человек не ответил, а только кивнул мне головой, и черные жирные завитки волос упали ему на лоб. Я постояла несколько секунд, не зная, как быть дальше. Человек за прилавком был меланхоличен, оживление его спало. Я в нерешительности пошла вдоль прилавка, а когда оглянулась, он смотрел мне вслед. Он поймал мой взгляд, кивнул головой, и зубы заблестели под усами.
Я показала персики Юрке:
– Смотри, это подарок.
– От кого?
– Не знаю. От продавца какого-то.
– И ты взяла?
– Он бы обиделся.
– Он, наверное, думал познакомиться. Они любят беленьких.
– Ничего он не думал. Он даже не шевельнулся, когда я ушла.
– Не знаю. Странно что-то, – сказал Юрка. – А впрочем, пошли скорее, а то опоздаем.
Я не успевала за Юркой. Первый раз в жизни меня раздражала его энергичная походка. Я шла на полшага сзади, смотрела на Юркин круглый затылок и думала: «А персики он мне все-таки подарил просто так. Просто так!» Мне было хорошо от этой мысли.
Юрка занял верхнюю полку, я – нижнюю. Каждый раз, как я заходила в купе, я ждала, что увижу Анатолия Палыча, его жену и чемодан, поставленный торцом. Но здесь были чужие люди. Они были чужими весь первый день. Потом я привыкла.
Юрка смотрел часами в окно. Я не знала, о чем он думает.
34
Персики лежали посреди стола на большой тарелке. Точно так три дня назад они лежали на южном базаре. Но там их было много, и рядом лежала бумажка с ценой, и люди не смотрели на персики, а приценивались к ним. А здесь их было немного, и каждый был уважаем, ими любовались, и никто не хотел их есть. Тетя Муза перетерла чашки и замешкалась у буфета. Я подошла к ней:
– Вы что, тетя Муза?
Она вытерла глаза чайным полотенцем и засуетилась:
– Ничего, ничего, ты пирог ставь, я испекла, как ты любишь, с ягодами.
– Да что с вами?
– Радуюсь. Думала, ты не вернешься.
– Куда же я денусь?
– А куда молодые деваются? Уходят из дома, и нет их.
Тетя Муза стояла смущенная, застенчиво улыбаясь, – совсем молодая. Я покраснела. Мне стало стыдно, что я была счастлива с Юркой.
– А где пирог? – спросила я.
– На окне, под марлей.
Потом все мы сидим за чаем.
– Я вас уверяю, что они понятия не имеют о коммунальных квартирах. Они думают, мы утром в ванную стоим в очереди.
Это говорит Басманова.
– Все они понимают, только прикидываются, что не понимают. А по поводу очереди – так это они просто разыгрывают нас. У них, если хотите знать, около двадцати процентов – трущобы.
Это говорит сосед.
– Трущобы – это трущобы, а коммунальные квартиры – это коммунальные квартиры.
– Прошу прощения. Я не объединял эти понятия. Я только хочу сказать, что, когда иностранец спрашивает о коммунальной квартире, не надо думать, будто он сам живет в особняке. Просто они сделали из коммунальной квартиры жупел и потрясают им…
– Именно жупел, – говорит Калерия, – надо, чтобы Аська пригласила кого-нибудь к нам. Они думают, что здесь черт знает что. А у нас порядок. И портрет Льва Толстого на кухне.
– Я говорила, что его надо снять. Он не похож на Толстого. Не толстовское выражение.
Это Басманова.
– Зато борода! Какая борода!
Это Калерия.
– Кушайте пирог! Свежий и пропекся хорошо. Вам положить?
Это тетя Муза.
– Они очень плохо представляют себе, как и чем мы живем. Недостаток информации.
Это, конечно, сосед.
– Недостаток? Нет, скорее искаженная информация. Это делает особенно важной работу Аси и ее коллег.
Это Басманова.
– Я все-таки возьму персик. Всё! Композиция разрушена! Вкусный!
Это Калерия.
Я подхожу к окну. Юрка должен был прийти сегодня вечером и посидеть с нами, но уже ясно, что не придет. Тетя Муза сразу повеселела, как только поняла, что он не придет. А я еще надеялась, что все уладится. Калерия подходит и становится рядом. Она тихо спрашивает:
– Ну как у тебя с тем парнем? Вы поженитесь?
Я отрицательно качаю головой.
– И правильно! Я тоже никогда не выйду замуж.
35
Утром я выхожу из дома. Солнце раннее, без блеска. Мягкие тени на тротуаре. Мальчишки расселись на парапете, ноги – высоко над водой. Удочка застыла, как поднятый указательный палец: тсс, рыба! Никакой рыбы нет. Сколько живу – вижу только жестянки с червями и никакой рыбы. А они сидят. Не умылись даже. На щеке – след от подушки. Глаза раскрыты – на поплавок, на то место, где леска ушла в воду. Ждут.
Милиционер стоит на перекрестке – молоденький, чистенький. Белые перчатки – без пятнышка. Палочка так и летает. Вверх, вниз, вправо, вверх. Шутка сказать: такое движение, а у тебя в руках только палочка. Легковая машина проехала рядом, так близко, что подол платья рванулся вслед. Я отпрянула. Водитель высунулся, погрозил кулаком, поехал дальше.
Хорошо, что люди вокруг есть. Мальчишки на парапете, милиционер на перекрестке, водители машин. Хорошо, что рядом есть люди. И хорошо, что много работы.
Мне хочется работать. Хочется вскакивать каждое утро и бежать в ванную комнату. Потом щеткой причесывать волосы. Потом шагать на работу. С любопытством ждать встречи с незнакомыми людьми. А это желание – узнать, кто они, что думают, как живут! А радость оттого, что тает и тает холодок официальности и все чаще перед твоими глазами выскакивает на свет божий то веселость, то доброта, то чудачество! Они проглянут, а потом спрячутся за солидностью, благопристойностью. А я не отступаюсь. Смотрите, какая я. Вот я вся перед вами, какая есть. Не скрывайтесь и вы. Идите сюда, умная шутка, добродушие, доброжелательность. Иди сюда, все хорошее, что живет в человеке.
У меня много друзей. По всему свету. Коммунисты из Парижа, с которыми мне пришлось провести две экскурсии, пели мне французские песни, смеялись и грозили увезти меня во Францию. Американские студенты – бородатые, в мосторговских тапочках, путешествующие в своей машине, – звали: «Бросьте все, поедем с нами колесить по свету». А финны скандировали: терве тулоа – добро пожаловать. Фырчали машины, и руки взмахивали на прощанье платками, из вагонов поездов свешивались люди, на взлетных площадках жали крепко руки. Что увозили вы с собой, финны, французы, американцы? О чем вспоминали потом, что рассказывали близким и знакомым?
Уходят поезда, и ты остаешься одна на перроне, смотришь, как исчезает вдали последний вагон. И хочется взгрустнуть тебе, а некогда. Пыхтит на соседней платформе поезд, выходят из вагона, отдуваясь, люди, ставят на перрон чемоданы и смотрят на тебя недоверчиво – твои новые туристы. А ты улыбаешься, протягиваешь им руку: «Здравствуйте, добро пожаловать!»
36
Не успела я переступить порог гостиницы, как в вестибюле на меня налетел взмыленный Гоша и уставился темными выпуклыми глазами. Гоша соображал. А когда он сообразил, кто я и как сюда попала, – он схватил меня за локоть и выпалил: «Вот что, Майкина, давайте-ка собирайтесь».
– Куда собираться? И вообще, что значит собираться?
– Работать, Майкина, работать. Идите в бюро обслуживания! Скажите, что я вас прислал на выставку мод.
– Какую выставку? И на какой срок? И с кем работать?
– Все узнаете в бюро. Работайте, Майкина! Работайте как следует!
И Гоша побежал дальше, а я, даже не поднимаясь в комнату переводчиков, пошла в бюро обслуживания. У дежурной переводчицы я спросила:
– Слушай, не знаешь, на какую выставку меня бросают?
– А, Майкина! Здравствуй! Зашиваемся, понимаешь. Совершенно зашиваемся, – отвечала мне дежурная переводчица, едва кинув на меня из-за барьера беглый взгляд и снова уткнулась в свои бумажки.
– Слушай, я спрашиваю про выставку. Скажи, кто с ней работает?
– Погоди, Майкина, погоди! Сизиков! Сизиков! Сколько раз я говорила, что наряды на автомашину в таком виде принимать не буду. Вот забирай их назад! Ни-ни, слушать ничего не хочу. Слышал, что Соколова сказала? Так вот, забирай их! Тебе что, Майкина? Ты меня?
– Да, я тебя. Мне Гоша велел сюда идти. Сказал, буду работать с выставкой.
– Выставка чешской книги?
– Да нет же…
– Точной промышленности?
– Мод! – кричу я. – Выставка мод!
– Не ори! Модами занимается Русаков. Николай Павлович. Номер двести семьдесят один. Вот, звони.
Я поднимаю трубку телефона и называю номер: двести семьдесят один. У Николая Павловича приятный голос. Он обещает спуститься через несколько минут, а я в ожидании прохожу в холл.
Высокий человек входит в холл. Он чуть сутулится. Он останавливается в дверях и ищет кого-то глазами. Я поднимаюсь и иду ему навстречу.
– Вы меня?
– Если вы Майкина, то да.
У человека крупная голова, светлые волосы и светлые глаза. Лицо немолодое, под глазами – мешки. Он без галстука, и ворот рубашки распахнут. От него пахнет табаком.
– Да, я Майкина. Здравствуйте.
У него сильное рукопожатие и ладонь большая, чуть влажная.
– Рад познакомиться. Значит, будем работать вместе? – И, не дожидаясь ответа: – Работа предстоит трудная, не скрываю. Но ведь вы молодая, нервы крепкие. Выдержите?
– А при чем здесь нервы?
Он улыбается, смотрит на меня секунду молча и потом говорит, не отвечая на мой вопрос:
– Здесь побеседуем или поднимемся в номер? Идемте-ка лучше в номер!
В номере распахнуты все окна и дверь на балкон. Но табачный дым не улетучивается, а медленно плывет по комнате от стены к двери и обратно. На столе разложены бумаги, стоит пишущая машинка и, рядом с пепельницей, бутылка минеральной воды. Что он пишет на этой машинке? И зачем столько бумаг? Я сажусь к столу, а Русаков снимает пиджак, вешает его на спинку стула и начинает ходить вокруг стола, разговаривая со мною. Я верчу головой, пытаясь уследить за ним, но потом начинает болеть шея, и я смотрю на скатерть. Русаков учит меня, ведь мне предстоит работать не с нашими советскими людьми, а с иностранцами. Ну и что же? Я уже работала с иностранцами, и напрасно он объясняет мне то, что давно известно. На белой скатерти растеклось когда-то винное пятно. От времени оно выцвело, побледнело, но края его еще розовеют и будут розоветь всегда, пока существует эта скатерть. Я читала в одной книжке, что старые винные пятна не вывести уже ничем. Интересно, кто пил здесь вино и пролил его на скатерть? Обычно в комнате никто не оставляет своих следов. Вот живет Русаков. А он уедет, что от него останется? Уборщицы проветрят как следует номер, улетучится запах русаковского табака, пылесосами вычистят ковры и мебель, сменят салфетки на тумбочках и пианино, и въедет в номер новый человек, въедет так, словно до него здесь никто и не жил…
– Бу-бу-бу… – бубнит Русаков.
И вдруг останавливается. И смотрит на меня. Я поднимаю голову и смотрю на Русакова: чего он остановился? Кажется, он заметил, что я его не слушала. Он спрашивает: «Вы поняли, как надо держать себя с этой женщиной?» Мурашки бегут у меня по спине, много-много мурашек. Какая женщина? И что я должна понять? Я стараюсь соображать быстро-быстро: это, наверное, та женщина, за которую я ответственна. Но почему же об ответственности я слышала, а о женщине нет? Неважно. Разберусь позже. Увижу эту женщину и разберусь. Я киваю головой:
– Да, мне ясно, как я должна держать себя.
– Значит, так: завтра она уезжает. Сегодня вы должны будете сопровождать ее в цирк и вечером присутствовать на прощальном ужине. А завтра – на аэродром. У вас есть какие-нибудь вопросы?
Нет, у меня нет никаких вопросов. Я поеду в цирк, а потом на ужин, а потом на аэродром. Нисколько не трудно! Куда труднее водить экскурсии в Третьяковскую галерею или Кремль. И куда ответственнее. Я веселею. А Русаков говорит:
– Ну и прекрасно. Значит, договорились? Встречаемся внизу в полшестого. Ну и прекрасно.
37
Добрый день, мадам!
Вы помните меня, мадам? Плохо наверное. А я вас отлично помню. Вас многие у нас в «Интуристе» отлично помнят, но лучше всех – я, ведь я была вашим гидом, вашим переводчиком и чаще других видела и наблюдала вас. У вас была ослепительная улыбка. Она сначала восхищала меня, потом раздражала, сейчас она вызывает у меня сочувствие. Вы по-прежнему так улыбаетесь, мадам? Неужели вы сохранили неизменными все ваши приемы – от этой улыбки до безмолвного постукивания пальцами? Вы, наверное, постарели, и вам приходится совсем туго. Немногие понимают, как вам приходится туго. Среди этих немногих – я. Зря вы ссорились со мной, мадам. Когда мы встретились с вами в первый раз…
Впрочем, об этом надо подробнее.
В половине шестого мы встречаемся внизу с Русаковым.
День кончается, закончены объезды города, экскурсии в музеи, а до отъезда в театры еще остается немного времени, и дежурная переводчица сидит сгорбившись за столом, опустив на сплетенные руки голову.
Я хожу по бюро тихо, чтобы не беспокоить ее, заглядываю в книгу приезда, потом в книгу регистрации паспортов. Там написано размашистым почерком: «Выставка мод» – и ниже значатся два имени: Бранд Альма и Стооль Марта. Бранд – это, должно быть, нечто тучное, с жесткими усиками над верхней губой, которые она, должно быть, выщипывает по утрам во время туалета. И почему, собственно, мы должны ехать в цирк – именно в цирк? Странное место для деловой встречи.
– А почему мы едем в цирк? – спрашиваю я Русакова.
– Так захотела мадам, – отвечает Русаков.
Легкий стук кабины лифта, распахиваются двери. Из кабины выходит женщина. Все, кто находится в холле, разом поворачиваются в ее сторону и замолкают. И не потому, что лифт как-то по-особому стукнул и привлек внимание. И не потому, что женщина сделала что-нибудь вызывающее, громкое. Нет, она тихо ступает по ковру, направляясь в нашу сторону. Каждый ее шаг легок и осторожен. Но во всем ее облике, в движениях есть что-то завораживающее, что-то не позволяющее не задержаться на ней взглядом, не восхититься ею, остаться равнодушным. Но женщина не знает этого. Она не замечает, что все смотрят на нее. Она так свободна и не смущена, словно в вестибюле нет никого. Я смотрю на эту женщину и чувствую, что теряюсь. С каждым шагом она приближается ко мне, становится больше, а от меня, кажется, остаются одни глаза, жадно всматривающиеся в нее. Я только успеваю сообразить, что это «та женщина», а она уже подошла и стоит рядом, касаясь меня мехами и распространяя вокруг тревожный запах своих духов. Женщина поворачивается к Русакову, говорит ему что-то, и запах ослабевает. Русаков протягивает руку в мою сторону, и запах духов опять усиливается: рядом со мной появляются темные глаза, блестящие и улыбающиеся, и эти глаза что-то говорят мне, ласково щурятся, но я ничего не понимаю… Я только повторяю все время: «Да, да, хорошо». Мне и вправду хорошо. И всем, наверное, хорошо, потому что глаза не перестают улыбаться. Все сдвигаются с места и идут к выходу. Я тоже. Откуда-то вдруг появились другие люди, они тоже имеют отношение к этой женщине, потому что они окружают ее, помогают сойти со ступенек и останавливаются около машины.
Описать эту женщину я не берусь, хотя существуют в нашем словаре слова, созданные специально для таких женщин: «околдовать», «пленительная», «чудо» и прочее. Если отобрать из этих слов самые сильные, расположить их в стройном, благородном порядке, придать им чистоту и звучность, получится, быть может, нечто похожее на нее.
Когда мы садились в машину, рядом с мадам оказалась маленькая пожилая женщина. Я удивилась – мы и не заметили ее, а ведь она, наверное, все время была рядом.
С другой стороны мадам села я.
От высоко зачесанных светлых волос мадам крепко пахнет душистым маслом. Вскоре в машине трудно дышать.
– Откройте окно, – просит меня Альма Бранд.
Она улыбается мне.
Только на обложках заграничных журналов видела я такую улыбку. И еще на рекламах зубной пасты. Улыбка, а рядом зубная щетка. «Пользуйтесь пастой „Пепзодонт“ – и вы будете неотразимы».
Я открываю окно. Свежий встречный ветер врывается в машину и шевелит волосы моей соседки. Она поднимает руку в длинной перчатке и поправляет прическу.
– Какой ветер, – говорит она. – Закройте, пожалуйста.
Я закрываю окно. Бранд кладет руку на плечо сидящего передо мной мужчины и спрашивает его, улыбаясь конечно:
– Вам, наверное, неудобно сидеть?
– Что вы! – Седая голова поворачивается к нам. – Что вы, что вы! Не беспокойтесь!
– Переведите, пожалуйста, мсье, – обращается ко мне Альма, – что он может откинуться и опереться на вас.
– То есть как опереться? И почему на меня?
Альма смеется:
– Ну вот так, откинуться, – она откидывается на спинку сиденья. При этом мех падает с ее плеч, оставляя открытыми плечи и глубоко обнаженную грудь. – А на вас – потому что вы сидите за мсье.
– Но мсье – мужчина, а я женщина.
В глазах удивление.
– Вы женщина?
Оторопело я смотрю на Альму Бранд. Ничего не понимаю. Альма Бранд улыбается:
– Вы – гид.
…Так я познакомилась с вами, мадам. Самое смешное, что я ничего вам тогда не ответила. Потом мне пришли в голову несколько замечательно остроумных ответов – совсем в вашем духе, – но тогда я сделала самое нелепое, самое глупое и, может быть, самое естественное, если учесть, что с такими, как вы, мне до сих пор не приходилось встречаться, – я заревела.
Я сидела тихо, между нами и дверью машины, и беззвучно ревела. Не знаю, как Русаков, сидевший рядом с шофером, догадался, что что-то происходит, и почему вдруг он спросил: «Ася, что случилось?»
Я молчала.
– Ася, что там случилось? – переспросил Русаков.
Седой, сидящий впереди меня, оглянулся, посмотрел мне в лицо и тронул за локоть: «Возьмите себя в руки». Машина затормозила и мягко остановилась. Все вышли. А я сижу. Шофер удивляется. «Выходи. Аська».
– Володя, вези меня обратно.
– Что ты, Аська! Что она тебе сказала?
– Ничего не сказала. Вези меня обратно.
– Ведь ты на работе. Иди! Завтра разберешься.
Русаков заглядывает в машину:
– Да что случилось, Ася?
– Она сказала, что я не женщина, а гид. Я не пойду. Пусть сама как хочет…
Русаков крепко берет меня за руки и высаживает из машины.








