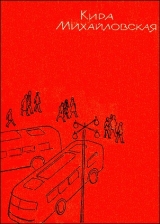
Текст книги "Переводчица из «Интуриста»"
Автор книги: Кира Михайловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
И тогда Ирка – бесстрашная девчонка, секретарь нашей комсомольской организации – спрашивает Гошу: «А что, собственно, произошло?»
Оказывается, произошло вот что: турист, уезжая, подарил одной нашей переводчице чулки. То, что он подарил их ей, – это еще полбеды. То, что она взяла их, – это беда. Это и есть тот ужасный и чудовищный факт, который вскрылся только сегодня.
Мы потупились. Мы знаем, что принять в подарок конфеты, духи – это ошибка, но принять в подарок чулки – это уже проступок.
Мы молчим. Мы молчаливо осуждаем своего коллегу. Но Гоше этого мало. Гоша хочет воспитательной работы. И если нужно для дела, он согласен вести эту работу один на один с молчаливой, но подчиненной ему группой переводчиков. Через десять минут мы воспитаны так хорошо, что, если Гоша будет продолжать, он нас просто испортит. И тогда Ирка – она и бесстрашная девчонка, и секретарь нашей комсомольской организации, но страшная вредина – спрашивает Гошу: «А почему нельзя принимать в подарок чулки?»
Всеобщее замешательство. Сейчас Гоша что-нибудь «выкинет». Но Гоша не выкидывает. Он напрягается изо всех сил и выпаливает: «Потому что это неэтично».
Ай да Гоша, ай да молодец!
Оживление в зале.
И вдруг Ирка кричит с места: «И совсем не потому!»
– А почему же? – спрашивает Гоша. Он любит демократизм и разговоры с аудиторией.
– Потому что чулки носят на ногах.
Гоша усмехается. В том, что чулки носят на ногах, есть доля истины, но ответ ему почему-то не нравится. Может быть, по Иркиному вредному тону. Мы смеемся тихонько, потом громче, Гоша растерянно улыбается. Он только сейчас заметил, как смешно наше совещание и как смешон он сам.
А чувство юмора рано или поздно, но всегда просыпается в Гоше. И вот он смеется и на этом заканчивает воспитательную работу с нами.
Но тут вскакивает Ирка. Она кричит нам:
– Над чем вы смеетесь? Вы – лопухи!
Мы абсолютно доверяем Ирке, и если она говорит, что мы лопухи, значит, мы действительно лопухи. Вот только почему?
– Потому, – говорит Ирка, – что чулки – это и правда очень смешно. Это не чудовищно и не ужасно, а просто смешно. Разве не смешно, когда вам на память, на вечную память дарят чулки?
Так мы кончаем с вопросом о чулках.
Я получила туриста. Он еще об этом не знает – завтракает себе в ресторане или сидит в парикмахерской, но он уже отдан мне. Я уже знаю, что у него есть жена, миссис Харст, и есть переводчица – «фефела», как сообщила мне Зойка.
Фефела? Нет, скорее геометрическая абстракция, фантазия на тему «Квадрат», модель для ультрасовременного художника. Квадратный лоб, квадратный подбородок, квадратные плечи. А какая квадратная речь!
– Нам сказали, что мы идем в Эрмитаж, который начинает работу в одиннадцать часов.
– Который начинает работу, – послушно повторяю я и, завороженная, смотрю ей в рот.
– Значит, у нас есть время, чтобы немного обождать.
Сердце у меня заходится от восторга.
– Чтобы немного обождать, – повторяю я.
Мы идем в холл. Я не замечаю туристов, круглого толстяка и сухопарую американку в очках. Я смотрю на нашу переводчицу.
Женщина! Ты не создана из Адамова ребра! Бог сложил тебя из детских кубиков.
В залах Эрмитажа пустынно. Только служители слоняются, сунув ладони в рукава одинаковых темных пиджаков. Они смотрят нам вслед. Мистер Харст интересуется искусством.
– В искусство надо вдумываться. Не просто смотреть, не просто читать, а вдумываться. Необходимо некое умственное усилие или ряд усилий, чтобы искусство постепенно начало открывать свои тайны.
Мы стоим в зале Пикассо. Мистер Харст подходит совсем близко к картине «Свидание», обнюхивает ее, потом мелкой трусцой бежит к окну. Стоя у окна, он откидывает назад голову и дышит глубоко и шумно. Мистер Харст совершает усилие или ряд усилий. Миссис Харст стоит неподвижно и не совершает усилий. Но вот уж кто совсем не совершает усилий, так это наша переводчица. Она даже не стоит, а сидит на диване у окна. У нее безучастное, наплевательское отношение к Пикассо, ко всему третьему этажу и ко всему второму этажу.
Нам здорово повезло, и мы видим Рембрандта в один из солнечных апрельских дней, когда освещение вызывает к жизни все богатство и глубину красок. Можно мчаться сюда из любого города в апреле только затем, чтобы взглянуть на Рембрандта. По тому, какие усилия предпринимает мистер Харст, мне кажется, что он понимает это. Миссис Харст прилипла к Данае. Я с нею рядом. И только переводчица наша, – о женщина, ты не создана из Адамова ребра! – сидит на диване. Без нее мне трудно объяснить миссис Харст, как все это здорово. Впрочем, я неплохо справляюсь. Я говорю: «О!» Миссис Харст вторит мне: «О!»
– Какое это богатство! – говорит мистер Харст.
– О! – говорит его жена.
Мы идем по галерее двенадцатого года к выходу.
– Но как вы сохранили это? Революция, войны… Почему не продали на Запад? За оборудование, за машины. Вы знаете, сколько машин и оборудования можно купить за такой Эрмитаж?
Мистер Харст закрывает глаза и начинает мелко-мелко шевелить губами. Я вспоминаю, что по профессии мистер Харст – финансист. Он открывает глаза и пожимает плечами.
– Астрономическая цифра. Достаточно вам сказать, что в прошлом году за Гогена я заплатил двадцать тысяч долларов. Вот за такого маленького Гогена.
Мы выходим из Эрмитажа, мистер Харст кладет свою белую пухлую руку на цоколь здания и говорит:
– Хороший гранит. Добротный и красивый. – Он прикрывает глаза и мелко-мелко шевелит губами. – Да, – произносит нараспев мистер Харст. – Искусство удивительно действует на человека.
Он улыбается и семенит к машине.
Я смотрю вслед мистеру Харсту и не верю, что на него искусство действует удивительно. Не верю.
22
Юрка сказал мне: «Пойду с тобой». Он и не мог поступить иначе, ведь туристы приезжали поздно ночью, а мне предстояло их встретить, устроить в гостинице и бог весть когда – наверное, уже на рассвете! – вернуться домой. И хотя Юрке на другой день с утра нужно было работать в институтской библиотеке, он все равно сказал: «Пойдем вместе. Я подожду тебя в гостинице».
В группе, которую я встретила, были одни мужчины. Директора предприятий, объединений, фирм. Влиятельные лица. Среди них были светловолосые и темноволосые, двое лысых и один очень высокий, хромой с палкой. Но я сразу перепутала их всех. Это потому, что все они были удивительно похожи друг на друга. Все в одинаковых темно-серых костюмах и белых рубашках. У всех на лице одно и то же выражение собственного достоинства. И даже манеры почти у всех были одинаковые. Одинаковым движением они закидывали ногу на ногу в автобусе, одинаковым движением вынимали изо рта сигару, одинаково смотрели на меня, когда я вручала им бумажку с указанием номера. Они улыбались одинаково неловко, деревянными, негибкими губами. Вскоре мне начало казаться, что я нахожусь среди десятка зеркал, которые с легкими искажениями, но в общем правильно отражают фигуру одного и того же человека. И только длинный, хромой напоминал о том, что все происходит в жизни, а не в царстве зеркал. Группа была как отлично отрегулированный механизм, в котором движение одного колесика незамедлительно вызывало движение другого, соседнего колесика. Только покачивание долговязой фигуры хромого и песенка, которую он тихонько насвистывал сквозь зубы, нарушали эту слаженность. Я распределяла номера, и, когда очередь дошла до хромого, я протянула ему бумажку. На ней значился этаж и номер предназначенной комнаты. Хромой шагнул вперед, прервал мелодию на самой высокой ноте, посмотрел на меня светлыми прищуренными глазами и взял бумажку. Ему бы надо было отойти и уступить место следующему туристу, но он все стоял и смотрел на меня. Я растерялась.
– Вам что-нибудь не ясно?
Хромой ничего не ответил, засвистел песенку. Туристы тихо жужжали. Я решила, что все это мне примерещилось, и продолжала раздавать номера.
Когда все разошлись, я собрала бумаги, заперла их в ящик стола и вышла в полутемный холл. Навстречу мне из угла шагнула длинная фигура хромого. Он подошел ко мне близко, недопустимо близко, и я сделала шаг назад. В холле не было света, и лицо хромого белело в темноте. Оно медленно приближалось ко мне. Поднялась рука, потянулась вперед, чтобы коснуться меня. Я отпрянула и почувствовала позади прерывистое дыхание. Юрка стоял за моей спиной и смотрел прямо на хромого. Тот резко повернулся и пошел прочь, прихрамывая и насвистывая песенку.
– Свинья, – сказал Юрка.
Мы вышли на улицу.
– Свинья. – Он остановился и оглянулся назад. В гостинице были потушены огни. Только несколько окон было освещено. Это мои туристы укладывались спать.
Мы уходили все дальше от гостиницы, но Юрка молчал. Город был пустынным, и его площади казались еще шире, улицы еще прямее. Воздух забирался за воротник пальто. Стало холодно. Я взяла Юркину руку и крепче прижалась к нему. Он молчал.
Я заговорила с ним, он отвечал нехотя. Когда мы подходили к дому, Юрка остановился, взял меня за плечи и повернул лицом к себе.
– Это свинство, что ты должна работать с такими.
– Но ведь такие встречаются очень редко.
– Достаточно встретить один раз в жизни.
– Ты говоришь со мною так, как будто я во всем виновата?
Я тряхнула плечами, но Юркины руки крепко держали меня.
Я вырвалась и пошла вперед. Юрка догнал меня.
– Глупая, ты замерзла?
Он снял пальто и накинул его мне на плечи.
– Не надо.
Я подобрела. Улыбнулась Юрке.
– Возьми обратно.
– Что ты! Мне совсем не холодно. Смотри.
Он взял мою ладонь, расстегнул пиджак и приложил ладонь к груди. Под пиджаком было тепло, и я услышала, как бьется в груди Юркино сердце. Юркины руки подхватили меня и подняли высоко над землей. Юрка нес меня через город. Меня, мое теплое демисезонное пальто и свое пальто.
– Пусти, – наконец сказала я.
Юрка тяжело дышал.
– Не пущу.
Он донес меня до белого ларька, который недавно поставили на углу, и посадил на прилавок. Туда, куда обычно клали фрукты, овощи и ставили консервные банки. Я засмеялась. Юрка взял меня за руки и сказал, глядя мне в глаза:
– А теперь слушай. Ты ведь не сердишься больше на меня?
– Нет, – сказала я и снова засмеялась.
– Ты понимаешь, почему я разозлился?
– Понимаю. Только я здесь ни при чем.
– А я не на тебя. Я на них.
– На кого?
– Все равно. На всех. На все их свинские порядки.
– А ну их к черту! Неси меня дальше.
– Ну вот еще!
Юрка поставил меня на землю, подтолкнул в спину, и мы пошли дальше.
23
Наша коммунальная квартира была самой обыкновенной, не отмеченной ничем, даже дощечкой об «образцовом внесении квартплаты». В передовые она вырвалась внезапно, как только меня приняли на работу. И не потому, что ее отметили сверху – из домохозяйства, а потому, что ее выдвинули низы – жильцы нашего дома. Квартира, которая вырастила переводчицу из «Интуриста», не могла быть обыкновенной, ничем не примечательной. Таково было мнение не только нашей лестницы, но и всего дома. К нам стали приходить из соседних квартир – сверху и снизу – обсудить свежие новости внешней политики, потолковать о Кубе, узнать, что такое абстракционизм. Даже объединенными усилиями мы не могли ответить на все вопросы.
Тетя Муза знала очень мало и не любила разговаривать. Басманова любила разговаривать, но путала абстракционизм с остракизмом. Много знал только наш сосед. Но он был молчалив и углублен в себя. Может быть, поэтому мы и решили, что он много знает. Мы о нем не знали ничего. Не знали даже, чем он занимается. Говорили, будто он редактор. А мне казалось, что он сам, лично, пишет книги.
Когда меня взяли в «Интурист», он подошел ко мне и сказал: «Поздравляю». Было непонятно, одобряет он или осуждает меня.
– Взяли, – значит, анкета хорошая.
Все на кухне замолчали. Все поняли, как глубоко и мудро судит наш сосед, и все устыдились того, что до него никто не сумел взглянуть вот так… в самый корень.
Басманова поправила рукой седые букольки на висках и сказала нараспев:
– Боже мой, мы всю жизнь прожили без анкет! И какую жизнь! Революции, войны, всемирные потрясения – и ни одной анкеты!
К революциям и всемирным потрясениям Басманова не имела отношения, но великое жило у нее в крови, и мы любили, когда она говорила о великом. Тетя Муза молчала. Этот разговор задевал слишком личные чувства: тетя Муза работала в отделе кадров. Калерия – она же Калоша – посмотрела на меня хитрыми глазами. Я знала, что сейчас она начнет «заводить» Басманову. Басманова «заводилась» легко, особенно если речь шла о всемирных потрясениях.
Значит, вот она, наша квартира: Басманова и Калоша, напротив – сосед, а рядом – мы с тетей Музой. А вот обычный воскресный день нашей квартиры. День, в котором ничего не происходит. Он начинается со скрипа. Это скрипит дверь Басмановой. А вот и она сама в длинном халате, с белыми, туго закрученными букольками и высокой лебединой шеей. Она возглавляет шествие нашей квартиры в ванную. После нее идет Калерия, потом тетя Муза, потом сосед. Я лежу в постели, закрыв глаза.
Я не дома и не в «Интуристе», – я в плену. Здесь нет ничего определенного, здесь существуют только ощущения, слабые, полудремотные, но приятные. Из плена вырывает меня тетя Муза. Она кричит у самого моего уха, я открываю глаза и оказываюсь дома. Я лежу несколько секунд неподвижно, обманывая бдительность тети Музы, а потом вскакиваю прямо в домашние туфли, накидываю халат и во весь опор скачу в ванную, распугивая соседей.
– Аська! – кричит мне из кухни Калоша. – Сегодня в газете речь Фиделя, а портрета нет. Ты достанешь мне портрет? Ведь обещала.
– Достану! – кричу я.
– Он сказал: «Мы умрем с улыбкой на устах». Ты слышишь? Я сейчас прочту тебе…
Всему есть предел. И я кричу Калерии: «Дай мне спокойно помыться!»
Да здравствует тот, кто выдумал душ! Да здравствует круглая жестянка с мелкими дырками и напористая струя воды, бьющая в мое тело! Да здравствует мое тело, блестящее и упругое! У меня ничего не болит, мне ничто не мешает, и мне нравится двигать руками, ногами, наклоняться и раскачиваться, подставляя воде грудь, плечи, спину.
Я закрываю душ. Потом беру полотенце и, сама не знаю зачем, протираю зеркало. Я заглядываю в него с любопытством и всматриваюсь внимательно в свое отражение. Когда, в какой момент приходит мне мысль о Юрке – не знаю. Только вдруг я краснею, отворачиваюсь и начинаю одеваться быстро-быстро. Мне радостно и как-то неловко. Долго потом я не могу отделаться от этого чувства. Я завтракаю с тетей Музой, мою посуду, убираю комнату. Но ничему не отдаюсь вполне. Что-то в моей глубине все еще смущается и замирает.
…До чего же хочется Басмановой и Калерии потолковать со мной, до чего же хочется узнать последние новости «Интуриста», поговорить об иностранцах и о том, будет все-таки атомная война или нет. Даже сосед, кажется, не прочь сегодня поддержать беседу. И тетя Муза устроилась на табурете послушать, что скажут другие. А я только и думаю, как бы улизнуть с кухни. Эти люди не понимают, что у меня тайна. И никогда не поймут, потому что до сих пор у меня не было от них тайн. Но должно ведь когда-нибудь случиться… И вот сейчас, как никогда на свете, мне надо уйти.
Мы встречаемся с Юркой на улице. Всегда, когда я вижу Юрку, я волнуюсь. Сначала я волнуюсь оттого, что наконец встретилась с ним, потом – оттого, что расстанусь. Мысль о том, что я встречаюсь с ним, чтобы расстаться, делает мою радость неполной. А Юрка не замечает этого. Он совсем не чуткий. Он рад мне, держит мои руки в своих и убирает со лба моего волосы. Я долго укладывала их на лбу, чтобы они лежали естественно и небрежно, а он берет и все портит. Я переношу это мужественно. Я все готова перенести ради Юрки.
– Как дела?
Смешно, когда он спрашивает меня об этом. Какие у меня могут быть дела? Вот у Юрки… Вчера начальник треста смотрел Юркины коробки, и они ему понравились. Он сказал: будем строить дом. С ума сойти! Строить дом по дипломному проекту. Вот какой Юрка!
Одно плохо – мешают ему. Новому и передовому всегда мешает старое и отжившее. Это старое и отжившее есть и в Юркином институте. Оно называется – «шеф», не признает себя отжившим и упорно сопротивляется.
– Я не знаю, что им движет. Не верю, что принципиальность. Он, видно, просто завидует. Но я согласен включить его в проект, поделить с ним лавры, отдать ему, наконец, пальму первенства. Пусть только не препятствует и согласится со всем.
Действительно, почему бы и не поделиться, если лавры и пальмы скоро начнут сыпаться на Юрку. Почему и не поделиться со «стариком», у которого он пять лет учился! Но я боюсь давать советы Юрке. Я плохо разбираюсь в Юркиных коробках, хотя он провел со мной громадную работу. Мне не совсем понятен весь этот метод индустриализации строительства. Я только хочу узнать: хорошо ли будет жить в такой коробке? Тепло ли? Не будет ли слишком слышно?
– Не знаю, – говорит Юрка. – Построим и увидим. Должно быть хорошо.
– Но ведь чтобы построить, надо наладить специальное производство? А если производство налажено и составлен план, когда же тут смотреть? Будут сажать коробки, как грибы. А смотреть будут, когда вырастут города и лет через пять начнут разваливаться.
Юрка сердится:
– Ты что-нибудь слышала об эксперименте? В Америке просаживают кучу денег на эксперименты и не считают их выброшенными. Если опыт не удается, значит, никто после тебя не пойдет этой дорогой, значит, исключается один путь из тысячи возможных. А в науке часто действуют методом исключений.
– Я не знаю, что в Америке. Им, может, и плевать, в каких домах будут жить люди.
– Если смотреть так узко на вещи, наша страна никогда не станет передовой.
– Пусть мы будем отсталые, но мы будем жить хорошо.
– Нельзя жить хорошо в отсталой стране.
Против этого я не могу возразить.
– Ты понимаешь, – говорит Юрка, – иногда рационально выбросить на ветер сто – двести тысяч. «Выбросить», конечно, с точки зрения твоей и моего шефа. Это так же рационально, как убрать моего шефа и поставить на его место меня.
Я останавливаюсь. «Юрка, что ты сказал? Ведь это же нескромно!» Юрка смеется. Ему очень смешно, что я назвала его нескромным.
– Детка, – говорит он, – это рационально. Интересы государства требуют этого.
Что я могу сказать, если речь идет об интересах государства?..
…Я возвращаюсь домой поздно вечером. Весь дом спит. Я осторожно открываю дверь ключом и так же осторожно прикрываю ее за собой. В темный коридор проскальзывает луч света, а в луче, одетая в длинную ночную рубашку, стоит Калерия.
– Ты чего так поздно? Я чуть не заснула, думала, не дождусь.
– Задержалась, – отвечаю я и хочу пройти к себе, но Калерия становится на пути.
– С кем задержалась? С тем парнем?
– Почему именно с тем? Ну да, с ним.
– Ой, интересно! Вы целовались?
– Ты что – тронулась? И вообще, дай пройти.
– Уходишь, – тянет Калерия разочарованно, – а я думала, ты все расскажешь, специально не спала, всю себя исщипала, чтобы не заснуть.
Чем меня можно пронять, так это благородством. К благородству у меня прямо слабость. Мы с Калерией опускаемся на корточки.
– Вы поженитесь?
– Не знаю.
– А ты знаешь, что будет дальше?
– Мы пойдем опять с ним завтра.
– Так и будете гулять до конца жизни?
Я выпрямляюсь во весь рост. Я оскорблена. Я не могу допустить, чтобы на меня и на Юрку смотрели такими грубыми, примитивными глазами.
– Ну и уходи! Подумаешь! Недотрога какая! Все одинаковые.
От этой мысли Калерия веселеет и шлепает к себе в комнату в хорошем настроении.
В комнате у нас темно, и я на ощупь пробираюсь к своей кровати. За окном – ночь, и тонкий серп месяца стоит высоко в небе. Тетя Муза спрашивает меня:
– Пришла, полуночница? Поешь, на столе под салфеткой.
– Не хочу. Вы спите, спите.
Я раздеваюсь, залезаю под одеяло.
– Тетя Муза, вы не спите?
– Нет.
– Я вам знаете что подарю? Месяц. Тоненький такой, прозрачный, только народился. С вами случится что-нибудь, обязательно хорошее: премию дадут или путевку… Только что же светить тогда будет?… Я лучше вам чулки подарю. Шерстяные… Вот завтра куплю и подарю…
24
Теперь я хочу сказать немного о тебе, финский турист третьего класса. Ты стоишь передо мною, одетый в новый с иголочки костюм, с новым недорогим чемоданом, в новой шляпе, сдвинутой на затылок чуть больше, чем следовало бы. В том, как ты одет, видны тщательность и старание, оскорбительные для сноба. Белые накрахмаленные манжеты обхватывают твои руки. Им здорово пришлось поработать, твоим рукам, прежде чем они стали такими: жилистыми, обтянутыми темной дубленой кожей в непроходящих мозолях – и прежде чем белый манжет обхватил их у самого запястья. Немало забот выпало на твою долю, иначе не было бы твое лицо таким замкнутым и суровым. Странно видеть, как венчает его бойкая шляпа из тех, какие, по мнению финских бизнесменов, должен носить всякий уважающий себя финн.
Ты стоишь неподвижно, опираясь о землю всей тяжестью кряжистого тела, – ты как будто сросся с землей. Ты привык становиться против ветра, поэтому твои плечи отведены назад, а грудь развернута, и во всем твоем теле видны упрямство и упорство человека, противостоящего природе.
Ты приехал сюда с большой группой. Пусть иной турист «люкс», путешествующий в приятном одиночестве, усмехнется, глядя, как ты спешишь к автобусу, чтобы занять место у окна; пусть подшучивают английские переводчики: «А существуют в природе финские „люксы“?» Ты дорог мне, турист третьего класса.
Тебя кормят твои руки, и ты не помнишь в жизни дня, когда бы они бездействовали. Целый год ты работал, чтобы получить право на путешествие. Из всех маршрутов, открытых перед тобой, ты выбрал именно этот. Когда по вечерам ты приходил домой, усталый валился на кровать и закрывал глаза, тебе мнилась, наверное, страна твоего путешествия, она развертывалась перед тобой, открывая за каждым поворотом дороги иные земли, иную жизнь.
На твоем автобусе надпись: «Суоми». В нем говорят по-фински. В нем еще не выветрился воздух Финляндии. Он и есть сама Финляндия, потому что лучшее в твоей стране создано не предприимчивостью и капиталом «люксов», а твоим умом и твоими руками, турист третьего класса.
Вот почему я рада быть вместе с тобою…
– Все на месте?
– Все!
– Ничего не забыли?
– Ничего!
– Даю отправление!..
– Э-эх! У-ух! А-ах! – вскрикивают мои туристы всякий раз, как машина берет новый подъем и перед глазами все шире раскрывается окрестность, а линия горизонта все удаляется.
И вот мы на самой вершине. По одну сторону от нас – Финский залив, по другую – зеленая чаша стадиона. Туристы выходят из автобуса. Последней выхожу я.
Здесь, на вершине холма, дышится легко. Белый пароход берет курс на Петродворец. Он летит стремительно, едва касаясь воды.
– Мартти, сниматься! Сюда, сюда! Нэйти, сфотографируйтесь с нами!
Это кричат мои туристы. Я делаю шаг к ним, но Мартти останавливает меня. Он смотрит в сторону Финского залива, потом переводит глаза на побережье.
– Скажите, нэйти, где проходила в войну линия фронта? Вот там, да? Я воевал здесь, стоял под Ленинградом. Вы были маленькая тогда. Где вы были в то время?
Я не хочу вспоминать о блокаде, и нет в моей жизни ничего, что наводило бы меня на эту мысль. Разве только булки. Дело в том, что в доме, где я живу, внизу – булочная. Несколько раз в день к ней подъезжает автофургон. Когда распахиваются его двери и в булочную начинают вносить ящики с булками и вокруг расходится запах свежеиспеченного хлеба, на меня нападает тоска. Тогда надо повернуться и быстро уйти прочь. Тетя Муза говорит, что это нервы.
Когда Мартти спрашивает, где я была, на меня нападает точно такая тоска, но я отвечаю Мартти спокойным голосом, что была в Ленинграде.
– В Ленинграде? – удивляется Мартти и пошире раскрывает глаза. – Как же вы выжили?
Это обыкновенный вопрос. В нем нет ничего особенного. Человек хочет знать, как выжила я, когда умирали десятки тысяч других. Я сама рассказывала туристам о блокаде во время экскурсии по городу, когда мы стояли против исполкома.
Но одно дело – говорить о войне там, где это предусмотрено программой экскурсии. Другое дело – объяснить человеку, отчего ты осталась жива, если он, этот человек, – один из тех, кто все сделал, чтобы ты не существовала.
Вокруг нас собираются туристы. Они становятся по обе стороны от нас и ждут: некоторые из них успели захватить начало разговора. Я молчу. Я пытаюсь преодолеть барьер, внезапно разделивший меня и Мартти, отбросивший нас на двадцать лет назад и поставивший друг против друга. Я пытаюсь снова увидеть в Мартти только туриста, связанного с миром через меня – гида. Я пытаюсь поверить, что Мартти родился в туристском автобусе.
Нет, я не хочу, чтобы Мартти родился в туристском автобусе! Пусть останутся его связи с жизнью – от простых до сложных – такими, какие они есть, пусть он будет самим собой, пусть спрашивает с любопытством: «Как же вы выжили?»
Мартти не ждет ответа. Он поворачивается к кому-то из туристов и говорит, показывая на Ленинград:
– Вот это Исаакий. Он виден издали. В войну он был перекрашен, но все равно служил ориентиром для немецкой артиллерии. А Валкосаари отсюда не видно. Мы прочно засели там в железном доте. Железный – так мы его называли, думали, нас ничто оттуда не вышибет. Разве что – приказ захватить город. Иногда нам казалось, что в городе уже никого в живых не осталось. Но однажды Мякинен – никто из вас не знал Эско Мякинена, сына старика Мякинена из Рованиеми? – он вышел помочиться, и – фьють! – никто не успел рта раскрыть, он свалился мешком. Никогда не видел смерти нелепее. С него и началось, с Мякинена.
– Замолчите.
Я думала, что кричу, а говорила неожиданно тихо. Толпа колыхнулась. Мартти обернулся ко мне:
– Что ж, разве я один воевал? Все воевали. Только я говорю, а другие молчат. Ну спросите их, нэйти! Спросите! Ты воевал? А ты?
– Воевал.
Это сказал грузный мужчина. Он выдвинулся из толпы и стал против Мартти, как бы заслоняя меня.
– Воевал. Заставили – воевать. Ведь одних заставляют стрелять, а другие стреляют потому, что им это, видно, нравится.
– Что ж, – Мартти пожал плечами, – люди рождаются артистами, учеными. Почему бы им не рождаться солдатами?
– А за что воевать? Во имя чего? Твой Мякинен – я не знал его, – может, он был неплохим парнем, – строил какие-то планы, надеялся. А потом – мешком около железного дота. Почему? Во имя чего? Ты можешь ответить?
– А почему под солнцем растет трава? Ты можешь ответить? Свои законы у природы, свои законы у войны.
– Я спрашиваю, для чего такие войны? Кому они нужны с их дурацкими законами?
– Для нации.
– Тьфу, – сплюнул грузный и шагнул в сторону.
– Видите, – сказал Мартти. – Человек без идей – мещанин. Он держится за свое барахло.
– Это наша жизнь – барахло? – спросил из толпы рябой пожилой финн. У него были большие руки, он стиснул их в кулаки. – Наша жизнь – барахло? Конечно, для таких, как ты, тысяча живых, тысяча мертвых – какая разница! А у нее, – он показал на меня, – нет отца и матери. У меня сын погиб, у нее, – он показал на одну из туристок, – муж. По вине таких балаболок, как ты. Какое ты имеешь право говорить от имени нации? Много ты понимаешь, что нации нужно! Из-за таких, как ты…
– Нашел виновного! – Мартти задвигался, зашевелился, попытался рассмеяться. – Нашел с кого спрашивать за войну. Я был рядовым, валялся в окопах, у смерти под рукой, ты думаешь, мне жить не хотелось? Прошел всю войну…
– И ничему не научился.
– А чему ты научился?
– Я смотрю на город и вижу город, а ты смотришь на город – видишь мишень.
Мартти улыбнулся:
– Кто видит мишень? Все мы видим город. Прекрасный город! И нэйти сейчас расскажет нам о нем что-нибудь интересное.
Это он обращался ко мне. Я помедлила и начала:
– Этот парк был заложен в день окончания войны, девятого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. И назван он парком Победы…
…Мы уезжали со стадиона. Я сидела на своем обычном месте, рядом с шофером. В самом конце автобуса примостился в углу Мартти. Он напряженно смотрел в окно. Между ним и мною разместились на мягких сиденьях двадцать туристов третьего класса.
25
Итак, я защищаю диплом: «Суффиксы в финском языке». Да кому это интересно! Даже моему руководителю, даже комиссии нет дела до суффиксов. Что там суффиксы! Каждый день мы открываем газеты: как дела в мире, что слышно в Ираке, Испании, как дела с сельским хозяйством, со строительством.
Впрочем, со строительством все в порядке. А скоро будет еще лучше: ведь коробки хоть и медленно, но все-таки движутся вперед. Мы работаем над ними не покладая рук! Но они, эти коробки, оказались сложным делом.
Они капризничали, требовали особых механизмов для сборки, специальной теплоизоляции, и даже окна в этих коробках было сделать сложнее, чем в обыкновенном доме. Юрка огорчался, у него падало настроение, и тогда я делала вид, что никаких коробок и в помине нет, и мы старательно обходили все смежные темы. Но я так привыкла к этим коробкам, что не могла не говорить о них и не узнавать о них все новое, даже если эти новости огорчали Юрку. Одним словом, коробки были делом, а мой диплом о суффиксах – бумагой, которой предстояло пылиться в университетском архиве. Я, конечно, его защитила. Комиссия была равнодушна к суффиксам и ко мне и поставила мне четверку. Больше мне было не нужно.
И вот диплом защищает Юрка. С утра все вверх тормашками. Я на работе, но чисто механически. Механически сажусь в автобус, даю шоферу механические распоряжения, механически веду экскурсию.
– Мы на площади Искусств. Справа – здание Филармонии, прямо, обратите внимание, Русский музей.
…Он еще только вошел в зал и развешивает свои чертежи.
– Мы – на Дворцовой площади. Прямо, обратите внимание, Зимний дворец, позади – Генеральный штаб.
…Защита идет полным ходом. Я держу за тебя кулаки, Юрка.
– Длина Невского проспекта – четыре километра. Справа – обратите внимание – дома. Слева – тоже дома.
…Шеф, конечно, тоже приперся. Только бы он не вылез со своими замечаниями. Только бы пронесло…
Я кончаю экскурсию. Никто не задает мне ни одного вопроса. Всем все ясно. Я бегу домой. Здесь, дома, должна лежать записка от Юрки. И она лежит. «Где тебя носит? У меня все прекрасно. Сиди дома».
У него все прекрасно! Не хорошо, а именно прекрасно! У него не может быть иначе. Он ведь очень удачлив в жизни. И мне будет легко с ним, потому что все ему будет удаваться.
Юрка приходит ко мне вечером. Я никогда не видела его таким. Он хватает стул и начинает жонглировать им. Я боюсь, что стул упадет, разобьет что-нибудь, и кричу: «Перестань, сумасшедший!» Но он хохочет, тормошит меня. Потом садится к столу, разглаживает скатерть и говорит важно:
– Меня оставляют!
– В аспирантуре?! – вскрикиваю я.








