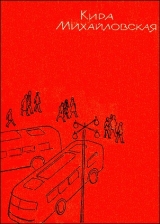
Текст книги "Переводчица из «Интуриста»"
Автор книги: Кира Михайловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 10 страниц)
Одна эта жизнь уравновешивает жизни десятков тысяч людей, находящихся на другом полюсе.
Странно, что у него не три лица, а только одно. Странно, что он ходит, как все люди. Странно, что у него есть голос – сухой и негибкий.
«Дорогая, – говорит этот голос, – мы не у себя дома. Мы находимся в другой стране».
Вы слышите, мадам Бранд, даже фон Ренкенцов напоминает вам, что вы находитесь в другой стране!
Мы уже целый час сидим в ресторане за ужином. «За скромным ужином», – как сказал фон Ренкенцов, когда приглашал нас. Фон Ренкенцов выступает на этом ужине как хозяин и переводчик, а я – как приглашенное лицо. Поэтому я больше молчу, а если разговариваю, то с Мартой или Русаковым. Нас обслуживает самый опытный официант ресторана, дядя Миша. Он работает быстро, красиво, и поэтому именно ему дают новичков, которые только приходят в ресторан. Сейчас с дядей Мишей работает невысокий, крепко сбитый парень. Он смущается, без конца перекидывает салфетку с руки на руку и подолгу ходит вокруг стола. Мне жаль его. Мы с ним немного знакомы: он иногда опаздывает на работу, и мы сталкиваемся тогда в проходной, около доски с номерками. Мне жаль смотреть, как мучается он, потеет и ходит вокруг стола, не зная, с какой стороны подступиться. Уж очень неловок этот парень! Может быть, он ошибся, поступив на работу в ресторан? Может быть, его призвание – совсем не работа официанта? Руки у него длинные, с большими покрасневшими ладонями и узловатыми пальцами. Может быть, из парня получился бы хороший шофер? Быть может, ему надо крутить баранку, а не убирать тарелки? Вот он хочет убрать тарелку у мадам Бранд и дать ей чистую. Но делает это так неловко, что тарелка падает из рук прямо на скатерть. Я поднимаю глаза на парня. У него на лице такое отчаяние, такая беспомощность, как будто мир стоит на краю катастрофы.
«Треньк!» – звенит тарелка. Мадам Бранд застывает. Фон Ренкенцов оборачивается к ней и тут же вскакивает со стула. Все смотрят на мадам, а она медленно, неловко согнувшись, поднимается из-за стола, поддерживая одной рукой подол платья, а другой судорожно хватаясь за воздух. Фон Ренкенцов подхватывает ее, помогает ей выпрямиться, и все мы видим пятно на белом платье мадам. Я смотрю на всех сидящих за столом и вижу на нескольких лицах тот же ужас, что и на лице маленького официанта. «Неужели это так ужасно?» – думаю я и слышу теплый урчащий бас Русакова:
– Это ничего… Это бывает…
Русаков подходит к мадам и говорит с улыбкой:
– Простите, мадам Бранд. И не огорчайтесь. Вам приведут платье в порядок.
Мадам смотрит на фон Ренкенцова, а фон Ренкенцов, переведя слова Русакова, наклоняется к мадам и говорит ей тихо: «Дорогая, мы не у себя дома, мы находимся в другой стране, и вы не должны забывать об этом».
Ренкенцов говорит искренне, он не предполагал, как видно, что выйдет такой скандал.
– Да, в другой. В другой! – выкрикивает мадам Бранд.
Мадам тоже кажется искренней. Ей, наверное, очень жаль своего платья.
– Дорогая, – скрипит фон Ренкенцов.
– Я ничего не хочу слышать! Мне надоело! Мне все надоело!
Это она говорит правду. Ей, видно, все до смерти надоело.
Парень робко приближается к Альме Бранд.
– Прочь! – кричит мадам.
Парень выпрямляется. Он не понимает еще, что сказано, но по интонации уловил, что сказано что-то резкое. И в тот момент, когда он выпрямился, Альма Бранд наотмашь бьет его по лицу. Она делает это ловко, почти профессионально. На щеке у парня сразу же выступает красное пятно. А парень бледнеет… Зал гудит. Многие вскакивают из-за столов и спешат к нам. Русаков резко поворачивается и выходит из зала. Возмущенно перешептываются представители Торговой палаты. Я подхожу к парню.
– Не стой здесь! Идем! – говорю я.
Уходят из ресторана Альма Бранд и фон Ренкенцов. Мы с парнем идем в официантскую, а навстречу нам спешит из кухни дядя Миша. Он несет на подносе новые закуски.
Мы не виделись с вами, мадам, после того случая. Чем он кончился для вас? Надеюсь, ничего серьезного? Фон Ренкенцов, наверное, был благоразумен, и вам не очень влетело. Вы по-прежнему дружны с ним? Я не знаю, как вы живете. Может быть, рента, дом с садом, небольшое хозяйство? А может быть, по-прежнему – служите хозяину?..
55
На другой день Русаков не появлялся на выставке, но через день пришел – сердитый, бледный, под глазами мешки.
– Опять курили? – спросила я его в коридоре.
– Опять курил.
– Ведь врач сказал: нельзя. Нельзя больше трех папирос. Так ведь вам наплевать. Вот умрете раньше времени…
– Не умру. Мы еще повоюем.
– Навоевались. Так навоевались – стыдно вспомнить.
– Верно. Вспомнить стыдно. Только это еще не конец.
– Когда же он будет – конец? Когда все это кончится?
– Вот проводим мадам, господина фон Ренкенцова, соберемся в спокойной обстановке с представителями фирм, обсудим все вопросы, придем к решению – тогда и конец.
– Мадам уезжает?
– Предложили.
– Вы?
– Зачем я? Государство наше предложило. Может, кто-нибудь и надеялся, что выставку выдворят тоже, но у нас решили иначе. Выставка остается.
– А как же будет?
– Остается Марта Стооль, представители фирм.
– Вот видите! Вот видите, какой вы! А еще курите…
Русаков улыбается.
– Ничего я не курю. Я послушный, Ася.
Очень он послушный, Русаков! Целыми днями сидит в кабинете с представителями фирм и все курит, курит. Им, этим представителям, если позволить, так они Русакова бы совсем замучили и нас всех своими товарами завалили. Русакову это нравится. Они, кажется, договорятся. Договорятся – как пить дать!
56
Уезжает выставка. Манекенши уже уехали, экспонаты отгружены. Мы провожаем Марту. Нам, честное слово, жаль расставаться с нею. Мы грустны – Русаков и я. И Марта грустна тоже. Ведь мы расстаемся навсегда. От выставки, от ее забот, волнений, от всего, что пережили мы с Русаковым, остается одна эта женщина – маленькая, худая, с сумкой в руках. Она переминается с ноги на ногу, она поднимает к Русакову милое серьезное лицо, на меня смотрит грустными глазами – вот сейчас она поднимется по трапу, исчезнет в дверях самолета, и вместе с нею исчезнет…
Постойте! Сначала надо проститься.
– Милая, милая моя Марта! – говорю я и беру ее за руку. – Вы приедете?
Марта кивает, опускает голову и чертит что-то носком туфля на асфальте.
– Вы купите путевку и приедете как туристка, – повторяю я, и Марта опять кивает и опять опускает голову.
– Вы приедете уже без мадам Бранд, – говорю я, – и Марта слабо улыбается. Мы все улыбаемся немножко.
– А может быть, я и не приеду, – говорит Марта.
– Обязательно приедете. У вас впереди вся жизнь, – улыбается Русаков. – Вы такая молодая.
– Молодая… – Марта смотрит в глаза Русакову. – Да, я как будто родилась недавно.
Это говорит Марта, молчаливая, застенчивая Марта, которая никогда ничего не говорит просто так. Нам становится еще грустнее.
– Ну вот и хорошо, – Русаков пытается быть веселым. – Вот и чудесно, вот и приезжайте.
Марта поднимает глаза на Русакова:
– Я вернусь на фабрику. Я буду делать рисунки новых тканей. И если мне удастся сделать что-нибудь хорошее, я назову эту ткань «Россия».
Мы тронуты. Русаков берет Марту за руку и гладит ее ладонь.
– Мы не забудем вас.
Вы и не знаете, Марта, сколько правды в этих словах Русакова.
57
Ты приходишь вечером в комнату переводчиков. Ты еле передвигаешь ноги от усталости. В комнате полумрак. Тихо. Ты плюхаешься на стул рядом с дверью, вытягиваешь онемевшие ноги и закрываешь глаза. Кто-то вздыхает рядом. Ты зажигаешь свет и видишь Валю. Если человек поздно вечером сидит в комнате переводчиков, если он вздыхает в темноте, – значит, человеку не повезло.
– Ты что, Валя, так поздно?
– Турист, ученый. С утра до вечера на заседаниях, встречах, и перевод такой сложный, специальный… Ты слышала, в Выборге открывается отделение «Интуриста»? Будут набирать переводчиков с твоим языком.
Валя закуривает сигарету.
– Вот выкурю последнюю, и пойдем. Слышишь, внизу часы бьют? Я все думаю, – как пробьют, пойду. Четвертый раз бьют, а я все здесь. Как твоя выставка?
– Уехала.
– Неужели это все правда? Все, что рассказывают?
– Правда.
– И про пощечину – тоже?
– Да.
Мы молчим. За дверью, изредка, приглушенные ковром шаги.
Валя гасит недокуренную сигарету.
– Пошли!
Вот ты идешь с Валей, со своей подругой, по улице. Ты исполнена нежности к ней, шагающей рядом, тебе дороги вот эти минуты, этот путь до Невского, путь, который вы проделываете вдвоем. Тебе хочется, чтобы он был чуть длиннее, потому что тебе кое-что надо сказать Вале. Да и Валя должна кое-что тебе сказать. И ничто не мешает вам. А вот вы уже стоите на Невском, на углу, под часами, от которых ваши пути расходятся, смотрите друг на друга, улыбаетесь и ничего не говорите. Глупые, глупые…
58
Мне нравятся благополучные концы. Нравится, когда любящие находят друг друга, больные поправляются, а не умирают, зло наказывается, а добро торжествует. Если в книге главный герой остается непонятый и страдающий, я думаю, что это только первая часть, что во второй части его непременно поймут, потому что люди не могут жить непонятыми, потому что без человеческого общения, взаимопонимания и любви жизнь теряет свой смысл.
– Все это краснобайство, эти разговоры о любви. Возвести плотину посреди реки, дать людям свет, построить дом каменный, с уборной, ванной, чтобы люди не бегали по нужде на другой конец деревни, – вот это чувства, достойные уважения. Я отвергаю всякое мелкое сюсюканье вокруг отдельного человека. Нет отдельных людей – есть нация и благосостояние, прогресс этой нации.
Так говорит Юрка. Когда он говорит так и стоит передо мной – широкоплечий, мужественный, – я начинаю сомневаться: а может, и правда все, что он говорит, может, самое правильное – это принять Юркину веру, раствориться в ней, служить Юрке и Юркиному делу до гроба и в этом найти счастье.
Когда же я остаюсь одна, когда меня обступают обыкновенные люди – Басманова, тетя Муза, Валя, Гоша, когда я подпускаю к себе их заботы, – Юрка начинает казаться ненастоящим, искусственно сконструированным.
Все мы живем под одним солнцем, но Юрка как будто повернулся к солнцу одной своей стороной. Другая – высохла, перестала существовать. Та самая сторона, которая делает людей людьми. Ведь нам не угрожает опасность превратиться в животных, но мы не избавлены от опасности превратиться в машины.
Об этом бесполезно говорить с Юркой. Он неизменно выйдет победителем из спора. Какой-то любитель афоризмов, из тех, кому нравится разнимать мир на части и укладывать его в формулы, сказал: «Будьте логичны, и вы будете непобедимы». Как будто логика – это не наука, выдуманная самими людьми.
– Ну, что ты молчишь? Что это ты стала молчаливая в последнее время? – спрашивает Юрка.
– Я не молчаливая.
– А что же? Как будто тебя рулоном ватмана по голове стукнули. Кстати, чуть не забыл! Зайди, будь другом, в этот магазин на Невском, знаешь, там на углу Мойки, спроси насчет ватмана. По сорок восемь копеек за лист. Всю Петроградскую облазил – нигде нет.
Мы расстаемся с Юркой, как всегда, на лестнице. Это не наши первые прощания – такие полные, свободные от посторонних мыслей, печальные от разлуки. Сейчас разговоры наши дробятся, вертятся то вокруг Юркиных дел, то вокруг Юркиного настроения. Дневная суета входит в наши прощания.
– И насчет доклада не забудь. Навязали, понимаешь, к юбилейным дням. Как будто у меня есть время на такие вещи. А тебе ведь не трудно сделать? Ты ведь в литературе сильна.
– Хорошо. Я схожу в Публичку.
– Вот-вот, в Публичку сходи. Ну, Аська…
– Пусти!
– Ну еще раз… Последний…
Юрка спускается вниз, когда я окликаю его:
– Юра!
– Да.
– Я забыла тебе сказать. Я уезжаю.
– Куда?
– В Выборг. Работать там буду и жить.
Юра поднимается наверх.
– Почему в Выборг? С какой стати?
– Там отделение открывается «Интуриста». Как раз люди нужны.
– А ты здесь при чем?
– А почему бы нет? Поживу там год, разберусь в себе, подумаю.
– Какого черта это нужно тебе – думать, разбираться… О чем тебе думать, в самом деле? Все так хорошо устраивалось.
– Ты мог бы тоже в Выборг. Там – большое строительство.
– С какой стати? Нет, я определенно не понимаю, чего ты хочешь. Ты как следует подумай, прежде чем решать. Слышишь? И оставь ты эту свою нервозность. Все, в сущности, очень просто. И доклад не забудь. И ватман. Я пошел.
Юрка обнял меня и побежал вниз по лестнице.
59
Выборг – остров Спокойствия. Выборг – обетованная земля. Выборг – это такое место, где распутываются все противоречия, где упрощаются все сложности, откуда истина яснее всего.
Тетя Муза всполошилась:
– Куда ты такая? Кому ты нужна? Господи, что же это такое? Ведь ты каши себе сварить не сумеешь. Какой из тебя там работник – в этом Выборге! Горе одно.
Тетя Муза переполошила всю квартиру. Каждый говорил свое.
Калерия:
– Едешь? Правильно делаешь. Нельзя киснуть на одном месте. Движение – основа жизни. Закон восстановления энергии. Сколько потратишь, столько восстановишь. Без этого – чепуха какая-то, бессмыслица. Я тоже уеду.
Басманова:
– Право, не знаю, что сказать. Я в растерянности необыкновенной. Все так неожиданно: перемещения, изменения… А почему? Не понимаю!
Сосед:
– На ту же работу? Переводчиком? Зря! Они ведь вас обворовывают.
– Кто?
– Туристы. Вы отдаете им силы, расходуете свой душевный потенциал – а что в результате? Пшик! Они уезжают, забывают вас, и приезжают другие. А за то время, что вы возитесь с ними, вы могли бы сделать что-нибудь вещественное.
Он потер большой палец об остальные, изображая этим то вещественное, что я могла сделать. Я подумала, что речь идет о деньгах. Но нет.
– Вы могли бы написать статью по филологии, могли бы готовиться в аспирантуру и – кто знает! – может быть, со временем и защититься. Ведь вы неглупый человек. – Он мотнул головой и дернул плечом. – Вместо того чтобы вложить свои возможности в какое-нибудь действительно реальное дело, вы растрачиваете себя на этой бессмысленной работе с туристами. А они вас попросту обворовывают.
Я удивилась.
– Да, да, обворовывают! – воскликнул сосед. – Будут идти годы, ведь не всю жизнь вы будете молодая, и вы почувствуете в один прекрасный момент, что вы обанкротились, что нет уже ни той силы, ни того задора – ничего нет, кроме усталости. А куда все делось? Ушло, как вода сквозь сито, в этой самой вашей работе.
Сосед помолчал, подумал и прибавил:
– Никогда я не вмешиваюсь в чужие дела, но вам симпатизирую.
Он двинулся к двери, потом остановился:
– Совершенно искренне!
Он дернул плечом, боднулся и вышел вон из комнаты.
– Вот видишь, – сказала тетя Муза. – И он то же говорит.
– Что он говорит? – спросила я.
– Что не надо ехать.
Тетя Муза не поняла ничего из проповедей соседа.
Я могла, наверное, возразить ему что-нибудь, могла, быть может, поспорить, но последнее время я как-то изменилась, во мне не было «того задора», как выразился сосед, и я решила подумать над его словами. «Они обворовывают вас». Смешно было предположить, что меня обворовывают солидные, благопристойные люди.
Но может быть, в словах моего соседа и была истина? Может быть, я действительно могла сейчас уже метить куда-нибудь в аспирантуру, волноваться, вновь сдавая экзамены, и добиваться в жизни успеха? Добиваться его так, как добивается Юрка. И может быть, если бы я поступила именно так, может быть, мне и не пришлось бы расстаться с Юркой? Я бы трудилась честно и добросовестно, и когда-нибудь на стол легла бы книжка в коленкоровом переплете – итог моих трудов. Я бы щупала ее, трогала и знала – вот куда они ушли, мои силы, моя страсть, мое воображение. А что сейчас я могу потрогать? Ничего. Маячат перед моими глазами лица туристов.
Я бы вышла замуж за Юрку, жила бы с ним, встречала его по вечерам в мягких домашних туфлях и шикала на соседей, которые мешают ему заниматься, мешают добиваться… Юрка выстроил бы свои дома, обобщил свой опыт в книжках, и они вместе с моими встали бы на полку в нашей комнате. Мы были бы уже старыми, а книжки стояли бы рядом на полке так близко, что рукой дотянуться. Хочешь вспомнить молодость, хочешь встретиться со своим былым задором – открой переплет книжки. Вот оно: ласкательные суффиксы. Вот он, твой молодой задор.
Нет, неправ мой сосед. Один-единственный раз решил он вмешаться в чужую жизнь, и то неудачно. А, может быть, потому и неудачно, что это случилось один-единственный раз. Пусть живет он за стеною, тихо, никому не мешая, пусть накапливает для книги, диссертации свой опыт, – я буду жить по-своему.
60
У Соколовой в бюро обслуживания.
– Я хочу уехать.
– Куда?
– В Выборг. Я слышала, там открывается отделение «Интуриста». Наверное, нужны люди.
– Люди очень нужны.
Соколова снимает пенсне и прикрывает глаза ладонью.
– Очень хорошо, что вы сами. Люди нам нужны, но еще нужней добровольцы.
Сощурив глаза, Соколова тщательно протирает стекла пенсне.
– А почему вы решили? Что вас натолкнуло?
– Так. «Привычка к перемене мест».
– Вот как!
Соколова улыбается и смотрит на меня через толстые стекла так, как будто мне не двадцать с лишним лет, а три года.
– Кстати, как ваше замужество?
– Замужество?.. Оно не состоялось, – говорю я и смотрю прямо в глаза Соколовой.
– Вот как? Тогда рассказывайте!
– Что?
– Все с самого начала.
А где оно было – начало? С чего началось? С блокады? Или, может, потом, с Юрки? Или все началось с «Интуриста»?
– Я не могу сначала. Я буду с середины.
…Бьют часы в кабинете управляющего. Вызванивают тоненько каминные часы в холле. Ночь прислоняется к окну. Замолкают в гостинице все разговоры, шумы, шорохи. Спит гостиница. Спит управляющий «Интуристом», спит Гоша, спят официанты ресторана и переводчики, спит швейцар.
Мы сидим с Соколовой друг против друга.
– Я понимаю, – говорит Соколова. – У каждого человека так бывает, наступает необходимость объяснить какие-то вещи самому себе, разобраться в накопленных впечатлениях. В одном только вы ошибаетесь. Нет обетованных земель, нет островов спасенья, нет медвежьих углов. Куда бы вы ни бежали – вас всюду обступит жизнь, вплотную – к горлу – и поставит перед вами десятки других вопросов. И не бояться этого надо, а радоваться этому.
– Я не бегу.
– Нет, вы бежите. Нам нужны в Выборге люди, и я могу послать вас туда с легким сердцем. И вы с легким сердцем поедете туда, потому что вы бежите от тех вопросов, которые здесь стоят перед вами. Но ведь я хочу, чтобы вы были не просто хорошим переводчиком, Ася. Я хочу, чтобы вы были мужественным человеком.
– Мне трудно.
– Знаю. Хорошим людям трудно, Ася. И чем лучше человек, тем труднее ему на свете.
Мы идем с Соколовой к Невскому. Холодная ночь сыплет мелким рассеянным дождем. В мокром асфальте расплываются огни фонарей. Соколова поднимает воротник пальто и прячет руки в карманы.
Мы долго стоим на остановке, пока не появляется вдали неверный мигающий глаз трамвая. Не мой номер. Соколова входит в пустой вагон и машет мне рукой из тепла и света. Я остаюсь одна на остановке, усыпанной желтыми неподвижными листьями.
61
Вся квартира спала. Только в нашей комнате горел свет. Тетя Муза ждала меня.
– Работаешь все? Ну можно ли так? Ты о себе подумай! Смотри, на кого похожа стала. Лицо длинное, глаза запали. Ты хоть ешь как следует. Молока попей. Сила-то, она от молока. А я заждалась, у окна стояла, караулила. Идет народ, а тебя все нет. Думаю, подожду еще немного и пойду на работу к тебе. К самому Русакову пойду.
– Нету Русакова, тетя Муза.
– Куда же он делся?
– Уехал. В Москву.
– Ну, в Москву – это недалеко.
– Шестьсот километров. Больше не хочу, тетя Муза. Напилась уже. Давайте спать ложиться.
– Ты ложись, ложись, я тебя укрою. Уж рассветать начнет скоро, а мы с тобой только еще спать…








