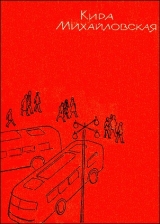
Текст книги "Переводчица из «Интуриста»"
Автор книги: Кира Михайловская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Юрка кивает. И тут же вскакивает со стула, хватает книги с полки, кидает их на диван, потом кидает на диван свое пальто, мое пальто и все, что попадает под руку. Потом он останавливается и смотрит вокруг: что бы такое сделать! Он замечает меня и подхватывает на руки. Я сопротивляюсь, смеюсь и вдруг замолкаю. Юрка останавливается. Сердце у него начинает биться тяжело и медленно.
– Пусти, – прошу я. – Пусти, пожалуйста.
А сама думаю испуганно и смущенно: «Не пускай!» Мне томительно и любопытно в его плену.
Лицо у Юрки становится напряженным, а я еле шевелю губами: «Пусти!» Юрка отпускает меня внезапно, и я выскользаю из его рук.
Так в наших отношениях с Юркой рождается сложность. Сначала маленькая, лукавая, а потом взрослая, настоящая…
Так мы перестаем быть девчонкой и мальчишкой, а становимся двумя государствами – каждое со своим дипломатическим статусом и со своей внешней политикой. Так, наконец, мы делаем первые шаги в организации маленьких государственных хитростей.
Слов нет – Юрка умнее меня, интереснее меня, лучше… Но как государство Юрка никуда не годится. Кто это вздумал сделать дипломатами мужчин? Не в этом ли причина сложного международного положения?.. Все Юркины попытки хорохориться и выглядеть независимым проваливаются одна за другой. Стоит мне только быть нежной.
День за днем мы встречаемся с Юркой. И день за днем растет мое могущество и благосостояние за счет могущества и благосостояния Юрки. А он не жалеет. Он идет ко мне в кабалу добродушно и с удовольствием. Впрочем, иногда события оборачиваются так, что я задумываюсь, не призрачно ли мое могущество? Ведь есть одно обстоятельство, одна государственная тайна: я люблю Юрку.
…Неужели это Ленинград! Дома такие же, как во многих городах России. Улицы, конечно, прямые, но смотри какие узкие! Нет ни Зимнего, ни Петропавловки. Нет Невы, нет каналов. Автобусы – такие же, как всюду. Трамваи – такие же. А пешеходы – разве отличишь от других, москвичей, киевлян?
Да разве ты не видишь, что это Ленинград? Потому что над домами, над автобусами, над пешеходами и над нами с тобой – белая ночь. Стоит, не убывая, не прибывая. Краски исчезли. Не стало объемов. Только силуэты. Они очерчены четко, даже многопалый лист рябины – словно рисунок тушью. И усы телевизионных антенн над домами прочерчены тонким чертежным пером. И весь город – как отражение в стекле. Разве не видишь, что это Ленинград?
Мне бы давным-давно проститься с Юркой, а я все хожу и хожу с ним по городу. Юрке некуда торопиться, мать его уехала в деревню, а меня ждет дома тетя Муза.
– Ну, можешь ты всю ночь проходить по городу?
Не надо, Юрка, брать меня за плечи. Пусть будет нежность недозволенным приемом, ведь когда ты вот так нежен со мною, могущество моей державы кажется мне призрачным.
На этом кончаются два государства со своим дипломатическим статусом и внешней политикой и начинаются два человека, теплые и доверчивые. Они стоят на лестнице нашего дома. Свет ночи не проникает в окна. Ночь как будто караулит у парадной, не входит в дом. На площадке полутемно и веет необжитым холодком пустынной каменной парадной.
Я сажусь на подоконник и спрашиваю Юрку:
– Что будет дальше?
Мне почему-то хочется думать о будущем. Не о том будущем, которое наступит после того, как мы расстанемся, а о том, которое маячит где-то впереди и до которого нам еще идти и идти…
Юрка отвечает мне:
– Дальше будет светлое будущее.
Надо быть порядочным циником, чтобы сказать вот так… Мне на минутку даже кажется, будто Юрка ухмыляется при этом. Нет, лицо его чисто, а глаза смотрят на меня и улыбаются. Под этой улыбкой тают все мои подозрения.
– Странное дело, – вслух раздумывает Юрка, – я знаю моего шефа, он разгадан мною настолько, что стоит ему только подумать – я уже знаю о чем. И вместе с тем я не знаю, как себя вести с ним. Я никак не могу выработать линию поведения по отношению к этому человеку. Может, поэтому мы и не ладим. Я еще не проложил своего курса.
– А может, и не надо курса? Может, просто так?..
– Просто так только между дикарями бывает. И то, наверное, не просто. А когда встречаются два цивилизованных человека со сложившимися взглядами, с собственным мнением и собственным характером, между ними сразу встает проблема сосуществования. Слышала что-нибудь о сосуществовании? Вот это и есть проблема своего курса.
Подумать только! Я прожила столько лет и понятия не имела о таких сложных вещах. Жила просто так, как бог на душу положит. И всегда со всеми – и с тетей Музой, и с Басмановой, и с Валей, – всегда все было хорошо. Может, это только случайно выходило хорошо?
– Юрка, а как же я? Я ведь совсем без линии и без курса.
– Ты – другое дело. Ты молодая и непосредственная, за счет этого тебе еще долго все будет удаваться. А когда станешь старше, потеряешь непосредственность и будешь такая, как все, тогда все будет зависеть от твоего курса, от линии твоего поведения.
– А если не потеряю непосредственности?
– Если не потеряешь, станешь смешной. Как старуха в детском капоре.
– Юрка, я не хвастаюсь, но меня и правда все до сих пор любили. И не потому, что у меня какая-нибудь особенная линия была, а просто так, за меня самое, за то, что я со всеми всегда была откровенна.
– Нет, не за это. Просто ни у кого еще не было причин не любить тебя. Милое создание, наивное, молоденькое, ничему и никому не угрожает – ничьим взглядам, ничьему положению. Ничего не изменяет в жизни других, никому не мешает: почему бы и не любить? А откровенность… К откровенности были снисходительны. Прощали ее. Ведь она тоже безобидна.
– Юрка, я обижусь…
– Вот видишь! Я все это сказал тебе, чтобы показать, к чему приводит откровенность, которую ты, кажется, исповедуешь, как веру. Я был с тобой откровенен, а ты «обижусь»…
Нет, не могу я состязаться с Юркой. Я в сто раз глупее его.
– А если любишь, Юрка? Даже и тогда не надо быть откровенным?
– Вот представь себе, что перед тобой книга. Ты читаешь ее с интересом, ты будешь относиться к ней с интересом до тех пор, пока в ней есть хоть одна непрочитанная страница, но вот ты дочитала последнюю страницу. Что ты дальше делаешь? Закрываешь книгу и ставишь на полку. Откровенность – это как последняя страница в книге. А за нею – обложка.
– Ну при чем, при чем здесь книги? Может, у книг есть обложки, но люди – они ведь живые, у них есть сердце и ум и никаких обложек. Людям нужна откровенность – иначе они жить не могут.
– Только так они и могут жить. Представь себе, что все люди стали бы откровенны друг с другом, – стало бы невозможно ни жить, ни работать. Я должен был бы покинуть институт, потому что не люблю своего шефа. Там, где нравилось бы мне, быть может, не нравился бы я, а там, где нравился бы я, возможно, не понравилось бы мне.
– Значит, надо обязательно обманывать кого-то?
– О святая простота! – говорит Юрка и кладет руки мне на плечи.
Он придвигается ко мне близко-близко, и я сразу забываю про все на свете. Я провожу рукой по его щеке и говорю шепотом:
– Ты, кажется, не брился.
– Бритва сломалась, – шепотом отвечает мне Юрка.
– Ну, а как же ты будешь?..
– Не знаю, – говорит Юрка и ищет губами мои губы. Кто-то поднимается по лестнице, я толкаю Юрку в плечо, он отступает от меня на полшага и говорит громко:
– Может, ее просто маслом надо смазать. Может, она потому и не ходит, что давно не смазана,
Я молчу.
– Такие сейчас нигде в ремонт не берут, только на Сенной. А там всегда очередь.
Мимо нас, медленно переставляя ноги, проходит мужчина. Мы смотрим ему вслед. Когда хлопает дверь и снова на лестнице становится тихо, Юрка обнимает меня.
– Я пойду, пора…
– Погоди. Я провожу тебя до двери.
Мы поднимаемся вверх и на каждой площадке стоим по несколько минут. Мы знаем, что завтра встретимся снова, и все-таки нам тяжело расставаться. И путь по лестнице до нашей квартиры оказывается очень коротким. Сейчас я стану лицом к двери, открою дверь ключом – и все. Но прежде я обернусь и поцелую Юрку, потому что знаю, что он стоит за моей спиной и ждет этого.
26
Бом… бом… бом… – бьют часы в кабинете управляющего, и сразу же прихотливо и мелодично начинают вызванивать старинные каминные часы в вестибюле. Раньше в девять часов мы начинали работу. А теперь в это время в гостинице ни души. Вернее, души есть, но это души туристов, а души переводчиков еще спят дома. Все, кроме одной. Моя душа… Лучше не говорить о моей душе.
– Прошу, пани. Где есть ресторан?
Молодой поляк стоит, склонив передо мною темную, гладко зачесанную голову. Лицо у поляка нежно-розовое. Над верхней губой – кокетливые усики.
– Прямо и направо.
Губы раздвигаются в улыбке.
– Спасибо, пани.
Я смотрю вслед поляку. Походка у него легкая, балетная, и быстро двигаются ноги в маленьких остроносых туфлях. Пятки вместе, носки врозь. Таких, или похожих, поляков я видела в «Лебедином озере» в сцене бала. Те же усики, тот же косой пробор! И цвет лица нежно-розовый тот же. Представляю, как летит этот поляк, сверкая атласными штанами, в стремительной мазурке, прямо к ресторану. Пятки вместе, носки врозь. Смеюсь. И тут же спохватываюсь, не видел ли кто.
У газетного киоска, спиной к витрине, стоит молодой мужчина в очках и темном берете. Смотрит на меня. Хочу повернуться и уйти, он поднимает руку. Подходит ко мне. Улыбается.
– Не смущайтесь. Я тоже иногда вспомню что-нибудь и засмеюсь. Станислав Марек. Я здесь на съезде астрономов.
Голос у мужчины приятный. Говорит по-русски чисто, чуть смягчая слова.
– Анна. Переводчица.
– Я так и думал, что вы переводчица. Все женщины в этой гостинице – переводчицы. А тот поляк, с которым вы разговаривали, он – астроном. Известный польский ученый.
– Ну и пусть, – говорю я.
– Пусть, пусть, – смеется Станислав. – Пусть. Какое смешное слово! Русский язык такой красивый, и вдруг такое военное слово: пусть. Оно сейчас выстрелит. Вы были в Чехословакии? Никогда не были в Праге?
Как может человек заблуждаться! По словам Станислава, Прага – самый красивый город на свете. Там есть соборы и каштаны, Влтава и мосты через нее.
– А белые ночи у вас есть? – спрашиваю я.
У Станислава растерянное лицо. Нет, белых ночей никогда не было в Праге.
Станислав достает из внутреннего кармана пиджака маленькую, обернутую в целлофан пластинку.
– На память, – говорит он, смущаясь, – песенка о Праге. И конечно, о весне, потому что поэты не представляют себе Прагу в другое время года. И конечно, о любви, потому что все чешские песни – о любви.
У меня нет с собой ничего, что я могла бы подарить Станиславу. Но мне очень хочется подарить ему что-нибудь, и я говорю:
– Погодите.
Быстро поднимаюсь во второй этаж и заглядываю в сумку. Ничего интересного в сумке нет. Правда, есть финский платок с бабкой с веником, но как можно его отдать? Я верчу платок в руках и потом решаю. Я бегу вниз.
– Вот, – протягиваю я платок. – Это, конечно, не песня, но все-таки…
Станислав разглаживает руками бабку.
– О, какая женщина!
– Это не женщина. Это бабка, – говорю я.
Станислав повязывает мой платок на шею. Мне грустно смотреть, как финская бабка исчезает под пиджаком, взмахнув на прощание веником. Отправляйся, бабка, в новый путь, в новые странствия по свету! Счастливого путешествия!
Я уношу пластинку с песенкой о Праге. Я никому не показываю ее целый день. И достаю из сумки только вечером, когда прихожу домой.
– Обедать будешь или ужинать? – спрашивает тетя Муза.
– Ничего не буду.
– Целый день на дипломатической работе – и «ничего не буду», – Басманова трясет букольками.
– Не только день, но и ночь, – хихикает Калерия.
Интересно, что думают о любви молчаливая тетя Муза, седая Басманова и сухая как щепка Калоша? Или они никогда не думают о любви?
Из целлофана я вынимаю пластинку и ставлю ее на диск проигрывателя. По пластинке бегут волны, и томный голос поет: «Мам те рада.»
27
Я лежу на диване и думаю о Юрке. Раньше мне было достаточно только быть с Юркой и только слушать его. Теперь мне хочется еще и думать о нем. Может быть, это стремление к познанию заложил во мне Юрка? Ведь он любит изучать людей, он считает, что знает их.
А что это значит: знать людей? И разве можно знать всех людей на свете? Или они делятся на категории и по категориям их можно изучить? Например, категория честолюбцев или категория добряков… Но как же быть с неожиданностями? Вот говорят же: «Он оказался неожиданно хорошим человеком». Иногда люди и сами не знают, что они такое – хорошие они или плохие, герои или не герои. Человек всю жизнь стоит у станка и очень счастлив, а может, из него получился бы отличный космонавт? А негодяй, например, всю жизнь думает, что он порядочный человек, и не подвернись случай – так и не узнает, какой он есть.
Нет, нельзя знать всех людей – раз они такие разные. Можно только узнать себя и быть самим собой. Но как же тогда с «линией поведения»? Да, как же с линией поведения? И для чего она нужна? Чтобы преуспевать? А преуспевать – это все равно что делать карьеру? Я спросила Юрку: «Ты карьерист?» Он ответил: «Нет, я рационалист».
Вот оно слово – рационализм! Юрка говорит: «Мы живем в двадцатом веке, нам ни к чему сентиментальные излияния. Практицизм – вот что нам нужно». Ну что ж, он, может, и прав. Практичные платья, практичная мебель. Даже архитектура… Когда мы с Юркой шли по улице Зодчего Росси, он остановил меня и сказал: «А ведь неплохо, а? И пропорции, и стиль, и чувство меры. А не смотрится. Не восхищает. Черт знает, анахронизм какой-то!» – «Да, теперь так не строят», – сказала я, хотя, по-моему, все-таки вполне «смотрится». Но спорить с Юркой об архитектуре – дело гиблое.
Ну хорошо, архитектура, одежда, промышленность – все это дела людей. А сами люди? Их отношения? «Отношения, – сказал Юрка, – служат делу так же, как служим мы сами. Это самое большое и самое сильное значение человеческих отношений. Если бы человек мог осуществлять прогресс в одиночку, ему не было бы нужды вступать в отношения с другими людьми». Мне никогда не приходило в голову рассматривать людей только как «двигателей прогресса». С людьми интересно работать, пойти в кино, поговорить… Мои доводы иссякают. Они такие простые, такие слабые перед стройной системой Юрки. Юрка, вооруженный этой системой, отделяется для меня от Юрки небритого, целующего меня в парадном. Он начинает отдельное существование. Он со своим высоким предназначением пугает меня. Я стараюсь не думать о нем, стараюсь вспомнить, как выглядит тот Юрка, обыкновенный, мой. У него широко расставленные рыжие глаза и брови поднимаются к вискам от переносья, и он любит тереться небритой щекой о мою щеку. А ведь, если подумать, это так нерационально! Я успокаиваюсь, отворачиваюсь к стене и засыпаю.
Я просыпаюсь разбитая. Мне снился глупый сон. Всю ночь Юрка вооруженный боролся с небритым Юркой. Хотел истребить его. Я пыталась помочь моему Юрке, но не могла: я спала. Это было невыносимо.
– Вставай, вставай, на работу опоздаешь, – говорит тетя Муза. Она не понимает, что всю ночь мне снился сон и что сейчас голова у меня тяжелая и мысли тяжелые, неповоротливые. Спросить, что ли, у тети Музы, что бы значил такой сон? Странно все-таки, что тетя Муза, работник отдела кадров на передовом ленинградском заводе, верит в сны и предчувствия.
– Сейчас, – говорю я тете Музе. – Сейчас встану.
Я заворачиваюсь в одеяло и прикрываю глаза. Сквозь ресницы я вижу, как в дрожащей комнате ходит дрожащая тетя Муза и собирает на стол завтрак. Это нехорошо, что она уже ходит, а я еще лежу. Я сажусь в постели и вдруг вспоминаю: ведь я уезжаю с Юркой на юг! Он сказал вчера, что мы с ним поедем. Если меня отпустят, если не будет против Соколова. И если – самое главное! – тетя Муза разрешит мне. Я вчера робела поговорить с тетей Музой. А сейчас мы обе торопимся на работу и самое время поговорить.
– Тетя Муза, – говорю я, – вы помните, как мне всегда хотелось поехать на юг? Так вот! Я до сих пор хочу на юг.
– Ну и что? – говорит тетя Муза и бросает в маленький заварной чайник щепоть чая.
– Как что? Вы понимаете, я всю жизнь могу прожить и не побывать на юге. Вот как вы, например. Когда-то у вас все времени не было и денег, а теперь у вас давление…
– Ты что, на юг, что ли, собралась? И с кем, интересно?
– Что значит – с кем? И почему непременно «собралась»? Я просто хотела обсудить с вами…
– Вечером обсудим, – говорит тетя Муза, – а сейчас быстро мойся и садись за стол.
Всегда она так!
28
Лето в разгаре. В разгаре туристский сезон. Распахнуты двери и окна гостиницы. Швейцар сидит у входа и смотрит перед собой. Жарко швейцару. Медленно и плавно двигаются распаренные туристы, а переводчики бродят по гостинице, как в лучших немых фильмах. Они плавятся на ходу. Гоша вбегает в комнату и дико поводит глазами: комната пуста. Гоша облизывает пересохшие губы, достает из кармана смятый листок и в сотый раз перечитывает имена туристов, оставшихся без переводчиков. Так каждый день Гоша исполняет «Страсти по „Интуристу“», исполняет с неподдельным волнением и в полном одиночестве. Мы, переводчики, не видим друг друга иногда неделями. Кто-то уехал «по туру», кто-то оторвался от «Интуриста» и работает с большой группой в новой гостинице. Кто-то вкалывает у тебя под боком, но так здорово, что не помнит сам себя. Весною взяв разбег, интуристская машина мчит сейчас на всех порах. Кто-то срывается и вылетает из этой машины сиюминутно, без долгих проволочек. Решения принимаются быстро, и там, где зимой раздумывают, взвешивают, обсуждают, летом решают одним росчерком пера. Добродетель на таком стремительном ходу может остаться незамеченной. Порок иногда тоже.
Новенькие, совсем зеленые, попав в такое время в «Интурист», быстро перемалываются в стареньких. Две недели уже считается опытом работы.
Подоспеет осень, и гудящая интуристовская машина сбавит свой ход, возьмет полегче – начнут покидать ее, уходя в отгулы, опаленные в боях переводчики. Начальство начнет присматриваться к добродетелям и порокам. Пороки будут высаживаться на ходу, а добродетели, вздернув подбородки, готовиться зимовать в «Интуристе».
Надо быть сумасшедшим, чтобы в такое время прийти в отдел кадров и просить отпуск за свой счет. Но я давно сошла с ума. Я тихо помешалась на нашей с Юркой поездке на юг. Я разработала эту поездку в таких мельчайших деталях, что хоть сегодня могла бы снимать фильм о ней, писать книгу, ставить пьесу.
Лучше всего снимать фильм – в нем будут сплошные наплывы и многозначительное молчание. Я пошла в отдел кадров.
– За свой счет? – спросил заведующий и склонил голову набок. Он постучал костяшками пальцев по моему личному делу, вскинул на меня глаза, потом снова постучал и снова вскинул глаза. Он был почему-то недоверчив.
Мне нужно было получить его отказ, и я пошла бы выше, соблюдая полную субординацию. Но заведующий любил людей. Он любил вглядываться и вдумываться в них. А я сидела перед ним, лицом к свету, зависимая от него, и он с удовольствием вглядывался в меня. Хорошо, если бы он делал это молча, но он говорил:
– Бежите, значит. С передовой бежите? Куда, позвольте узнать? На юг? Неплохое место. Значит, пусть кипит работа, пусть зреет урожай – вы бежите. От чего, позвольте узнать? Может, неполадки в работе, расстройство в личной жизни – признайтесь откровенно, мы поможем. Может, не устояли? Не смогли противостоять чуждой идеологии? Признайтесь! Главное – это вовремя признаться.
Заведующий отделом кадров терялся у меня на глазах. Он не мог представить себе, какие еще причины побуждают меня бросить борьбу за урожай. Я не могла видеть, как он мучается.
– Я выхожу замуж.
Заведующий помрачнел и задумался. Он не знал, как быть в том случае, когда человек выходит замуж. Потом он просветлел, встал, одернул пиджак, протянул мне руку:
– Поздравляю.
И сразу же отвернулся к окну.
– А с отпуском как? – решилась спросить я.
Он вздрогнул.
– Отпуск дать не могу. Понимаете? Не могу предоставить.
.
Я стою в вестибюле гостиницы. Куда податься? Просить Гошу? Бесполезно. Мимо бежит Ирка. Я хватаю ее за рукав:
– Ирка, мне надо поговорить с тобой.
– Некогда, отпусти, ждут туристы. Вон, видишь, стоит толстяк. Это мой. Меня ждет. Пусти.
– Ирка, мне надо в отпуск. Понимаешь, я хочу на юг.
– А на Горизонтские острова не хочешь? «На веселых, на зеленых Горизонтских островах, по свидетельству ученых, ходят все на головах.»
Ирка смеется и убегает от меня.
Сквозь распахнутые двери с улицы в вестибюль энергично входит Коля Смирнов, а следом за ним, неторопливо и чинно, ответственные туристы без пиджаков. Я захожу следом за Колей в бюро обслуживания и ловлю его у одного из столов.
– Коля, мне нужен отпуск за свой счет. В отделе кадров мне отказали. Как ты думаешь, к кому сходить?
– К Соколовой.
– К Соколовой?
Пенсне на длинном костистом носу Соколовой вздрагивает. И в упор смотрят на меня черные глаза точками. Зря все-таки я пошла к ней. Может, лучше и не говорить, а извиниться и уйти?
– Я вас слушаю, – говорит Соколова.
И потом:
– Почему именно сейчас отпуск, вы ведь знаете, какое у нас напряженное время. Почему именно сейчас?
– Я замуж выхожу.
Сама не знаю, как я говорю это. Тут же спохватываюсь, хочу крикнуть: неправда, не выхожу. А может, и выхожу – сама не знаю. И молчу, и смотрю на Соколову. А она улыбается и говорит:
– А почему у вас лицо такое?
– Какое?
– Несчастное.
Я пытаюсь улыбнуться:
– Разве?
Она перебирает на столе бумаги, не глядя на них, а глядя на меня.
– Вы у управляющего были? Посидите, я сама поговорю с ним.
Соколова уходит. Она вернется и станет требовать у меня справку из загса или какое-нибудь свидетельство. Или будет расспрашивать, за кого я выхожу замуж и как мы будем жить дальше. Зачем только я пошла к ней? И зачем я затеяла все это? Мне уже не хочется на юг.
Соколова возвращается и говорит: «Когда вы уезжаете? Зайдите сейчас к управляющему и договоритесь конкретно». Ну и Соколова!
29
Все было в порядке. Мое заявление лежало в отделе кадров, и на нем размашисто было написано: «Разрешить». А мне было тревожно. И чем больше приближались ко мне поезд, дорога и Черное море, тем тревожнее становилось.
Я сидела в холле. Туристы приходили и уходили. Вошла Валя. Я обрадовалась и поднялась с кресла. Валя искала кого-то глазами. Она увидела меня, улыбнулась мне вполне любезно, и я поняла, что не меня она ищет здесь и что встреча со мною случилась некстати. Но было уже поздно. Я уже шла навстречу Вале, и была уже в нескольких шагах от нее, и не могла уже скрыть, что рада ее видеть.
– Хорошо, что я встретила тебя, – сказала Валя. – Мы так давно не виделись!
Мне стало неприятно от этой маленькой лжи. Ведь я считала себя подругой Вали.
– Неправда. Ты совсем не рада, – сказала я.
Валя засмеялась и опустила голову. Тут только я заметила, что у нее новая прическа, и подумала: может быть, это прическа делает Валю чужой?..
– Ты свободна? – спросила Валя.
– Да. До экскурсии еще целый час.
– Тогда посидим.
Мне так хотелось поговорить с Валей, но я не могла даже начать разговор: что-то встало между нами, разлучило нас.
– У меня новость для тебя, – сказала Валя. – Сюда приезжает из Скандинавии выставка мод. Вот тебе интересная работа. Они будут здесь месяца два.
Мы поговорили о выставке, потом о погоде, потом еще о чем-то. Даже если бы мы сидели дальше друг от друга, я бы и то почувствовала, как напряглась вдруг Валя всем телом. И лицо у нее стало напряженным. Я смотрела вокруг, но ничего не замечала. Вот расхаживают по холлу туристы. Вот Ломов, невесть откуда взявшись, идет по дорожке. Увидел нас и пошел к нам.
– Здравствуйте, – говорит Ломов. А сам смотрит на Валю. Виновато. И у Вали совсем необычное лицо. В нем все светится, дрожит, меняется непрестанно. Даже глаза то темнеют, то светлеют.
– Здравствуйте, – говорит Валя.
Я поднимаюсь:
– Я совсем забыла, у меня еще не заказана машина. Простите…
Ломов кивает мне. Я ухожу, а Валя, кажется, даже не замечает этого.
30
– На какие же деньги ты поедешь?
– На те, что мы с вами откладывали. Которые на пальто.
– А пальто?
– Зачем мне пальто? Оно мне совсем не нужно.
Муза стоит у окна и поливает цветок. Рука у нее дрожит, и в руке дрожит пол-литровая банка с водой.
– Тетя Муза, я – последняя дура. Я просто не знаю, как это получилось так глупо, нелепо… Я ничего не думала, не имела в виду. В общем, тетя Муза, я не собиралась никуда ехать, я просто так поговорила, хотела обсудить, но ничего серьезного. Разве я куда-нибудь уеду, тетя Муза? Разве я оставлю вас? И потом, мне нужно пальто и вам тоже. Ну, тетя Муза! Ну!..
В кухню входит Калерия.
– Что случилось? Вы поссорились? Нет, правда, что случилось? Смотрите, вы уже льете через край.
Калерия берет из рук тети Музы банку и ставит ее на стол.
– Идемте, тетя Муза, в комнату, – говорю я.
– Конечно, идемте, – соглашается Калерия. И пока мы идем по коридору до нашей двери, Калерия верещит за спиной – В кухне всегда пахнет свиным жиром. Я сто раз говорила тетеньке, чтоб она не жарила на свином жире, ведь не голодовка. Но она не слушает. Она называет меня расточительницей. А из-за этого в кухне невозможно находиться.
Мы заходим в комнату, и Калерия вместе с нами. Она первая садится за стол и подвигает стул тете Музе. Я говорю:
– Послушай, Калерия. Нам надо поговорить. Зайди попозже.
Калерия поднимается и уходит, мотнув плечом. Через секунду она возвращается и предупреждает через порог:
– Так я зайду минут через пятнадцать.
И снова уходит. Тетя Муза складывает шитье в шкатулку.
Я только хочу открыть рот, как тетя Муза опережает меня:
– Не надо, Ася, говорить. Разговоры жизни не меняют, а только людей путают.
– Меняют. Я вот раньше хотела уехать, а теперь не хочу.
– Вот и видно, что ничего ты не понимаешь. Разве для того я тебя взяла и вырастила, чтоб тебе помехой быть? Ты со мной про это и не говори.
Мы молчим. Тетя Муза достает свою старую юбку, раскладывает ее на столе и склоняется над ней с иголкой и ножницами. Я залезаю с ногами на диван. Тикает будильник, и бесшумно снует по скатерти тень тети Музиной руки. Как будто все то же самое. Но что-то нарушилось в нашей комнате, что-то сместилось, чего пока ни я, ни тетя Муза не различаем отчетливо, а только смутно угадываем. И нам тревожно, как перед всякими переменами, которые неизвестно к чему приведут.
Калерия стучит в дверь и заходит в комнату, не ожидая нашего ответа. Она спрашивает еще с порога:
– Ну как, договорились? Ты едешь?
Я молчу.
– И правильно делаешь, – говорит Калерия. Она садится рядом со мной на диван. – Надо ехать. Человек вообще должен побольше ездить, это расширяет кругозор. Правда, тетя Муза? И если бы у меня была возможность, я бы тоже поехала. На Кубу. Там ведь калоши тоже делают? Но я бы могла не только калоши, я и на строительстве могла бы, а строительство там наверняка есть.
– Тебя не пошлют, – говорю я. – Туда, по-моему, только инструкторов посылают. По животноводству, например, или по механизации.
– А я могу на инструктора выучиться.
– Все равно тебя не пошлют. Ты сразу замуж там выскочишь.
– Я? Думаешь, у нас на «Треугольнике» ребят нет? У нас в ОТК один работает… Я даже внимания на него не обращаю. Меня этот вопрос не интересует.
– Что же тебя интересует? – спрашивает тетя Муза.
– Вы же знаете. Революция.
Я улыбаюсь. Тетя Муза перекусывает нитку.
– И не вообще революция, а на Кубе. То есть вообще, конечно, тоже, но на Кубе – особенно.
Я говорю:
– Калерия, когда тебе будет восемнадцать?
– Через четыре месяца.
– Значит, четыре месяца ты еще проживешь с нами.
– Да. Четыре месяца еще проживу, – говорит Калерия серьезно.
Мы разговариваем допоздна. Тетя Муза уже залатала юбку и теперь гладит ее. Блестящий новенький утюг, как теплоход, скользит в темно-синих складках юбки. Приходит Басманова. Она держится с Калерией сурово, но все знают, что она крепко привязана к ней и больше всего боится, что Калерия впрямь сорвется как-нибудь с места и уедет, если не на Кубу, то куда-нибудь, «где все новое: люди, дома, мебель…». А Басмановой хотелось бы, чтобы Калерия никуда не уезжала, вышла замуж за хорошего человека и родила бы Басмановой девочку.
– Я подниму ее и дам ей воспитание, пока я молодая, – говорит Басманова и трогает рукой белые старые букольки.
Так мы говорим до поздней ночи, пока тетя Муза не кончает возиться с юбкой и вешает ее в шкаф. Тогда все разом замечают, как поздно, поднимаются и направляются к двери. Кто в ванную, кто в уборную, а кто на кухню – поставить чай.
31
Мы едем. Колеса стучат. Качается вагон. Качается на стене Юркина соломенная шляпа. Мы купили ее перед отъездом. Цветная плетеная сумка на столе тоже качается. Мы едем. Едем на юг. Я не была там никогда в жизни. Там есть море, пальмы и галька на берегу. Там есть горы и вообще все, что человеку нужно для счастья. Нас никто даже не провожал. Только в последний момент прибежала тетя Муза. Волосы у нее растрепались, и вся она была красная. Она сунула мне узелок, а в узелке – печенье. Тетя Муза все смотрела не отрываясь прямо мне в лицо, и это было довольно неловко. Я пыталась разговаривать с нею, но она отвечала невпопад, и я замолчала. Когда поезд свистнул тихонько, она вдруг заплакала, и Юрка крикнул ей: «Не волнуйтесь! Все будет в порядке!» Она кивнула головой и заплакала еще сильнее. Голова ее тряслась, как у старой, и она торопилась вытирать платком лицо, не одни глаза, а все лицо. Поезд шел медленно, и я высунулась из вагона, чтобы видеть тетю Музу, она все стояла, а потом вдруг спохватилась и побежала вслед и стала кричать что-то, но что – было не слышно. Замелькали люди, уже чужие. Они взмахивали руками. Тети Музы не было видно.
– Идем в купе, – сказал Юрка. – Смешная эта твоя соседка. Верно? Ну чего она переживает?
…И вот мы едем. Напротив нас на нижней полке сидит женщина, такая худая и черная, что на нее страшно смотреть. А рядом с нею сидит большой толстый мужчина с косматой гривой седых волос. Мужчину зовут Анатолий Павлович, а женщина зовет его просто «Палыч». Мужчина – ее муж. Он красивый, веселый и шумный. Пьет водку, спит, играет в дурака с маленькой черной женщиной, которую называет «мамой». А мы сидим рядом на одной полке и смотрим в окно. Нам нравится, что сосед – человек шумный и что он почти не обращает на нас внимания. И когда он обращает на нас внимание – это тоже нам нравится.
– Ну-ка, молодежь, приобщайтесь! – говорит он, широким жестом осеняя толсто нарезанную колбасу и круглый хлеб. – Давай, мама, давай, не зажиливай!
– Отстань ты, надоел уж! Что у меня-то, припасы какие, что ли?
– Ой, мама, неправду говоришь! Ой, неправду! Давай, давай сюда бутылочку. Ну-ка, молодежь, приобщайтесь!








