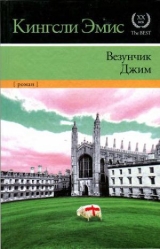
Текст книги "Везунчик Джим"
Автор книги: Кингсли Эмис
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
Аткинсон, высокий, смуглый и темноволосый, тяжело опустился на стул в углу стола, мисс же Катлер, давно запуганная его требованием, «чтобы все по высшему разряду», выскочила из комнаты.
– Рано ты сегодня, Билл, – сказал Диксон.
Аткинсон уставился так, будто замечание в принципе могло бросить вызов его физической силе и выдержке; наконец, как бы решив быть выше подозрений, кивнул раз двадцать. Из-за пробора прически и усов, загнутых под прямым углом, Аткинсон имел вид опереточного злодея.
Продолжали пить чай. Аткинсон тоже взял чашку, но в разговор, еще несколько минут вращавшийся вокруг Диксоновой статьи и вероятной даты ее публикации, надменно не вступал.
– Статья-то хоть хорошая? – наконец спросил Бисли.
– Хорошая? – опешил Диксон. – Что ты разумеешь под словом «хорошая»?
– Что ты был выше фактов и нарядных выводов. Что писал не только с целью удержаться на работе.
– Боже правый, о чем ты говоришь? Делать мне больше нечего – душу в этакую халтуру вкладывать. – На слове «халтура» Диксон перехватил пристальный взгляд Аткинса из-под густо опушенных век.
– Я только спросил. – Бисли вынул отделанную никелем трубку. Трубка с переменным успехом служила шпалерой для его личностного роста. – Значит, я был прав.
– Альфред, уж не хочешь ли ты сказать, будто ждал от меня научных исследований? Ждал, признайся?
– Ничего я не ждал. И ничего не хочу сказать. Я спросить хочу: зачем ты вообще это на себя взвалил?
Диксон колебался.
– Я ведь уже объяснял, причем давно. Из-за ощущения, что в школе от меня толку не будет.
– Нет, я имел в виду, почему ты стал медиевистом. – Бисли чиркнул спичкой, накуксил мышиное личико. – Билл, тебе дым не мешает? – Ответа не последовало, и Бисли продолжал между затяжками: – Насколько я понимаю, Средние века интересуют тебя ничуть не больше, чем какие-либо другие. Я прав?
Диксон выдавил смешок.
– Прав, прав. Я стал, как ты выражаешься, медиевистом, исключительно потому, что у нас в универе, в Лестере, средневековых документов было завались. Вот я и приспособился. Естественно, что в резюме я сделал упор на Средние века – сам знаешь, когда у кандидата узкая специализация, к нему уважения больше. В итоге место досталось мне, а не типчику с оксфордским дипломом, а почему? Потому что типчик на собеседовании нудил о современных теориях интерпретации. Только я не думал, что Средние века станут моими личными галерами. – Диксон подавил желание закурить – пятичасовая сигарета была оприходована еще в пятнадцать минут четвертого.
– Понятно, – шмыгнул носом Бисли. – Ты раньше не рассказывал.
– А ты не замечал, как часто мы приспосабливаемся к тому, что нам особенно ненавистно? – спросил Диксон, но Бисли, продолжая пыхтеть трубкой, уже поднялся. Диксоновы взгляды на Средние века как таковые подождут до лучших времен.
– Мне пора, – сказал Бисли. – Приятного тебе времяпрепровождения с творческими личностями. Смотри не напейся и не выложи старику Недди то, что выложил мне. Счастливо, Билл! – Аткинсон не соизволил ответить, Бисли не соизволил закрыть за собой дверь.
Диксон бросил «до скорого», выждал несколько секунд.
– Билл, ты не мог бы оказать мне услугу?
Ответ, как ни странно, последовал незамедлительно.
– Смотря какую, – скривился Аткинсон.
– Будь добр, позвони мне вот на этот номер в воскресенье часов в одиннадцать утра. Я буду на месте, мы поговорим с минуту о погоде, и все. Но если вдруг трубку возьмет кто-то другой… – Из прихожей донеслись непонятные звуки, Диксон замолчал, больше ничего не услышал и продолжил: – Так вот, скажи тому, кто ответит, что нагрянули мои родители и ждут меня не дождутся. Вот, здесь все написано.
Аткинсон вскинул пышные брови и уставился на конверт, словно там было нацарапано неправильное решение шахматной задачи. Рассмеялся людоедским смехом и перевел взгляд на Диксона.
– Боишься, что не выдержишь, или как?
– Дело в том, что мой профессор опять вздумал устроить «концертец». Хочешь не хочешь, а надо отметиться. Но проторчать там целое воскресенье выше моих сил.
Последовала продолжительная пауза, во время которой Аткинсон привычно скользил по комнате критическим взглядом. Диксон любил и уважал Аткинсона за нарочитое отвращение ко всему, что попадало в поле его зрения, слуха, обоняния или осязания, а паче – за то, что отвращение всякий раз выходило свеженькое, с пылу с жару. Наконец Аткинсон произнес:
– Понимаю. С удовольствием помогу.
И тут в столовую вошел Джонс со стопкой журналов. При его появлении Диксон задергался: Джонс передвигался бесшумно, как и подобает потенциальному соглядатаю, и считался другом Уэлчей, особенно миссис Уэлч. Задаваясь вопросом, достаточно ли Джонс расслышал, чтобы составить представление о деликатной просьбе, Диксон нервно кивнул Джонсу. Последний не изменился в своем одутловатом, сальном лице. При Аткинсоновом «здорово, сынок» неподвижность только усугубилась.
Диксон решил ехать к Уэлчам на автобусе, чтобы избежать общества Джонса, поэтому теперь поднялся. С мыслью: «Надо предупредить Аткинсона», – однако без мысли, как это сделать, вышел из столовой. Уже на лестнице до него донеслось:
– Ну, давай рассказывай про свой гобой.
Через несколько минут Диксон с саквояжем спешил к автобусной остановке. На углу главной улицы он задержался – обозрел склоны, где последние домики с плоскими крышами и продуктовые лавки уступали место конторам, магазинам готового платья, ателье, публичной библиотеке, телефонной станции и современному кинотеатру. Далее шли высокие здания городского центра, венчаемые конусом собора. Автобусы и троллейбусы звенели и гремели, поток автомобилей извивался, распрямлялся, сокращался и увеличивался в ширину и в длину. По тротуарам сновали толпы. Диксон перешел улицу. Городская суета бодрила, наполняла сердце необъяснимой радостью. Выходные, помимо привычного сочетания предсказуемой скуки со скукой непредсказуемой, ничего не сулили, но Диксону в это, хоть убей, не верилось. Что, если одобрение статьи – только прелюдия к долгосрочному и столь необходимому везению? Что, если у Недди будет пара-тройка интересных, занятных персонажей? А не будет – так они с Маргарет удовольствуются перемыванием костей персонажам прочих характеристик. Надо, кстати, проследить, чтобы Маргарет получила максимум удовольствия, а при посторонних оно проще. В саквояже томик стихов современного поэта (по его личному мнению, поэт омерзителен), купленный нынче утром для Маргарет безо всякого повода. Эффект неожиданности вкупе с доказательством глубоких чувств и лестью, заложенной в выборе, – должно сработать. При мысли о надписи на форзаце Диксона постиг приступ тошноты, но общий настрой оказался сильнее.
Глава 4
– Разумеется, музыка такого рода не предназначена для широкой аудитории, – вещал Уэлч, тасуя ноты. – В данном случае удовольствие получают исполнители. У каждого певца – собственная мелодия. Собственная! – повторил он со страстью. – Поистине то был период расцвета полифонии, вершина, так сказать; потом наблюдался только спад, и по сей день наблюдается. Достаточно взглянуть, как расписаны по голосам такие, гм, произведения, как «Вперед, Христово воинство», этот гимн, этот типичный… типичный…
– Нед, мы все с нетерпением ждем, – позвала из-за пианино миссис Уэлч и изобразила медленное педалируемое арпеджио. – Так ведь, друзья?
Певцы еще передавали друг другу ноты, а воздух для Диксона сгустился, отяжелел, точно от опиумного дыма. Миссис Уэлч поднялась к певцам на невысокий подиум, нарочно сооруженный в музыкальной комнате, и встала рядом с Маргарет как сопрано номер два. Контральто было представлено маленькой запуганной женщиной с жидкими каштановыми волосами. С Диксоном соседствовал Сесил Голдсмит, коллега по кафедре истории, – его тенор был достаточно свиреп, особенно в диапазоне от до первой октавы и выше, чтобы заглушить всякий звук, к которому Диксон сочтет себя принуждаемым. Позади и сбоку расположились три баса, один – местный композитор, второй – скрипач-любитель, в случаях острой нужды приглашаемый в городской оркестр, третий – Эван Джонс.
Диксон пробежал глазами ряды черных точек, напоминавшие сильно разреженную синусоиду. Стало ясно: петь будут все, и до победного конца. Двадцать минут назад Диксон уже потерпел фиаско – на Брамсе. Фиаско началось с десятисекундного одиночного тенора – точнее, с одиночного Голдсмита; он дважды смолкал перед мудреным интервалом, бросая Диксона на произвол судьбы как рыбу на берег. Теперь Диксон осторожно воспроизвел Голдсмитову ноту и нашел результат скорее приятственным. Неужели трудно было спросить, не хочется ли ему поучаствовать в концерте, вместо того чтобы за шиворот тащить в музыкальную комнату и всучивать ноты?
Уэлч взмахнул гнутым артритным пальцем – точно клюнул – и грянул мадригал. Диксон не поднимал головы, губами шевелил по минимуму, только чтобы создать видимость деятельности, и читал текст, выпеваемый остальными.
– Когда любимая клялась в любви векам назло,
Я подозрительным почел горячих клятв число.
Но на вопрос мой «Почему?»…
Диксон покосился на Маргарет. Та распевала с явным удовольствием (всю зиму занималась с хором от местного отделения партии консерваторов). Диксон прикидывал, какие изменения в обстоятельствах и темпераментах нужно произвести, чтобы мадригал стало возможно применить к нему с Маргарет, хотя бы с натяжкой. Маргарет периодически разражалась горячими клятвами (или откровениями, какая разница); не исключено, что поэт их и имел в виду. Но если он под «любовью векам назло» разумел то, что разумел, Диксон такой любви не провоцировал, по крайней мере в Маргарет. Может, и зря; в конце концов, этим все занимаются. Жаль, что Маргарет такая безнадежно некрасивая. Ладно, Диксон в ближайшее время попытается. Посмотрим, что выйдет.
«Я в лихорадке майских дней. Дарила, верно, их», – продребезжал Голдсмит что твой трамвай. То была последняя строка. Диксон не закрывал рта, пока Уэлчев палец клевал невидимую пернатую жертву, потом захлопнул и обогатил характерным полукруговым движением головы, каким хористы провожают дирижерскую палочку. Казалось, собравшиеся крайне довольны своими успехами и жаждут аналогичного эксперимента.
– Итак, следующий номер нашей программы – это, гм, в некотором роде балет. Разумеется, под «балетом» профессионалы, гм, разумеют не совсем то, что разумеем мы, со своими скромными способностями. Да. Пассаж довольно известный. Надеюсь, что известный. Называется «Май пришел». А сейчас, если все готовы…
Позади и несколько слева фыркнули. Диксон обернулся и увидел Джонса. Улыбка на его постном лице казалась инородной, накладной. Большие, практически лишенные ресниц глаза смотрели прямо на Диксона.
– Ты чего? – спросил Диксон. Если Джонс смеется над Уэлчем, Диксон срочно станет на сторону последнего.
– Сейчас увидишь, – отвечал Джонс, не сводя глаз с Диксона. – Сейчас все увидишь, – добавил он и осклабился.
Действительно, не прошло и минуты, как Диксон увидел, причем нельзя ясней. Отрывок состоял не из четырех частей, как обычно, а из пяти. Напротив третьей и четвертой сверху строк было написано «первый тенор» и «второй тенор» соответственно. Более того: на второй странице фигурировало инфантильное «тра-ля-ля», не говоря уже о многочисленных лакунах в каждой отдельной партии. При подобном раскладе даже Уэлчево ухо могло (чисто теоретически) зафиксировать наличие отсутствия одной партии. Полчаса назад Диксон имел неосторожность сообщить, что «до известной степени» владеет нотной грамотой; теперь поздно было вслух искать объяснения сложносочиненным мотивам, побудившим его на это высказывание, поздно сваливать вассальную зависимость на басы. Чтобы выпутаться, требовался как минимум эпилептический припадок.
– Джим, возьмите партию первого тенора, – посоветовал Голдсмит. – Она попроще, чем у второго.
Диксон рассеянно кивнул. Где-то на периферии сознания раздавалось Джонсово хихиканье. Прежде чем Диксон издал предупреждающий крик, миссис Уэлч покончила с фортепьянной разминкой, хористы пробежали глазами свои партии, и понеслось. Диксон было зашлепал: «Всяк в зелени полей. С милашкою своей. Тра-ля-ля-ля-ля-ля…», – но Уэлч вдруг вперил палец в потолок. Пение стихло.
– Где теноры? – забеспокоился Уэлч. – Почему не слышно теноров?
Раздался неритмичный стук в дальнюю дверь, за которым последовало открывание оной и появление высокого мужчины в лимонно-желтой блузе, застегнутой на все три пуговицы, и при окладистой бороде, по одну сторону более длинной и густой, чем по другую, и наполовину закрывающей галстук, изукрашенный виноградными лозами. Волна горячего ликования охватила Диксона, ибо он догадался, что в музыкальную комнату вошел околоживописный пацифист Бертран с подругой; Уэлч с неугасающим энтузиазмом склеротика многократно возглашал приезд этой пары. Начал он сразу после чая, паузы выдерживал в несколько минут. Что рано или поздно событие по пагубности воздействия сравнится с ипритом, сомневаться не приходилось, однако в тот именно миг оно явилось лучшим отвлекающим средством при гибельных мадригалах. Пока Диксон думал эту мысль, старшие Уэлчи покинули свои места и поспешили навстречу сыну. За ними потянулись гости, неуверенные, судя по речитативу, в неуместности паузы. Диксон, к своему удовольствию, остался один и с наслаждением закурил. Скрипач-любитель занялся Маргарет; Голдсмит и местный композитор говорили с Кэрол, женой Голдсмита, которая с завидной твердостью отказывалась от всякой роли в музыкальных вечерах, кроме роли слушательницы; Джонс настраивал пианино. Диксон обогнул толпу и прислонился к стене у двери, возле книжных полок. Отсюда он, смакуя сигарету, наблюдал, как робко и неловко вошла Бертранова девушка и, никем, кроме Диксона, не замечаемая, замерла на пороге.
За несколько секунд Диксон составил о ней полное представление. Светлые, прямые, коротко стриженные волосы в сочетании с карими глазами и отсутствием помады, четко очерченный рот и мальчишеские плечи, большая грудь и тонкая талия, продуманная непритязательность лиловой вельветовой юбки и белой льняной рубашки. Самый вид девушки был неотразимой атакой на его привычки, стандарты и запросы; будто ее создали и водворили в эту комнату с целью раз и навсегда указать Диксону место. Диксон настолько свыкся с фактом, что подобные женщины попадаются не иначе как в комплекте с бертранами, что давно не усматривал в нем несправедливости. В его, Диксона, распоряжении – большинство: многочисленные маргарет, нередко путающие привлекательность с клоунадой; маргарет, у которых слишком узкая юбка, неправильно подобранная помада или ее отсутствие и даже неуместная улыбка должны бы тотчас дискредитировать самую надежду на продолжение. Однако продолжение неминуемо: новый свитер непостижимым образом перевешивает неуклюжие ступни, щедрость восстанавливает жидкие волосы, пара пива придает приятность трепу о лондонских театрах или французской кухне.
Девушка обернулась и обнаружила, что Диксон на нее пялится. Его диафрагма сжалась от страха; она дернулась, как расслабившийся солдат при команде «вольно». С секунду они смотрели друг на друга. У Диксона закололо в висках, но тут раздался лающий фальцет:
– А, милая, вот ты где; будь умницей, подойди, я тебя представлю честной компании.
И Бертран шагнул к ней, и метнул на Диксона враждебный взгляд. Диксону это не понравилось; от Бертрана он ожидал единственно смиренных оправданий своего появления.
Диксон был слишком раздавлен видом Бертрановой девушки, чтобы еще и знакомиться с нею, поэтому некоторое время притворялся, что до него никак не доходит очередь, а там и вовсе отступил к Маргарет и скрипачу-любителю. В центральной группе преобладал Бертран – рассказывал нечто затянутое и часто разнообразил повествование смехом. Девушка смотрела ему в рот, будто он мог после потребовать пересказа. Подали кофе с кексами и подтекстом, что больше ничего не будет; Диксон попытался сосредоточиться на том, чтобы ни он сам, ни Маргарет не остались совсем голодными, и на некоторое время преуспел. А потом подошел Уэлч и ни с того ни с сего сказал:
– Гм, Диксон, пойдемте. Хочу представить вас моему сыну Бертрану и его… гм… его… Пойдемте.
Диксон пошел, прихватив Маргарет под руку. Двое плюс Эван Джонс неумолимо приближались.
– Это мистер Диксон и мисс Пил, – сказал Уэлч и плечом оттер Голдсмитов.
Маргарет не дала молчанию повиснуть:
– Мистер Уэлч, вы к нам надолго?
Диксон мысленно поблагодарил ее за то, что она здесь, и за то, что у нее всегда найдется дежурная фраза.
Бертрановы челюсти благополучно сомкнулись за вертким куском. Бертран продолжил жевать и начал думать.
– Вряд ли, – выдал он наконец. – Приняв во внимание все обстоятельства, я счел себя не вправе и далее колебаться. Дела в Лондоне, самого разнообразного свойства, требуют моего постоянного контроля. – Бертран расщепил в улыбке бороду и принялся стряхивать крошки с обеих. – Однако весьма приятно обнаружить, что и в захолустье светоч культуры горит ровным пламенем. Этак посмотришь – и потом долго не волнуешься за судьбы нации.
– А как идет ваша работа? – не сдавалась Маргарет.
Бертран хохотнул, обернулся к девушке. Она тоже издала мелодичный смешок, весьма похожий на «звон серебряных бубенчиков», освоенный Маргарет.
– Моя работа? – переспросил Бертран. – По вашей интонации можно сделать вывод, что речь о миссионерской деятельности. Впрочем, некоторые наши приятели примерно в таком ключе свои занятия и воспринимают. Фред например. – Уточнение относилось к девушке.
– Да, и еще Отто, – кивнула та.
– Отто в особенности. Он, если и не ведет себя как миссионер, определенно выглядит как миссионер. – Бертран снова рассмеялся. Девушка – тоже.
– Чем вы занимаетесь? – кисло спросил Диксон.
– Живописью. Увы, я не применяю свои силы к стенам и заборам, иначе уже сколотил бы капиталец и ушел на покой. Ничего подобного: я пишу картины. Дважды увы: не портреты профсоюзных деятелей, не интерьеры городских ратуш и не обнаженную натуру, иначе бы вообще купался в деньгах. Ничего подобного: я пишу самые обычные картины, ничего более, чем картины, картины tout court [8]8
Всего-навсего, только (фр.).
[Закрыть], или, как сказали бы наши американские родственники, картины на злобу дня. А вы чем занимаетесь? Если, конечно, мне дозволено спросить?
Диксон медлил. Речь, за вычетом заключительной части, явно проверенная Бертраном на других собеседниках, взбесила его более, чем он полагал в принципе возможным. Девушка смотрела вопросительно, выгибала брови, темные для таких светлых волос, и в итоге произнесла довольно низким голосом:
– Ну же, удовлетворите наше любопытство.
Бертран снова вперил в Диксона взгляд своих странно плоских глазных яблок.
– Я на подхвате у вашего отца, – сказал Диксон, сочтя, что агрессия неуместна. – На кафедре исторических наук отвечаю за Средние века.
– Прелестно, прелестно, – прокомментировал Бертран, а девушка уточнила:
– Вы любите свою работу, не так ли?
Уэлч, заметил Диксон, снова с ними и обводит взглядом лица, явно в поисках зазора в беседе, дабы тоже вступить. Диксон решил сдержать его любой ценой и потому произнес, тихо, но поспешно:
– Разумеется, я выбрал достаточно интересный вид деятельности. Однако совершенно очевидно, что мое занятие далеко не такое захватывающее… – он посмотрел на девушку, – как ваше. – Надо показать этому Бертрану, что он, Диксон, тоже имеет право общаться с его девушкой.
Девушка подняла недоуменный взгляд на Бертрана.
– Не вижу ничего захватывающего в…
– Вероятно, – продолжал Диксон, – вас утомляют постоянные упражнения, необходимость держать себя в форме, сопряженные с вашей профессией. Но ведь балет… – Диксон проигнорировал тычок со стороны Маргарет. – Балет – это нечто восхитительное. По крайней мере, я привык так думать. – Бертрану при этих словах досталась улыбка белой зависти. Диксон стал размешивать кофе, стараясь не звякать ложечкой и по максимуму оттопыривая мизинец.
Бертран медленно багровел и нависал над Диксоном, силясь проглотить половину бисквитного рулета, чтобы скорее заговорить. Девушка с неподдельным недоумением повторила:
– Балет? Но я ведь в книжном магазине работаю. Почему вы решили, что я?..
Джонс ухмылялся. Даже Уэлч явно задумался. Что он наделал? Диксона затрясло одновременно от ужаса и от подозрения, что «балет» в одной отдельно взятой семье Уэлч означает «половая связь».
– Послушайте, Дикенсон, или как вас там, – начал Бертран, – может, вы себя очень остроумным считаете, но я бы на вашем месте извинился, и чем скорее, тем лучше. Не в ваших интересах упорствовать.
Диксону очень захотелось вслух отметить отчетливый лай, особенно в заключительной фразе, проглатывание определенных согласных, а заодно и особенность глазных яблок. Бертран, пожалуй, набросится на него, ударит; что ж, отлично. Диксон не сомневался, что в стычке с живописцем одержит верх – или Бертрана остановит закоренелый пацифизм? Однако в последовавшей тишине Диксон быстро сориентировался пойти на попятную. Он ляпнул что-то насчет девушки; не стоит усугублять.
– Простите великодушно, если допустил ошибку, только мне казалось, что присутствующая здесь мисс Лусмор имеет отношение к…
Диксон перевел просительный взгляд на Маргарет, однако, прежде чем она успела рот раскрыть, на помощь поспешил Уэлч.
– Бедняга Диксон, ха-ха-ха, должно быть, спутал эту… эту юную леди с Соней Лусмор, подругой Бертрана, которая недавно подвела нас всех, и преизрядно. Наверно, Бертран решил, что вы, Диксон, гм… попрекаете его, что ли. Ха-ха-ха.
– Если бы он потрудился подойти, когда нас представляли гостям, подобного казуса не случилось бы, – процедил Бертран, все еще багровый. – А он предпочел…
– Не переживайте, мистер Диксон, – перебила девушка. – Это всего-навсего маленькое недоразумение. С каждым бывает. Меня зовут Кристина Каллаган. Звучит совсем непохоже на «Лусмор».
– Я… я… спасибо вам огромное, что ничего плохого не подумали. Мне очень неловко, честное слово.
– Да ладно, Диксон, не берите в голову, – встрял Бертран, предварительно смерив взглядом свою девушку. – Милая, пойдем-ка с гостями пообщаемся. Счастливо оставаться, Диксон.
И они пошли, на приличном расстоянии сопровождаемые Джонсом, к группке Голдсмита, а Диксон остался при Маргарет.
– Вот, возьми сигаретку, – сказала Маргарет. – Тебе сейчас не повредит. Подумать только, что за животное этот Бертран. Неужели трудно было догадаться…
– Я сам виноват, – перебил Диксон, благодарный за никотин и поддержку. – Нет бы подойти и послушать, когда их представляли.
– А кстати, почему ты не подошел? В любом случае Бертран мог бы и не обострять. Впрочем, это вполне в его духе, насколько я поняла.
– Мне почему-то так противно было, просто ужас. А ты много общалась с Бертраном?
– Он приезжал один раз, с прежней девушкой. Кстати, некрасиво получается. Он собирался жениться на этой своей Соне Лусмор и вдруг привозит новую подругу. Что ты так смотришь? Мне Недди все уши прожужжал: свадьба-де с Лусмор грядет, всего-де несколько дней осталось, и так далее, и в том же духе. Конечно, он пел со слов сына…
– Слушай, Маргарет, а пойдем куда-нибудь выпьем? Я умру, если не выпью, а здесь не светит. Сейчас только восемь – мы успеем вернуться.
Маргарет засмеялась, явив изрядное количество зубов. Один клык был запачкан помадой. Маргарет всегда перебарщивала с косметикой.
– О, Джеймс, ты неисправим. Просто кладезь идей. Уйти никак нельзя – что Недди подумают? Что мы манкируем обществом их гениального сыночка? Да тебя в два счета уволят.
– Ты права. К сожалению. Только я бы, кажется, все отдал за три пинты пива. Со вчерашнего вечера капли во рту не было, да и тогда я всего пинтой ограничился.
– Так лучше для твоего кошелька. – Маргарет снова рассмеялась. – При исполнении мадригалов ты был великолепен. Блистал, я бы сказала.
– Умоляю, не напоминай.
– Лучше даже, чем в пьесе Ануя. При твоем акценте звучало просто зловеще. Постой, как там – «La rigolade c'est autre chose» [9]9
«Шутка – это другое дело» (фр.). – Цитата из пьесы Жана Ануя «Антигона».
[Закрыть]? Впечатляет, весьма впечатляет.
Из пересохшего горла вырвался слабый стон:
– Прекрати. Это выше моих сил. Почему нельзя было выбрать английскую пьесу? Впрочем, понятно почему. Не трудись объяснять. Кстати, что у нас следующим номером?
– Полагаю, блок-флейты.
– Тем более имею право слинять. Нет ничего постыдного втом, чтобы не играть на блок-флейте. В конце концов, я всего-навсего младший преподаватель. Но, Маргарет, разве это не ужасно? Разве не ужасно? Просто не продохнуть от искусства.
Она снова засмеялась и быстро обвела глазами комнату. Значит, ей весело, с облегчением подумал Диксон.
– Насколько мне известно, с блок-флейтой каждый справится.
Диксон тоже засмеялся и предпринял попытку забыть о пиве. И то правда: в жестяной коробке осталось всего три фунта, а зарплата только через девять дней. В банке у него двадцать восемь фунтов, но они – неприкосновенный запас на случай увольнения.
– Хорошенькая эта Кристина, как там ее по фамилии, – заметила Маргарет.
– Хорошенькая.
– А какая фигура! – продолжала Маргарет.
– Да.
– Не часто к такой шикарной фигуре прилагается такое миленькое личико.
– Не часто, – вымучил припертый к стенке Диксон.
– Жаль только, что она вся такая рафинированная. – Маргарет помедлила, однако решила пояснить эпитет: – Не люблю, когда девушка старается вести себя как придворная дама. И вообще она довольно ограниченная особа.
Диксон был примерно того же мнения, однако, озвученное Маргарет, оно его покоробило.
– По-моему, – замялся он, – мы недостаточно ее знаем, чтобы делать такие выводы.
Реплика была встречена звоном серебряных бубенчиков.
– Все понятно: ты в очередной раз запал на смазливую мордашку. Что и требовалось доказать.
Чистая правда, подумал Диксон, но вслух подтвердить, конечно, не решился и неловко замолчал. Они с Маргарет смотрели друг на друга тревожно, будто следующая фраза, кому бы из них она ни принадлежала и из каких бы слов ни состояла, обречена была оказаться оскорбительной. Наконец Диксон произнес:
– Во всяком случае, они с Бертраном из одного теста.
Маргарет изогнула губы – так мог бы улыбаться хорек.
– Должна сказать, у них действительно немало общего.
– Ты права.
Прислуга тем временем собирала грязные фаянсовые чашки и блюдца; гости чувствовали себя неприкаянными. Надвигалось продолжение концерта. Бертран с девушкой исчезли – вероятно, пошли вещи распаковывать. Уэлч призвал Диксона к расстановке стульев. Маргарет осталась одна.
– Что будет следующим номером, Профессор? – спросил Диксон.
Тяжеловесные Уэлчевы черты, было оживившиеся за последние полчаса, приняли обычное положение, будто с макушки оползень сошел. Уэлч посмотрел на Диксона как на смутьяна.
– Осталась пара музыкальных отрывков.
– Какая прелесть. Кто первый в списке?
Уэлч поместил иссохшие руки на спинку стула, такого низкого, что он казался молельной скамьей-переростком, и после секундного раздумья выдал, что местный композитор и скрипач-любитель намерены замахнуться на скрипичную сонату одного немецкого зануды, затем неопределенное количество блок-флейт исполнят некий отрывок, а напоследок Джонс, возможно, сыграет на гобое. Диксон кивнул, будто ничего приятнее в жизни не слышал.
Маргарет разговаривала с Кэрол Голдсмит. Кэрол, лет примерно сорока, хрупкая, с длинными прямыми каштановыми волосами, числилась среди союзников Диксона, хотя время от времени слегка подавляла жизненным опытом.
– Привет, Джим! Как дела? – воскликнула Кэрол своим неестественно звонким голосом.
– Не спрашивайте. Нам предстоит еще как минимум час пиленья и завыванья.
– Ну не ужас ли? Скажите, почему мы вообще сюда ходим? Нет, почему ходит Джим, понятно – бедняжка Маргарет здесь живет. По всей вероятности, я имела в виду: что лично я здесь забыла?
– Должно быть, вы ходите сюда, чтобы поддержать своего супруга, – сказала Маргарет.
– Ваше предположение не лишено смысла. В таком случае зачем ходит мой супруг? Здесь даже не наливают.
– Джеймс данный факт уже отметил.
– Вряд ли стоило приходить, только чтобы полюбоваться на величайшего живописца всех времен и народов, – заметил Диксон, имея в виду свести разговор со своего давешнего imbroglio [10]10
Путаница (ит.).
[Закрыть], как с основного пути на запасный.
Однако по причине, на тот момент для него непонятной, замечание не вызвало поддержки. Маргарет вздернула подбородок, словно готовясь выбранить Диксона за неосмотрительность; впрочем, ей всякое враждебное высказывание представлялось неосмотрительным, если только они с Диксоном не были наедине. Кэрол прикрыла глаза и пригладила свои прямые волосы.
– Откуда этот тон?
– Тон как тон, – стушевался Диксон. – Просто между мной и Бертраном имела место некоторая шероховатость. Я чего-то недопонял насчет его подруги, а он стал усугублять ситуацию. Кажется. А вообще ничего существенного.
– Вполне в его духе, – сказала Кэрол. – Ему всюду насмешники мерещатся. Впрочем, его и правда часто вышучивают.
– Так вы его хорошо знаете? – удивился Диксон. – Простите, Кэрол. Выходит, Бертран – ваш друг?
– Друг – это громко сказано. Мы – в смысле мы с Сесилом – пару раз встречались с Бертраном. Еще летом, до того, как вы поступили на работу. Вообще он под настроение занятный, хотя и вы отчасти правы – Бертран нет-нет да и прихвастнет своими живописными достижениями, что не слишком приятно. Кстати, Маргарет, вы ведь тоже с ним уже общались? Как он вам показался?
– Верно, общалась, во время его приездов к родителям. По-моему, когда он один или в привычном окружении, он вполне адекватен. Но стоит ему оказаться среди новых людей, как он начинает рисоваться напропалую.
От лающего смеха все трое так и подпрыгнули. Приближались Бертран и влекомый им за руку Голдсмит. Не озаботившись сложить серьезную мину, Бертран обратился к Кэрол:
– Вот ты где, деточка. Как делишки?
– Спасибо, хорошо, деточка. Как у тебя делишки, я даже и не спрашиваю. Что, решил вкусовым пристрастиям изменить?
– Ты о Кристине? Она отличная девчонка, просто блеск. Одна из лучших, в моей практике.
– Так у тебя и намерения имеются? – не отставала Кэрол, впрочем, с нежнейшей улыбкой.
– Намерения? Ну нет, только не это. Так даже вопрос не стоит.
– Не похоже на вас, старина, – заметил Голдсмит тускло и невнятно, и не тенором – совсем не так, как пел.
– Если честно, в настоящий момент я на нее обижен, и преизрядно, – пояснил Бертран и изобразил кружок большим и указательным пальцами.
– Это за что же? – оживился Голдсмит.
– Как вы уже могли догадаться, несмотря на мою страстную увлеченность этим видом деятельности, – Бертран кивнул на пианино, где скрипач-любитель в компании местного композитора настраивал скрипку, – не слишком красиво с ее стороны было оставить меня без поддержки, несмотря на то что я чрезвычайно рад видеть вас всех. Нет-нет, мне обещана встреча с Джулиусом Гор-Эркартом, о котором вы, возможно, слышали.








