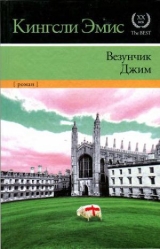
Текст книги "Везунчик Джим"
Автор книги: Кингсли Эмис
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Прерваться пришлось из-за того, что возглавляемая ректором группа перекочевала к двери. Гор-Эркарт был явно поглощен Бертраном и Кристиной.
– Готовы, Диксон? – выкрикнул Уэлч. Рядом с миссис Уэлч он более, чем когда-либо, походил на старого боксера, которого поколачивает жена – бывшая посудомойка.
– Увидимся в зале, Профессор, – отозвался Диксон; бросив Маргарет «я сейчас», он чуть не побежал в туалет. Его охватил страх перед аудиторией; руки были ледяные и потные, ноги – как изношенные резиновые трубы, наполненные мелким песком; дыхание прерывистое. Пока мочился, он изображал лицом Ивлина Во; недоизобразив, бросил в пользу лица куда более дикого, чем обыкновенно им практикуемые. Диксон зажал язык между зубами; максимально раздул щеки; верхнюю губу натянул на нижнюю, добившись полного идиотического эффекта; подбородок выставил лопатой. Параллельно он пучил и скашивал глаза. Обернулся, встретил взгляд Гор-Эркарта, уничтожил достигнутое и выдал:
– Ох, это вы.
– А это вы, Диксон. – Гор-Эркарт проследовал по первоначальному назначению.
Диксон подошел к зеркалу и стал рассматривать фингал. Фингал был теперь куда ярче, чем Диксону помнилось. В сложившихся обстоятельствах любые попытки оправить пиджак или причесаться казались излишними. Диксон взял с полки папку, украденную еще во времена службы в ВВС (папка содержала его записки), и хотел идти, но услышал:
– Эй, Диксон, погодите минутку.
Диксон остановился. Гор-Эркарт смотрел внимательно, будто замыслил нарисовать на Диксона карикатуру – возможно, углем, а то и тушью, причем сразу после лекции.
– Ну что, юноша, поди, страшно?
– Очень.
Гор-Эркарт извлек из недр мешковатого своего пиджака плоскую, но явно увесистую фляжку.
– Отведайте вот этого.
– Спасибо.
«Непременно закашляюсь», – подумал Диксон. Взял фляжку, глотнул не стесняясь (субстанция оказалась чистейшим шотландским виски – по крайней мере чистейшим из тех, что Диксон пробовал прежде), зашелся кашлем.
– Что я говорил. Глотните еще.
– Спасибо. – Диксон снова не постеснялся, разинул рот, выпучил глаза, утерся рукавом, вернул фляжку. – Моя благодарность не знает границ.
– Оно вам на пользу пойдет. В хересной бочке выдержано, не как-нибудь. Ну, пожалуй, пора – народ зрелищ заждался.
Самые небыстрые еще подтягивались в лекторий. На верхней лестничной площадке ждали Голдсмиты, Бертран, Кристина, Уэлч, Бисли и лекторы с исторической кафедры.
– Сядем в первый ряд, сэр, – настаивал Бертран. Они пошли в зал, теперь безнадежно заполненный.
Первый ряд балкона оккупировали студенты. Гудел, нарастал, жил своей жизнью один сложносоставной разговор.
– Давайте, Джим, покажите класс, – подбодрила Кэрол.
– Удачи, старина, – подхватил Сесил.
– Ни пуха, приятель, – не отстал Бисли. Они пошли рассаживаться.
– Ну, юноша, пробил ваш час, – шепнул Гор-Эркарт. – Не волнуйтесь: в конце концов, что вам все эти люди? – Он стиснул Диксону локоть и сразу разжал пальцы.
Каждой клеткой ощущая шарканье и хлопки откидных кресел, Диксон последовал за Уэлчем к подиуму. Ректор и член совета графства (тот, что потолще) сидели в первом ряду. Надо же было так напиться, подумал Диксон.
Глава 22
Уэлч издал трубный звук, сходный с сыновним лаем. Он всегда так призывал к тишине – Диксону доводилось слышать пародии от студентов. Возня постепенно сошла на нет.
– Мы собрались сегодня в этом зале, – сообщил Уэлч, – чтобы послушать лекцию.
Пока Уэлч, подсвеченный настольной лампой, говорил и в такт словам мерно качался над кафедрой, Диксон рассматривал аудиторию с жадностью, вызванной по большей части стремлением не уловить ни единого слова Уэлча. Ишь набежали; правда, на задних рядах просторно, зато на передних и средних мест нет. В основном преподаватели с семьями и местные жители разной степени социальной значимости. Галерка, насколько Диксон мог видеть, тоже битком набита – некоторые даже стоят. На ближайшем к кафедре ряду Диксон различил члена совета графства (того, что потоньше), местного композитора и священнослужителя; титулованный врач, по всей вероятности, приходил исключительно за хересом. Прежде чем Диксон бросил взгляд на следующие ряды, его плавающее возвратное недомогание склонилось в пользу близости к обмороку; снизу, со спины, ударила горячая волна – и обосновалась в черепной коробке. Под угрозой стона Диксон усилием воли стал вгонять себя в норму. Обычное волнение; ничего, кроме волнения. И алкоголя, конечно.
– …мистеру Диксону, – сказал Уэлч и сел.
Диксон подскочил. Коленки бились одна о другую, будто Диксон грубо пародировал собственный страх перед аудиторией. Раздался гром аплодисментов; усердствовала в основном галерка. Диксон различал тяжелый топот. Не без труда он обосновался за кафедрой, пробежал глазами первую фразу и поднял голову. Аплодисменты теперь разбавлялись смешками; через минуту они пошли по нарастающей и скоро превысили прежний уровень, особенно в отношении топота – многие на галерке только сейчас увидели фингал.
В первых рядах зашевелились; в частности, ректор с явным раздражением обернулся на галерку. Диксон совсем смешался – и вострубил, точь-в-точь как Уэлч перед лекцией, и сам не понимая зачем. Гвалт миновал грань, до которой еще мог быть принимаем за аплодисменты. Ректор медленно поднялся. Гвалт несколько поутих. Выдержав паузу, ректор кивнул Диксону и сел.
К ушам прилила кровь, будто перед чихом. Он выстоит? Он будет говорить? Да ладно. Трубный глас уже был; какие еще звукоподражания родятся от его потуг? Диксон разгладил уголок рукописи и начал.
После первой полудюжины фраз стало ясно: что-то не так. На галерке прыскали и шушукались. Тут же Диксон понял, что именно не так: адресуясь к аудитории, он продолжает пародировать Уэлча. В погоне за непринужденной манерой изложения он перенасытил рукопись вводными словами, насеял всяких «разумеется», «как видно из сказанного» и «как вы могли бы это назвать». Именно Уэлч был известен слабостью к вводным словам. Мало того: подсознательная попытка заслужить одобрение Уэлча привела к использованию целого ряда его излюбленных формулировок: «интеграция социального сознания», «отождествление ремесла с искусством» и так далее. Теперь, когда натруженный мозг осознал ошибку, Диксон стал спотыкаться, мычать, повторяться и даже потерял абзац, за чем последовала десятисекундная заминка. Нарастающим гулом галерка подтвердила, что спецэффекты оценены по достоинству. Потный и красный, Диксон продирался сквозь текст, но интонации Уэлча крепко взяли голос в оборот. В голове поплыло – вероятно, прибыл авангард чистейшего виски. Впрочем, это мог быть и арьергард казенного хереса. Господи, ну и духота. Диксон замолчал, придал органам речи положение, максимально отличное от требуемого для интонаций Уэлча, и предпринял вторую попытку. Несколько секунд казалось, что теперь дело пойдет.
Рот говорил; взгляд скользил по первым рядам. Вот Гор-Эркарт – сидит с Бертраном, с другого боку оберегаемым мамочкой. Кристина справа от дяди, за ней Кэрол, Сесил, Бисли. Маргарет рядом с миссис Уэлч, но свет падает ей на очки таким образом, что непонятно, смотрит она на Диксона или не смотрит. Кристина шепчется с Кэрол; вроде чуть волнуется. Чтобы не смешаться из-за Кристины, Диксон перевел взгляд на дальние ряды. Он искал Билла Аткинсона. А, вон он куда забрался. За бутылкой виски полутора часами ранее Аткинсон настоял на своем приходе и даже выразил намерение сымитировать обморок, если Диксон одновременно почешет оба уха. Ну мало ли что. «Обморок будет первый сорт, – по обыкновению самоуверенно заявил Аткинсон. – Такой отвлекающий маневр изображу, что любо-дорого. Не дрейфь, старина». Диксону немалых усилий стоило не рассмеяться прямо перед аудиторией. Возле кафедры завозились; Диксон перевел взгляд с Аткинсона. Кристина и Кэрол пробирались мимо Сесила и Бисли с явным намерением покинуть лекторий; Бертран перегнулся через Гор-Эркарта и театральным шепотом увещевал обеих; Гор-Эркарт привстал, лицо у него было озабоченное. Диксон снова смешался и замолчал, когда же Кристина и Кэрол добрались до прохода и направились к двери, заговорил – раньше, чем следовало, заплетающимся языком, выдававшим крайнюю степень алкогольного опьянения. Нервно забегал по подиуму, споткнулся об основание кафедры и сделал опасный выпад. На галерке снова загудели. Член совета графства (тот, что потоньше) переглянулся со своей женой. Диксон заподозрил во взгляде неодобрение; этого хватило, чтобы замолчать.
По выходе из столбняка Диксон обнаружил, что прервал фразу на середине. Кусая губы, дал себе слово сосредоточиться. Откашлялся, нашел фразу и продолжал в быстром темпе, проговаривая согласные и не допуская спада интонации до последнего слога во фразе. По крайней мере каждое слово хорошо слышно, думал Диксон. Вторичное предчувствие катастрофы всего на несколько секунд опередило осознание, что теперь Диксон пародирует ректора.
Он поднял взгляд: на галерке веселились. В дверь стукнуло что-то тяжелое. Маконохи, подпиравший дверную раму, вышел, предположительно для проверки и наведения порядка. Голоса теперь раздавались и в самом зале; священнослужитель сказал что-то раскатистым басом. Бисли ерзал в кресле.
– Диксон, что с вами происходит? – шипел Уэлч.
– Простите, сэр… волнение, знаете ли… сейчас соберусь…
Вечер выдался душный; Диксон взмок как мышь. Дрожащей рукой налил воды из графина, залпом выпил. Его действие громко, но неразборчиво прокомментировали с галерки. Диксону казалось, еще секунда, и он расплачется. Может, вызвать Билла на обморок? Это будет нетрудно. Нет: все решат, что причина в алкоголе. Предпринял последнюю попытку взять себя в руки – пауза длилась полминуты, Диксон нарушил ее снова не своим голосом. Кажется, он вообще потерял способность говорить нормально. На сей раз он выбрал нарочито северный выговор, уповая на минимальную вероятность еще кого-нибудь спародировать. Галерка прыснула – и успокоилась, не иначе стараниями Маконохи. Целых несколько минут все было вполне пристойно. Диксон добрался до половины рукописи.
А потом пошло наперекосяк в третий раз. Теперь дело было не в словах и не в манере изложения, а в самом Диксоне. Не пьяным он себя чувствовал, а бесконечно несчастным, буквально убитым; чувство ворочалось, укладывалось в районе затылка. Диксон говорил, а тоска по Кристине давила на корень языка, повергала в элегическое молчание; на следующей фразе вопли ужаса хватали за горло, и Диксон едва сдерживался, чтобы не обнародовать свои соображения по поводу ситуации с Маргарет. Не успевал отпустить ужас, как ярость и досада заставляли губы занять позицию, подходящую для истерических обвинений в адрес Бертрана; миссис Уэлч; ректора; архивариуса; совета колледжа; колледжа в целом. Диксону стало наплевать на аудиторию; единственная слушательница, волновавшая его, ушла и возвращаться, по всей видимости, не собиралась. Ладно же; раз это последнее его публичное выступление, Диксон сделает все, чтобы запомниться. Пусть и возможности, и аудитория ограниченны, Диксон выжмет максимум. Довольно пародий, он слишком из-за них перетрясся; нет, теперь Диксон задействует интонации, конечно, в разумных пределах; посредством интонаций донесет свое отношение к предмету, покажет, чего на самом деле стоят тезисы, им излагаемые.
Постепенно – правда, отдельные участки мозга сигнализировали о недостаточной постепенности – Диксон стал подмешивать в интонации сарказм и горечь обиды. Только сумасшедший, подразумевалось его речью, воспримет всерьез хотя бы одну фразу из этих домыслов, из этой претенциозной, псевдонаучной, нагоняющей сон белиберды. Поразительно скоро Диксон взял тон нетипично фанатичного фашиста, которому доверено жечь книги и который вздумал озвучить толпе отрывок из памфлета, написанного образованным коммунистом-пацифистом еврейской национальности. Аудитория частью хихикала, частью выражала негодование; шум усиливался, но Диксон мысленно заткнул уши и продолжал читать. Почти бессознательно он усвоил неопределимый иностранный акцент, читал с нарастающей быстротой; голова кружилась. Уэлч сначала ерзал, потом стал шикать, наконец, заговорил в полный голос. Диксон был как во сне. Теперь каждую фразу он отмечал придушенным фырканьем. Он выплевывал слоги как проклятия; неправильные ударения, пропуски и спунеризмы оставлял без исправлений, страницы переворачивал, словно чтец партитур, который пытается угнаться за presto, тон повышал с каждым словом. Остался последний абзац; Диксон замолчал и поднял взгляд.
В глазах местных важных персон застыло ошеломленное несогласие. Профессора, доценты, старшие преподаватели смотрели с тем же выражением; младшие преподаватели не смотрели вовсе. Единственной персоной в зале (галерка не в счет), производящей звуки, был Гор-Эркарт, и звуки эти представляли собой визгливый смех. С галерки доносились крики, свист, аплодисменты. Диксон вскинул руку, призывая к тишине; никто не внял. Это было слишком; голова снова закружилась, Диксон поднес ладони к ушам. Тотчас общий гвалт перекрыл единичный звук, нечто среднее между стоном и ревом бизона. Это Аткинсон, не сумевший – или не пожелавший – с такого расстояния определить, чешет Диксон уши или прикрывает, растянулся в проходе. Ректор вскочил, принялся открывать и закрывать рот, никакого эффекта не добился и шепнул что-то члену совета графства. Вокруг Аткинсона засуетились, стали его поднимать. Аткинсон лежал бревном. Уэлч выкрикивал: «Диксон! Диксон!» К простертому Аткинсону устремились студенты с галерки – человек двадцать, если не тридцать. Мешая друг другу советами и указаниями, поволокли Аткинсона к двери. Диксон вышел из-за кафедры, и шум наконец прекратился.
– Достаточно, мистер Диксон, – провозгласил ректор и отчаянно зажестикулировал Уэлчу, но было поздно.
– Итак, какие же практические выводы следуют из всего вышесказанного? – произнес Диксон своим обычным голосом. Он говорил как в приступе разновидности головокружения, он чувствовал себя машиной для выброса слов. – Слушайте, слушайте меня! Главное, что следует уяснить насчет милой Англии – что это был едва ли не самый скверный период нашей истории. Просто есть любители кустарных глиняных горшков, органического земледелия, замшелых патефонов, эсперанто… – Диксон сделал паузу, пошатнулся. Духота, алкоголь, волнение и чувство вины наконец объединили силы. Голова раздувалась и одновременно теряла в весе; в теле шел молекулярный распад. В ушах шумело, боковое зрение подводило, а заодно и верхнее с нижним – Диксон словно протер кружок в закопченном оконном стекле. Заскрипели кресла; кто-то схватил Диксона за плечо; Диксон споткнулся. Пока он оседал из объятий Уэлча, сверху, перекрывая гвалт, доносился ректорский голос:
– …которую мы вынуждены прервать по причине внезапного недомогания лектора. Уверен, вы все…
«Кончено, – успел подумать Диксон. – А ведь я даже не сказал им…» Он глубоко вдохнул; если бы получилось выдохнуть, он был бы в порядке. Но выдохнуть не получилось, и лекторий накрыла гулкая монохромная волна.
Глава 23
– Вот и все, – сказал на следующее утро Бисли. – Вполне понятно. Это ведь его виски тебя доконало?
– Да, пожалуй, без виски можно было обойтись. Хотя в глазах Уэлча это не оправдание.
– Еще бы. Ты, Джим, упирай на волнение и духоту. И вообще, ты ведь дошел практически до конца.
– Я им публичную лекцию запорол. Такое не прощают. А Недди с ректором я тоже от нервов и духоты пародировал, да?
Они прошли через колледжские ворота. Трое студентов резко прекратили треп, стали пихать друг друга локтями и кивать на Диксона.
– Ну, не знаю, – протянул Бисли. – Попробовать-то можно. Тебе нечего терять.
– Нет, Альфред, ты прав. Ладно, пустяки. Лекция в любом случае позади. Но есть еще и Кристина. Уэлч наверняка уже в курсе.
– Джим, не отчаивайся. Сомневаюсь, чтобы Уэлч прислушивался к воплям этого своего Бертрама, или как там его. Твои отношения с девушкой профессорского сына не повод тебя увольнять.
– А про Маргарет ты забыл? Уэлч воспримет так, будто я ее обманываю. А я и обманываю, какие объяснения ни измышляй.
Бисли ответил одним взглядом; когда же они вошли в преподавательскую, произнес:
– Смотри, Джим, как бы тебя самого не обманули. Встретимся за кофе?
– Да, – рассеянно уронил Диксон. У него в ящике лежала записка, написанная рукой Уэлча. У Диксона екнуло сердце. Он шел по лестнице и одновременно читал. Уэлч полагает своим долгом сообщить ему, разумеется, неофициально, что на следующей неделе, когда соберется совет, он, Уэлч, не сможет ходатайствовать об удержании Диксона на следующий учебный год. Он рекомендует Диксону, опять же неофициально, как можно скорее покинуть город. Он напишет максимально положительную характеристику для любого учебного заведения за пределами города, которое Диксон выберет для своей дальнейшей карьеры. Лично он сожалеет, что Диксону придется уехать, ибо находил удовольствие в их сотрудничестве. В постскриптуме сообщалось, что Диксон может не беспокоиться относительно «неувязочки с постельным бельем» – он, Уэлч, со своей стороны, «считает инцидент исчерпанным». Что ж, очень благородно; Диксон почувствовал укол совести за то, что изрядно опустил Уэлча на лекции, и укольчик – за то, что столько времени и сил потратил на ненависть.
В кабинете, общем с Сесилом Голдсмитом, Диксон остановился у окна. Вчерашняя духота исчезла, причем обошлось без грозы; небо обещало многие часы отличной погоды. Перестраивали физическую лабораторию: у стены стоял грузовик, рабочие разгружали кирпич и цемент, слышался стук молотков. Куда-куда, а в школу Диксон легко устроится – его еще на Рождество директор звал, говорил, место историка до сентября будет вакантно. Надо ему написать: дескать, решил, готов, обнаружил, что преподавание в колледже не по нем. Но только не сегодня, ни в коем случае.
Хорошо, а чем он сегодня займется? Диксон отошел от окна, взял у Голдсмита со стола толстый красочный журнал, выпускаемый каким-то итальянским историческим обществом. Глаз зацепился за фразу на обложке, Диксон нашел соответствующую страницу. Он никогда не учил итальянский, но итальянское написание фамилии автора, Л.С. Кейтона, не отличалось от английского, да и понять в общих чертах содержание статьи было нетрудно. Минуты через две Диксон уверился: речь идет о методах кораблестроения в Западной Европе в конце пятнадцатого века и об их влиянии на что-то там. Все ясно: перед ним либо подробный пересказ, либо перевод его кораблестроительной статьи. Подходящего лица на такой случай у Диксона не было; он вдохнул поглубже, чтобы выругаться, но вместо этого истерически захохотал. Вот, значит, как людям ученые степени достаются. По крайней мере степени такого рода. Впрочем, это уже неактуально. Нет, но каков старый вонючий… Кстати о вонючих. Надо найти Джонса и высказать ему все, а лучше применить насилие. Будет знать, как стучать. Вот и занятие. Диксон вышел из кабинета и стал спускаться по лестнице.
Восстановить картину преступления оказалось просто: Диксон переговорил с Бисли и Аткинсоном и вычислил, что Джонс подслушивал, как Бисли и Аткинсон обсуждали его чаепитие с Кристиной, а при первой же возможности донес другу и патронессе. Джонс мог это сделать, и он это сделал; в любом случае у Диксона имеется свидетельство Бертрана, и не важно, каким образом Джонс получил информацию. Диксон приблизился к кабинету, полыхнул от ненависти как неоновая вывеска, постучался и вошел.
В кабинете никого не было. Диксон шагнул к столу, заваленному стопками страховых полисов. Секунду поразмыслил: чем он мог заслужить два доноса? Украшательством фото в газете? Так это просто ребячество. Письмом от Джо Хиггинса? Обычный розыгрыш – кто на такое обижается? Диксон кивнул сам себе, сгреб пачку полисов, запихал в карман и вышел.
Несколько минут спустя он на цыпочках спускался в котельную. Народ как повымер весь. Под ногами скрипела угольная пыль, Диксон ходил от котла к котлу. Неужели ни один не работает? Должны же они как-то греть воду для уборных. Наконец работающий котел нашелся. Диксон взял с полу нечто вроде кочерги, сдвинул крышку. Полисы сгорели в момент и без остатка – комар носа не подточит. Диксон вернул крышку на место, бросился вверх по лестнице и, никем не замеченный, вышел.
Ну а теперь что? Он явился в колледж ни за чем, просто хотел говорить с Бисли, а Бисли нужно было на работу. Раз его увольняют, незачем ждать перерыва и кофе пить – не ровен час, нарвешься на Уэлча или ректора. Вообще незачем больше приходить, разве только за вещами. Взять их сейчас, тем более унести можно в один прием – у Диксона здесь только два-три справочника и лекционные записи. Он вернулся в кабинет, стал собираться. Работа в родном городе подразумевала резкое сокращение встреч с Маргарет. Нет, недостаточно резкое – дом Маргарет всего в пятнадцати милях от дома его родителей. Как показывает опыт, для еженедельного совместного вечера расстояние достаточно приемлемое или недостаточно неприемлемое. Раз в неделю, да все лето. Которое еще даже не началось.
На выходе Диксона догнал незнакомый молодой человек, впрочем, явно кого-то напоминавший.
– Вы вчера прочли великолепную лекцию, – произнес молодой человек.
– Мики, – сообразил Диксон. – Вы сбрили усы.
– Сбрил. Эйлин О'Шонесси сказала, они ей осточертели, вот я нынче утром с ними и распрощался.
– И правильно сделали, Мики. Вам так гораздо больше идет.
– Спасибо. Надеюсь, вы уже вполне оправились после… после обморока.
– Вполне, благодарю вас. Во всяком случае, ущерб совместим с жизнью.
– Я рад. Нам всем очень понравилась ваша лекция.
– Приятно слышать.
– Она стала настоящим событием.
– Я понял.
– Жаль, вам не удалось закончить ее.
– Очень жаль.
– И все же вы донесли основную мысль. – Мики выждал, пока пройдут заплутавшие посетители колледжской недели открытых дверей. – Я хотел спросить… надеюсь, вы правильно поймете… Некоторым из нас показалось, что вы были несколько… немного…
– Пьян? В общем, да.
– Наверно, вам за это досталось? Или у них еще руки не дошли?
– Дошли.
– У вас крупные неприятности?
– Не вижу смысла запираться. Да. Крупные. Меня уволили.
– Как? – Мики явно сочувствовал, хотя новость не вызвала ни удивления, ни возмущения. – Быстро же они. Мне чрезвычайно жаль. Это только из-за лекции?
– Не только. Были еще ведомственные неурядицы; вероятно, вы о них слышали.
Мики помолчал.
– Некоторым студентам будет вас очень не хватать.
– Какое совпадение: мне будет очень не хватать некоторых студентов.
– Завтра еду домой, так что хочу сейчас попрощаться. У меня ведь зачет? Вы уже проверили работы, да? А то официально раньше следующей недели не сообщат.
– Разумеется, у вас зачет. И у всей вашей группы. Завалил только Дрю. Надеюсь, вы с ним не приятели?
– Бог миловал. Спасибо, теперь поеду с легким сердцем. Ну, прощайте. Видимо, на следующий год пойду на факультатив к Недди.
– Вариантов негусто. – Диксон сунул пожитки под левую мышку и пожал руку Мики. – Всего наилучшего.
– И вам того же.
Диксон пошел по Колледж-роуд. О том, что надо бы бросить прощальный взгляд на колледж как таковой, он вспомнил слишком поздно. С учетом обстоятельств беззаботность прямо-таки непозволительная. Нынче днем он поедет домой; дня через два он бы так и так поехал. На следующей неделе вернется, заберет вещи со съемной квартиры, увидится с Маргарет, ну и тому подобное. Увидится с Маргарет. «Оооойаааааааууууу, – провыл он мысленно. – Вуууууйоооооооо!» С учетом смехотворности расстояния до ее дома пинок из колледжа вообще не переезд – так, слабый дрейф. И это самое скверное.
Диксон вспомнил, что именно сегодня у него назначена встреча с Кэчпоулом. Интересно, чего этому типу надо? Строить домыслы не хотелось; главное было – убить время до ленча. Диксон пошел на съемную квартиру, сделал примочку на подбитый глаз (синяк чуть побледнел; впрочем, новый оттенок обещал быть столь же омерзительным и еще более нездоровым). За примочкой последовал разговор с мисс Катлер о столе и стирке; затем пришлось побриться и принять ванну. Пока Диксон мок, зазвонил телефон; через несколько секунд под дверью появилась мисс Катлер.
– Мистер Диксон, вы здесь?
– Да, я моюсь. В чем дело, мисс Катлер?
– Какой-то джентльмен просит вас к телефону.
– Кто именно?
– Извините, я не расслышала его фамилию.
– Не Кэчпоул, случайно?
– Как? Нет, другая фамилия. Подлиннее.
– Мисс Катлер, будьте добры, попросите его оставить номер и скажите, что я перезвоню через десять минут.
– Хорошо, мистер Диксон.
Диксон вытирался и гадал, кому еще не спится. Бертран вздумал угроз добавить? Весьма вероятно. Джонс вычислил, какая судьба постигла его полисы? И этот вариант не исключен. Ректор вызывает на экстренный совет колледжа? Избави Бог.
Как же славно не делать ничего из того, что он делал прежде, думал Диксон, пока одевался. Оказывается, компенсация за прекращение лекторской деятельности состоит главным образом в прекращении лекторской деятельности. В знак разрыва с академическим миром Диксон напялил старый пуловер. Брюки были те самые, что он порвал в машине, – мисс Катлер искусно их починила. Возле телефона обнаружился номер, записанный ее девчачьим почерком. Мисс Катлер так и не удалось расслышать фамилию звонившего, зато она зафиксировала номер, который Диксон, к своему удивлению, определил как относящийся к деревне в нескольких милях от его квартиры и в противоположном направлении от дома Уэлчей. Странно: вроде у него там нет знакомых. Ответил женский голос.
– Алло, – сказал Диксон. Поистине он мог бы диссертацию написать по использованию телефона в нерабочее время.
Женщина подтвердила набранный Диксоном номер.
– У вас мужчина проживает? – спросил Диксон, сам чувствуя, до чего глупо это звучит.
– Мужчина? Кто у аппарата? – Тон стал враждебным.
– Моя фамилия Диксон.
– Ах, мистер Диксон. Да, конечно. Секундочку.
Последовала короткая пауза, затем мужской голос произнес в самую трубку:
– Алло. Это вы, Диксон?
– Да, я. Кто говорит?
– Гор-Эркарт. Вас уже вышвырнули?
– Что?
– Я спрашиваю, вас уже вышвырнули с работы?
– Да.
– Отлично. Значит, я своим вопросом не нарушил конфиденциальности. Ну, Диксон, и каковы ваши планы?
– Да вот думаю, не пойти ли в школу преподавать.
– Вы уже окончательно решили?
– Вообще-то нет.
– Еще лучше. У меня для вас работа. Пятьсот фунтов в год. Приступать с будущего понедельника. Жить придется в Лондоне. Согласны?
Диксон, как ни странно, не только не задохнулся от счастья, но даже смог говорить.
– А что за работа?
– Будете вроде личного секретаря. Перепиской занимается одна молодая леди, так что в бумажках не зароетесь. По большей части вам придется встречаться с людьми или сообщать им, что я занят. Детали обсудим в понедельник утром. В десять, у меня дома. Записывайте адрес. – Гор-Эркарт продиктовал адрес и уточнил: – Ну что, порядок теперь?
– Да, спасибо, я уже оклемался. Сразу лег спать, как только…
– Я вас, юноша, не о здоровье спрашиваю. Я спрашиваю, вы все уяснили? В понедельник вас ждать?
– Да, конечно. Большое спасибо, мистер Гор-…
– Вот и славно. До встречи.
– Мистер Гор-Эркарт, погодите. Скажите, я что, буду работать с Бертраном Уэлчем?
– С чего вы взяли?
– Слышал, он претендует на это место.
– А получаете его вы. Я, как только увидел Уэлча-младшего, сразу понял: никуда не годится. Что он, что мазня его. Окрутил мою племянницу, мерзавец; как только ему удалось. Ей говорить бесполезно. Упряма как осел. Еще хуже своей матери. Ладно, пусть ее. Думаю, Диксон, вы справитесь. Дело не в вашей пригодности – хоть для этой работы, хоть для какой другой; от этих, от пригодных, плюнуть некуда. У вас зато отсутствует непригодность, что куда более редкий случай. Еще вопросы будут?
– Нет. Спасибо. Я…
– В понедельник ровно в десять. – И Гор-Эркарт повесил трубку.
Диксон поднялся из-за бамбукового столика на ватных ногах. Какой звук пристал припадку благоговейного восторга? Он задержал дыхание, чтобы погромче забулькать от счастья, но единичный звон будильника с каминной полки напомнил еще об одном деле. Половина первого – на это время назначена встреча с Кэчпоулом по поводу Маргарет. Ходить иль не ходить? Проживание в Лондоне умалит важность проблемы; нет, скорее, актуальность, нежели важность. В конце концов любопытство взяло верх.
Из дома Диксон вышел, смакуя данную Гор-Эркартом характеристику Бертрана как живописца. Он всегда знал; он сразу почувствовал; он не мог ошибиться. А потом Диксон вспомнил, что безработный бездарь Бертран обладает Кристиной, и жизнерадостная рысца трансформировалась в прибитое шарканье.








