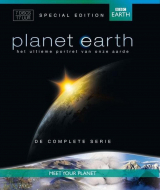
Текст книги "Japan: Land of the Rising Sun"
Автор книги: Kim Chun
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Томо приподняла тяжёлые веки и посмотрела на мужа каким-то отстранённым взглядом.
– Не знаю… Что сказал сэнсэй Инэдзава?
– Он говорит, что у тебя плохо с почками… Но покой и отдых могут вылечить всё. Ты ведь всегда была такой крепкой…
– Нет! – с неожиданной резкостью ответила Томо, пытаясь приподняться с постели. Она явно хотела о чём-то поговорить. Юкитомо силой заставил её лечь. Когда он нажал на её плечи, к которым не прикасался десятки лет, кости, выпиравшие под ночным кимоно, жалобно скрипнули.
– Не надо вставать. Эцуко передала мне твою просьбу. Я уверен, что ты поправишься, но всё может статься… Если хочешь что-то сказать, можешь сказать сейчас. Я всё запомню.
– Спасибо… Это очень хорошо. Я подготовила
завещание – на крайний случай. Вы найдёте его в комнате с алтарём, оно лежит в нижнем ящике комода. На бумаге так и написано – «Завещание». Я хочу, чтобы вы знали, что там написано, прежде чем я умру…
Томо нащупала под подушкой мешочек с ключами и протянула его Юкитомо, не отрывая взгляда. За все прошедшие годы она ни разу не посмела так посмотреть на мужа – открыто и твёрдо. Она умирала – она была свободна.
Оставив больную, Юкитомо в одиночестве прошёл в комнату с алтарём. Впервые за столько лет он держал в руках этот ключ. Вставив его в маленькую скважину, он покрутил вправо-влево, и замок открылся. В ящике был идеальный порядок: банковские книжки и другие документы разложены аккуратными стопочками. На самом верху белел конверт с иероглифами «Завещание».
Почерк был неумелый. Он поднёс его к свету, лившемуся из окна, и аккуратно сломал печать. Завещание было начертано тем же неловким почерком, в основном хираганой. Томо плохо знала иероглифы. Она писала высоким стилем с эпистолярными оборотами, принятыми для женщин, о деньгах, что скопила и приумножила втайне от мужа. Сумма была довольно значительная. Начало было положено сорок лет назад, когда Томо ездила в Токио по поручению Юкитомо, нашла и привезла домой юную Сугу. Тогда Юкитомо вручил на расходы две тысячи иен и разрешил потратить их по её усмотрению. За вычетом платы за Сугу и дорожных расходов у Томо осталась целая тысяча. Сначала она хотела по возвращении вернуть остаток денег супругу, однако слишком нежное отношение мужа к Суге вынудило её задуматься о собственном будущем и начать копить деньги на чёрный день, не столько ради себя, сколько ради детей, Эцуко и Митимасы. Эти деньги она приумножала, храня от всех свою тайну, в течение многих лет. При этом она не потратила ни иены на свои прихоти. «Если я уйду из жизни, – писала Томо, – я желаю, что-бы сумма была поделена между внуками, Сугой, Юми и другими людьми, связанными с семьёй».
Юкитомо читал, вновь и вновь испытывая ощущение, что столкнулся с силой, значительно превосходящей его. Ни слова упрёка мужу, столько лет тиранившему жену. Томо лишь извинялась за то, что доверяла ему не всецело и столько лет хранила в душе свою тайну. Однако именно это задело Юкитомо гораздо сильнее, чем самые обидные слова.
Пытаясь стряхнуть с себя неприятное чувство, Юкитомо резко выпрямился и пошёл по коридору в комнату Томо. Она лежала всё в той же позе, с широко открытыми глазами.
– Томо… Не беспокойся. Я хорошо тебя понимаю. Я прочёл всё, что ты написала. – Голос Юкитомо прозвучал звонко и сильно. Он не умел извинять-ся перед женой, это было самое большее, что он мог себе позволить.
Томо пытливо заглянула ему в лицо:
– Значит, вы прощаете меня? Благодарю…
В эту ночь Томо впала в какое-то полубессознате льное состояние. Но даже в моменты редкого просветления она почти не разговаривала и смотрела перед собой пустыми глазами.
Юкитомо заботился о беспомощной Томо так нежно, будто та всю его жизнь была любимой женой. И все домашние, для которых слово хозяина было закон, тоже стали оказывать Томо почести, какие, собственно, и полагались ей как хозяйке дома и законной супруге.
Февраль шёл к концу – и так же неотвратимо приближался конец Томо.
Той ночью дежурить у Томо пришли жена Митимасы – Фудзиэ и племянница Юкитомо – Тоёко. Они отпустили сиделку и остались с больной одни. Был такой пронизывающий холод, что женщины не успевали подкладывать угли в жаровню – те тотчас же прогорали и превращались в пепел.
– Тоёко-сан… – Томо внезапно широко открыла глаза и повернула голову. Тоёко поспешила к больной, а Фудзиэ поддержала голову свекрови, опасаясь, что резкое движение может вызвать приступ неукротимой рвоты. Но Томо раздражённо тряхнула головой. Она никогда прежде не позволяла себе так открыто выказывать чувства, и родственницы даже растерялись. Седеющие пряди волос упали на впалые щёки Томо. – Томо головы не подняла, но проговорила неожиданно звучно:
– Тоёко-сан, пойди, пожалуйста, к господину и передай ему… скажи, что когда я умру, не надо предавать мой прах земле… пусть отвезёт меня к Синагаве… и выбросит там… пусть бросит в воду, как мусор… Большего мне не надо! – Глаза у Томо вдохновенно сверкали. Они горели таким неистовым пламенем, что обе женщины оторопели. Неужели это госпожа Сиракава, у которой чувства всегда были подёрнуты дымкой сдержанной холодности, словно угли пеплом?
– Тётушка, что вы такое говорите?!
– Да что случилось? – хором запричитали они, но Томо, казалось, даже не слышала их.
– Ступайте прямо сейчас. Иначе вы не успеете! Вы должны сказать ему это! Пусть бросит моё тело в воду… В воду… – она повторила эти слова с видимым удовольствием.
Тоёко и Фудзиэ не посмели ослушаться. Они вышли в коридор и обменялись многозначительными взглядами. Они тоже были замужем, прошли через страдания – и женским сердцем поняли всё.
– Что же нам делать? Сказать?
– Нужно сказать. Она ведь так об этом просила…
Им было страшно хранить в тайниках души неистовые эмоции Томо. Слишком долго она копила этот чудовищный груз.
– Отец… Вы ещё не спите? – окликнула Юкитомо Фудзиэ, входя в комнату вместе с Тоёко. Юкитомо, как всегда, занимался собой – откинувшись на спинку сиденья, он промывал глаза борной кислотой. Ни Суги, ни внуков в комнате не было.
При виде добровольных сиделок его жёсткий взгляд смягчился.
– Благодарю за труды, – церемонно сказал он.
Присев, Тоёко скороговоркой передала послание Томо. Она хотела представить это как бред умирающей, однако против воли голос её прозвучал резко и громко, словно в неё вселился дух самой Томо.
Маска любезности мгновенно исчезла с лица Юкитомо. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, да так и застыл. Лицо у него было совершенно потерянное. В глазах промелькнул отчётливый страх, словно он узрел привидение. Но тут же нечеловеческим усилием воли он взял себя в руки. От страшного напряжения черты лица исказились в уродливую гримасу.
– Я никогда не позволю подобной глупости! Её проводят в последний путь из этого дома как подобает! Я устрою ей пышные похороны, так и передайте! – яростно выкрикнул он, потом отвернулся и шумно высморкался. Сила эмоций жены, над которой он властвовал почти сорок лет, раздавила его.
Броня его мужского превосходства дала трещину.
This book has been selected by the Japanese Literature Publishing Project (JLPP) which is run by the Japanese Literature Publishing and Promotion Center (J-Lit Center) on behalf of the Agency for Cultural Affairs of Japan
Original title: Onnazaka, by Yoko Shimada
Originally published in Japan by Kadokawa Shoten, Tokyo
Kazuo Okamatsu.
«Огонь Человеческий»
Война окончилась месяца через два после того, как их дом сгорел во время страшного налета «Б-29» и они переехали в район, уцелевший от пожара. Американцы вошли в Хаката только к концу сентября, но слухи о них поползли задолго до этого, и мать, по совету бабушки, уехала на время в деревню к родственникам. В октябре бабушка сказала Сиро:
– Поезжай к матери, скажи: бояться, мол, больше нечего, можно возвращаться.
В выходной день Сиро отправился на электричке в Вадзиро. По шоссе мчались американские «джипы» и большие грузовики. Аэродром «Соколиное гнездо», лежавший на полпути от Вадзиро к острову Сигадзима, был занят американцами.
Сиро не виделся с матерью десять дней. Когда он добрался до деревни, оказалось, что она вместе с его тетушкой работает в поле. Старуха, судя по всему, мать тетушки, проводила его.
Шла уборка батата. Мать была в момпэ, какие надевают крестьянки для работы в поле. Она бросала бататы в велосипедный прицеп. Солнце палило, и голова ее была низко повязана белым полотенцем. Такой он мать еще никогда не видел.
– Бабушка велела передать, что бояться нечего, можно возвращаться.
Подошла тетушка. Сиро поклонился.
– Нечего бояться, не так ли? – сказала она и лукаво усмехнулась.
Тетушка сильно загорела. Живая, веселая, улыбчивая, тетушка была единственной наследницей своего отца, поэтому когда она вышла замуж, то муж поселился в ее доме. В армию он был призван военным врачом, но уже вернулся и открыл практику.
Она, бывало, нередко наведывалась в Хаката на представления труппы Кабуки или послушать концерт. Недостатка в средствах она не знала и обычно выманивала мать из дома, приговаривая: «О деньгах не беспокойся, не беспокойся ты о деньгах».
Конечно, последние два-три года, когда война особенно ожесточилась, о развлечениях не могло быть и речи. Но она и тогда навещала мать и, словно юная девушка, жаловалась ей, что скучает.
Теперь тетушка сажала батат. «Все из-за войны», – подумал Сиро. Вот и война позади, а трудностям не было видно конца. Для их семьи, по крайней мере. Сколько еще лет пройдет, пока они встанут на ноги?!
– До чего ж хорош батат уродился! – сказала старуха.
– А я удобряла как следует, – сказала, улыбаясь, тетушка, – оттого и уродился.
Она по-прежнему была весела и беззаботна. Это
Сиро нравилось.
– Помоги нам немного, сынок, – сказала мать.
Сиро проработал с ними около часа.
Домой возвращались втроем.
– Хотела красный батат посадить, он и на вкус лучше – да семян не достала. Посадила «Окинаву-сто».
– Красный батат! Не слишком ли роскошно!
– Да что ты! Я вовсе не помышляю о роскоши. Какая уж тут роскошь в наше время!
Тетушка охотно болтала, как и прежде, в их студенческие времена.
Покойный отец ее был врачом, и посватался к ней выпускник медицинского факультета университета Кюсю. Если бы не ее живая прелесть, она едва ли бы вышла замуж, ведь Вадзиро – захолустье, хоть и пригород Хаката. Муж унаследовал больницу тестя. Тот было уже примирился с тем, что у него не будет преемника, но тетушкино обаяние сделало свое дело. Детей у них не было, и тетушка была в доме и женой и дочкой. Муж, видимо, любил ее.
Велосипедный прицеп поставили во дворе. Передохнув немного, тетушка сказала:
– Взгляни-ка на маму, Сиро. Ничего не замечаешь?
Мать засмеялась.
– Вот снимет полотенце с головы, сразу поймешь
в чем дело.
И тетушка велела матери снять полотенце.
Мать сняла. Виски у нее были седыми, а из-под седины проглядывали черные волосы.
– Понял? – Тетушка тоже развязала полотенце и приблизилась к Сиро.
– Покрасили чем-то?
– Ну да! Развели глину в воде и намазались. Американцы, говорят, не разбирают возраст японских женщин. Покрасишь вот так – и все в порядке. Я вычитала этот способ в одном французском романе.
Тетушка накачала воды из колодца и предложила матери умыться:
– Возьми мыло, сразу смоется.
Мыло было белоснежным, высшей марки. В доме у Сиро такого мыла не водилось. Стирали и умывались мягким низкосортным мылом, купленным на черном рынке.
– Душистое какое, – заметила мать.
– Да у них все лучше, что ни возьми, – победители.
Мать вытерлась полотенцем и стала вновь такой, какой привык ее видеть Сиро. Белое, круглое лицо, глаза немного грустные.
Теперь она стала качать воду из колодца. Тетушка несколько раз сменила воду в тазу. Наконец из-под полотенца на Сиро взглянули прежние тетушкины глаза.
– Скорее намажемся кремом, а то кожа загрубеет! – Она схватила мать за руку и повлекла в дом. – Ты тоже руки вымой, – крикнула на ходу мать.
Они с тетушкой работали в перчатках, а Сиро дергал батат голыми руками, и руки у него почернели от ботвы. Сиро намылился американским мылом. Пахло оно и вправду чудесно. Едва люди пришли в себя и сообразили наконец, что это такое – оккупационный корпус, а уж тетушка успела обзавестись американским мылом. Пустила, верно, в ход свой английский, не иначе. Тетушка училась английскому языку в Женском институте в Токио, так что особую робость перед американцами она вряд ли испытывала. Ну, а кроме того, в свои четырнадцать лет Сиро уже прекрасно чувствовал то обаяние женственности, которым так и веяло от тетушки и о котором он в общении с матерью понятия не имел. Оно сквозило не только в живой игре тетушкиного лица, не только в непринужденности манер, но и в смелых ее речах. Еще шла война, а тетушка в разговоре с матерью однажды сказала: «Как это американцы спят на кроватях, в толк не возьму!» Мать, очевидно, думала, что Сиро не понимает тетушкиных слов, однако по растерянному выражению материнского лица он чутко уловил их тайный смысл. И сегодня, когда на бататовом поле тетушка сказала: «– Нечего бояться, не так ли», – он расслышал другой, особый смысл в словах, которые в устах бабушки прозвучали для него обычно. Тетушка подтрунивала над ним. Сиро это понимал, но делал вид, что не понимает.
Перед отъездом они отобедали у тетушки. За стол село семь человек: в доме жили две медсестры. Дядя сидел рядом с тетушкой. Он очень плохо выглядел, сильно исхудал. До армии он казался вполне здоровым. «Наверное, досталось ему там», – подумал Сиро. На обед подали вареную камбалу, пойманную утром. Рыбы в этом сезоне было много, и рыбаки доставляли ее дяде, когда он просил.
*
Получив в подарок немного батата, Сиро с матерью сели в электричку. Мать была в тетушкином свитере и юбке и выглядела совсем молодой. Любуясь осенними красками залива Хаката, Сиро размышлял о дядиных словах, сказанных за обедом.
– Кэйко-сан! – сказал дядя. – У Сиро есть бабушка, так что тебе не мешало бы подумать о замужестве. Во время войны погибло много мужчин, но и женщины умирали. Будет хорошее предложение, не отказывайся.
– Правильно, правильно! – подхватила тетушка. – Ты еще молодо выглядишь. Супруг мой давно твердит: «Какая Кэйко красавица! Какая красавица!» Мне впору ревновать! А последнее время, когда хочет угодить мне, говорит: «До чего ты похожа на Кэйко, ах, до чего похожа на свою двоюродную сестру!»
Мать смеялась. Интересно, о чем она думала? Ведь она дважды была замужем и оба раза неудачно.
Сиро плохо помнил отца. Он был из семьи мелкого землевладельца из уезда Савара. Там в саду протекал ручей, они запрудили его и разводили карпов. Отец жил в дальней комнате, куда вел дощатый мостик. Сиро было запрещено ходить по этому мостику. В свое время отец ушел из дома и стал жить с матерью отдельно, но вскоре заболел туберкулезом и вернулся домой. Матери с Сиро отвели темноватую комнату с маленьким окном – словно служанке. По мостику ходила только мать, которая носила отцу еду, врач и священник. Дед и бабка ни разу не улыбнулись внуку. Жалел Сиро только брат отца, Хиросэ Кодзиро, носивший тогда студенческую фуражку. Отец так и умер в дальней комнате. Немного спустя мать и Сиро уехали к бабушке в Хаката. В деревне мать и отца презрительно называли «сожителями», потому что они поженились, не устраивая официальной свадьбы. Когда мать сказала о своем желании вернуться в родительский дом, старики ее не удерживали. Поэтому Сиро мало что помнил из своей жизни в Савара. В тот день, когда они с матерью вернулись в дом ее родителей, мать плакала, склонившись перед дедушкой, который был тогда еще жив. Когда умер отец, то, по деревенскому обычаю, его поместили в сидячий гроб и похоронили на кладбище на окраине деревни. А когда год спустя умер дедушка, к дому подъехал катафалк. «В Хаката по-городскому хоронят», – подумал Сиро и не стал противиться, когда его посадили на катафалк, где стояла урна с прахом дедушки.
Отец по окончании университета служил в одной из фирм в Хаката. Там он, наверно, познакомился с матерью, когда она училась в префектуральной женской школе. Мать была единственной дочерью в семье, а отец – старшим сыном. Поэтому обе семьи были против их брака. Мать, увлекавшаяся женщинами типа Хирацуки Райтё, убежала из дому к отцу, и они стали «сожителями»…
– Как же теперь жить? – прошептала мать, глядя на быстро меняющийся пейзаж за окном вагона.
– А что, если с дядей Хиросэ посоветоваться? – сказал Сиро.
У Сиро сохранилась добрая память о дяде, потому что дядя любил его. Но они не встречались с тех пор, как кончилась война. Бабушка, которая была предубеждена против мужчин, крутившихся вокруг матери, к дяде относилась с симпатией.
– Может, еще не демобилизовался, – сказала мать. Она, видимо, тоже надеялась на дядю Хиросэ.
– А разве он не во внутренних войсках служил?
За несколько дней до капитуляции Хиросэ Кодзиро заходил к ним в офицерской форме, сказал, что приехал в штаб Западной армии для связи. Если его потом послали за пределы страны, то вряд ли он вернулся, потому что транспорты, вероятно, уже не ходили. Американская армия, высадившаяся два месяца назад в Японии, установила полный контроль над Окинавой. Но дядя служил, кажется, в особой части, предназначавшейся для боев на территории самой Японии…
– А что, если съездить к нему в Савара?
– Нет уж! – решительно отрезала мать.
В Савара должны были находиться жена и дети дяди Хиросэ, двоюродные братья Сиро. Мать и Сиро были с ними не знакомы. Когда мать второй раз вышла замуж, ее с сыном вычеркнули из семейного списка дома Хиросэ.
А обстоятельства сложились так, что мать вышла замуж второй раз. После смерти дедушки дела их сильно пошатнулись. Им уже не хватало платы за аренду от тех домов, что они сдавали, и бабушка пустила несколько семей в свой двухэтажный дом, в ту его часть, которая смотрела окнами на улицу, а они втроем переселились во флигель. Темный коридор с земляным полом на первом этаже дома вел в маленький внутренний дворик, там в глубине стоял флигель. В Хаката много таких домов.
По этому коридору проходили люди, предлагавшие матери выйти замуж. Сиро всякий раз отправляли наверх, однако, стоя на лестнице, он слышал, о чем говорилось внизу. Переговоры обычно вела бабушка.
Сиро учился тогда в начальной школе и уже кое-что понимал.
– Не хотелось бы, чтобы она брала с собой ребенка, – услышал он однажды. – У господина своих детей трое. Деньги на содержание ребенка он будет давать, а воспитывает его пусть бабушка. Господин хотел бы, чтобы она пришла в дом одна.
Когда гость ушел, бабушка с матерью стали обсуждать предложение.
– Ну как? – спросила бабушка.
– Поздно мне замуж, – как обычно, отказалась мать.
– Ну что ты говоришь! – возмутилась бабушка. – Давай лучше подумаем, для чего ты ему нужна. У него ведь кондитерская, а когда за прилавком красивая жена, дохода больше. Но ты должна будешь вставать рано и готовить еду работникам. Не справишься ты со всем этим. Вот и выходит, что ему надо отказать. Но зачем отказывать всем подряд? Когда тридцатилетняя женщина живет одна, начинаются всякие толки. И жить трудно. Пока я с вами, еще куда ни шло, а потом как?
– Я пойду работать, если вы приглядите за Сиро. Я могу поступить в экономки.
– Молода ты для экономки. Да и что скажут люди?
Маленький Сиро понимал, что имела в виду бабушка. Он все время думал, как было бы хорошо, если бы мать вышла замуж за дядю Хиросэ. Однажды они с матерью были в зоопарке и случайно повстречали дядю. Тогда мать еще получала деньги на воспитание Сиро из дома Хиросэ. Обычно их присылали по почте, но иногда дядя приносил деньги сам. Бабушка всякий раз долго благодарила дядю.
Он к тому времени уже служил в какой-то фирме. Если рядом не было Сиро, он заговаривал с матерью, но мать только качала головой, и Сиро нарочно подходил к ним.
Мать снова вышла замуж, когда Сиро учился во втором классе начальной школы. Сиро она оставила у бабушки. Ее новый муж служил в городском управлении. Женился он первым браком. По-видимому, ему нравилось, что мать такая красивая. На свадьбе Сиро не был. Но он знал, что мать живет в Нисинии, и в выходные дни тайком от бабушки ездил к ней на электричке. Часто он приезжал раньше полудня, и дом был заперт. Сиро бесцеремонно стучал в стеклянную дверь. В щель выглядывала мать в хаори, наброшенном на ночное кимоно. «– Это ты, Сиро?» – спрашивала она и открывала дверь.
Муж матери обычно еще спал. Однажды Сиро увидел в дальней комнате футон и две подушки рядом. С тех пор он перестал навещать мать.
Но год спустя мать сама вернулась к бабушке и Сиро. Так закончилось ее второе замужество. Она стала служить в Кавабата, в магазине, принадлежащем их дальним родственникам. Она всерьез подумывала о том, чтобы устроиться экономкой. Но бабушка продолжала противиться.
– Лучше быть служащей, хоть и заработок невелик, – говорила она. – Молода ты еще для экономки!
Они вышли из электрички и направились пешком к дому бабушки. Им подарили не только батат, но и немного рису. Бабушка, наверно, обрадуется. Кроме двоюродной сестры у матери не было близких. У бабушки же числилось несколько надежных родственников. И дом, где они теперь жили, принадлежал тоже кому-то из них. Однако мать, дважды неудачно выходившая замуж, не пользовалась расположением бабушкиной родни. Как была, считали они, так и осталась своенравной балованной дочкой. А может быть, дело было еще и в том, что мать была не родной дочерью бабушки. Родная ее мать умерла вскоре после родов, а бабушка была второй женой покойного дедушки.
*
В конце года внезапно скончался муж тетушки. В армии он пристрастился к морфию, но тетушка не заметила этого. Дядя сильно ослаб. Однажды он принял, видно, слишком большую дозу и отравился.
– Митико-сан не пролила и слезинки, – рассказывала мать, вернувшись с похорон.
– Как же она теперь жить будет? – прошептала бабушка. – Правда, у нее есть имущество, так
что не пропадет, наверно.
– Может, работать пойдет. Она знает английский язык. Сейчас, говорят, много разной работы для знающих английский.
– Может, и так, – кивнула бабушка.
Разговаривая, она не переставала крутить сигареты – это была ее надомная работа. А мать в последнее время служила в лавке, что держал на черном рынке на улице Тэндзин хозяин магазина из Кавабата, где она работала перед окончанием войны. Он приходился им дальним родственником. Брался он за любое дело, лишь бы давало доход. Одним из таких дел было изготовление сигарет. В углу комнаты лежал табак, выпотрошенный из окурков, и папиросная бумага со следами губной помады.
Раз в неделю этот лавочник привозил мешок окурков. Днем он приходил трезвый, а по вечерам обычно бывал пьян.
Тогда бабушка подавала быстрый знак матери, и та отправлялась по черной лестнице на второй этаж, а бабушка принимала хозяина лавки сама.
– А! Кусама Китиноскэ-сама! Извините, что вам приходится приходить к нам в такие холода.
Пьяный лавочник пропускал приветствие мимо ушей и спрашивал:
– А где Кэйко?
– Родственники просили зайти. Вот и ушла. Сегодня уж не вернется.
По лицу лавочника было видно, что он бабушке не верит.
Прежде она куда как решительно выпроводила бы лавочника, но теперь, когда они так обеднели, бабушка сдерживалась. И Сиро понимал бабушку.
– Так, так… Когда Кэйко приходила просить работу, я ее пожалел. Тогда она такой гордой не была.
– Спасибо за заботу, – вежливо говорила бабушка, а брови ее дергались. Она терпела.
– А Кэйко все такая же милашка. Не был бы женат, взял бы ее себе в жены.
– Да разве можно? А что скажет Кимико?!
– А почему бы и нет?! Молодая женщина хоть кого с ума сведет.
– Но Кэйко уже не молода. Вон какой у нее сын, – сказала бабушка, показывая на Сиро.
– Нет, молодая, – твердил гость.
Сиро не мог понять, кем приходится им этот пятидесятилетний лавочник.
До того как сгорел их дом, лавочник, приходя, садился на краешек веранды. И ни разу не позволил себе прийти пьяным. А теперь бабушка предложила ему подушку, и он восседает, будто у себя дома.
Когда лавочник уходил, мать спускалась к ним. Бледная от холода и усталости, она молча протягивала руки к хибати с углем.
Лавочник приходил вечером раза три или четыре. Потом он почему-то перестал являться к ним по вечерам, и если уж приходил, то днем, и Сиро больше его не видел.
Весной следующего года их навестил дядя Хиросэ. Сиро был рад ему, но больше всех радова лась мать.
Оказывается, конец войны застал дядю Хиросэ в Кагосима, так что с демобилизацией затруднений, видимо, не было, но тогда же он попал в госпиталь. У него нашли плеврит. Вернувшись домой, он заболел, как и отец, туберкулезом, но болезнь протекала легко, с апреля он уже смог работать, и, кажется, его собирались взять на работу в прежнюю фирму.
Фирма находилась на улице Тэндзин. Дядя приехал после долгого отсутствия в Хаката и у родственников бабушки узнал, где живут Кэйко и Сиро.
На дяде был прекрасный пиджак. Им, привыкшим к военной форме и спецовкам военного времени, он показался просто великолепным.
– Брат подарил на прощание. Ношу, не жалея, в любую погоду.
– То-то мне показалось, что я его где-то виде-ла, – сказала мать.
– Ведь ваша фирма совсем рядом. Заходите к нам иногда, может, что посоветуете, – сказала бабушка.
Дядя очень удивился, когда узнал, что мать
работает в лавке на черном рынке.
– Да, это не для вас, – сказал он с сочувствием.
– Ничего не поделаешь, – сказала мать.
В июле дядя Хиросэ нашел матери другую работу. Она стала служить в канцелярии маленькой фирмы. Заработок был меньше, чем в лавке на черном рынке, но дядя обещал оплачивать разницу.
– Как быть? – спросила мать за ужином, и Сиро по бабушкиным глазам сразу понял, что та согласна.
– Соглашайся, – сказала бабушка. – Нужно кончать с такой жизнью.
Мать кивнула. Она почему-то разволновалась от бабушкиных слов и вся дрожала.
Пьяный лавочник пришел к ним, когда кончился сезон дождей. Они держали стеклянную дверь открытой и жгли ароматные свечи от москитов. Летом было жить куда легче, чем зимой. От зимних холодов души у людей цепенеют и застывают, но вот и эта зима прошла, и мать повеселела.
Когда пришел лавочник, она еще не вернулась со службы.
Сиро листал большой иероглифический словарь. Дядя Хиросэ принес его вместе с другими пещами отца, оставшимися после смерти. У Сиро был еще «Oxford English Dictionary», который был пока ему не под силу. Он держал оба словаря в маленькой
нише и радовался, глядя на них.
Сиро поднял голову от тетради, куда выписывал слова, и увидел, что на пороге комнаты стоит лавочник, – он прошел через прихожую и темный коридор.
– Кэйко-сан дома? – спросил лавочник. Глаза его липко блестели.
– Сиро! Ступай наверх, – раздался бабушкин голос.
Сиро обернулся. Бабушка строго глядела на него. Он поднялся по черной лестнице, как было велено, но, пробежав через комнаты, где родственники держали свои вещи, сел на верхней ступеньке лестницы с другой стороны. Он приготовился быстро сбежать вниз, если понадобится.
– Теперь я знаю, почему Кэйко-сан не стала у меня работать, – сказал лавочник.
Бабушка, видимо, что-то ответила, но Сиро не расслышал, – она старалась говорить тихо.
– Как это вы можете говорить, что она вам не в тягость, – продолжал лавочник. – Впрочем, понимаю! Другой такой услужливой не найдешь. Все кланяется.
Сиро спустился на две ступеньки ниже.
– А разве прежде ей лучше было? – спросила бабушка.
– А, значит, она вам все рассказала. Ну да, от вас-то теперь проку нет, вы и гроша не заработаете. Теперь решили ее подороже продать.
– Ничего я не знаю, но когда живешь вместе, поневоле начинаешь понимать…
Сиро почувствовал вдруг, как кровь прилила к лицу. Выставить бы этого лавочника за дверь! В прихожей послышались шаги и голос матери. Она была не одна. Он узнал тетушкин голос.
В коридоре сделалось тихо, потом лавочник глумливо обронил:
– Ага! Кэйко-сан сегодня одна, без любезного?
– Уходите-ка вы отсюда, – сказала бабушка.
– Ловкая вы, однако, дамочка, Кэйко-сан! Сразу видно – Женский институт закончила.
Лавочник ушел.
Сиро неподвижно сидел на лестнице. Он вспомнил две подушки в доме второго мужа матери в Нисинии, и его охватила такая же грусть, как тогда. Теперь он был вдвое старше и уже ощущал свой пол. Когда он молча сбрасывал свое грязное белье и застенчиво совал его в общую кучу, бабушка и мать замечали это, но не задавали никаких вопросов. Наверно, ему тоже не следует вмешиваться в дела матери. Приняв такое решение, он спустился с лестницы.
– Добрый вечер! – сказал он тетушке и почувствовал, что улыбается как ни в чем не бывало. Это было приятно и матери.
– Тетушка принесла мясо. И сахар есть. Так что
сегодня сделаем скияки, – сказала бабушка.
Бабушка вела себя так, будто лавочник к ним и не приходил. Сиро тоже сделал вид, что ничего не случилось. Мать печально молчала.
– Сиро! – воскликнула тетушка. – Я слыхала, ты хорошо учишься? Будешь стараться, определим тебя в колледж. Учись!
Сиро кивнул. Тетушка подарила ему как-то несколько книг. Там были книги западных писателей, а также сборник Хирацуки Райтё, которой так увлекалась мать.
Губы тетушки были сильно накрашены красной помадой. Наверно, американская. Не похоже было, что полгода назад у нее умер муж.
– Тебе повезло, мать не отдавала тебя работать. Воспитывала, как принцессу, – сказала бабушка.
– Да нет, я вовсе не была принцессой. Просто взяла и уехала в Токио учиться. Мне очень хотелось, вот и уехала.
Тетушка стала весело рассказывать о своей службе. Когда она написала в анкете, что ей тридцать пять лет, американский офицер ей не поверил.
– И сколько же он тебе дал?
– Лет двадцать. Я надела самое дорогое платье, чтобы получше выглядеть. Сшила его перед замужеством. Я в нем такая молодая.
Мать рассмеялась. В этот вечер у них было весело, – тетушка всех рассмешила.
Тетушка осталась ночевать. Похоже было, что она нарочно рассказала Сиро о своей молодости и о молодости его матери.
– Твоей матери нравились горячие люди, вроде Хирацуки Райтё. Ну а я обожала таких, как Янагивара Бякурэн. Хирацука Райтё собиралась даже покончить с собой вместе с Моритой Сохэем в Сиобара. Бякурэн по сравнению с ней мудрая женщина. Бросила опостылевшего мужа и сбежала с молодым мужчиной. Я люблю ее танка. Ты знаешь ее танка?
Сиро покачал головой. Тетушка взяла у него карандаш и написала:
Как в день испытания Пред ликом святым, Стою пред огнем, Прижимая к груди Ненужные песни.
Тетушкины иероглифы текли плавно и казались Сиро нарядными. Неужели душа его матери похожа на эти стихи?
– Мама, ты когда поступила в институт? – спросил он.








