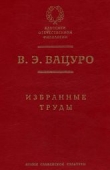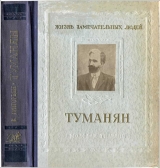
Текст книги "Туманян"
Автор книги: Камсар Григорьян
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
После женитьбы Туманян, начиная с 1896–1897 гг., летние месяцы иногда проводил неподалеку от Тифлиса в Шулаверах, откуда родом был его тесть Бадал Мачкалян. Здесь у поэта установились близкие отношения с Вааном Миракяном,34 автором популярной поэмы из народной жизни «Охота на Лалваре», появившейся в печати осенью 1901 года при содействии Туманяна. В это время он уже пользовался среди литераторов большим авторитетом. К его голосу прислушивались, с его мнением и вкусом считались. В своих воспоминаниях Миракян говорит об обаятельной личности Туманяна, одаренного удивительной способностью распространять вокруг себя свет и теплоту.
Туманян был мягким, гуманным, отзывчивым человеком, верным другом и чудесным товарищем. Его ясный взор, приветливая и ласковая улыбка обладали особой притягательной силой. В своих отношениях он руководствовался принципом уважения к человеческому достоинству. В его сердце всегда горела любовь к людям.
VI
Новая армянская литература развивалась под благотворным влиянием передовой русской культуры. Один из выдающихся армянских поэтов конца XIX – начала XX века Александр Цатурян, которому принадлежит большое количество переводов из Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, Никитина, – говорил, что трудно назвать армянского писателя, который так или иначе не испытал бы этого благотворного влияния. «На одних отразилось сильнее, ярче, – писал Цатурян, – других оно коснулось не так сильно, не так заметно, но никто из них, думаю, не миновал этого влияния». Так думал и Туманян.
В 1902 году один из русских литераторов обратился к армянским писателям с письмом, в котором просил ответить на вопрос: как они относятся к русской литературе и в какой степени она оказала влияние на их творческое развитие. Многие из крупнейших представителей новой армянской литературы охотно отозвались на это письмо. Наиболее значительное влияние на развитие армянской поэзии оказали Пушкин, Лермонтов и Некрасов. В процессе освоения армянскими писателями богатого художественного наследия русской поэзии рядом с Пушкиным всегда неизменно выступал Лермонтов. Армянские поэты воспринимали эти два имени в едином звучании.
Предшественники и современники Туманяна, все без исключения, вдохновлялись светлой поэзией Пушкина35 и Лермонтова. Шахазиз говорил: «Из русских поэтов наиболее сильное впечатление произвели на меня Пушкин и Лермонтов…» Ованес Ованисян, которому прежде всего обязана армянская поэзия расцветом лирики, горячо любил Пушкина и Лермонтова. Аветик Исаакян писал о Лермонтове: «Начиная с детских лет любимым поэтом моим был возвышенный, точно Казбек, и глубокий, словно Дарьял, Лермонтов, творчеством которого я часто вдохновлялся…»
Интерес к русской поэзии возник у Туманяна рано. В одном из писем он подробно рассказал, какое важное место занимала русская литература в его сознании еще в годы юности, и перечислил многие любимые произведения. Школьником Туманян знал поэмы и стихотворения Пушкина: «Полтава», «Цыганы», «Песнь о вещем Олеге», «Утопленник», «Зимний вечер», а также «Песню про купца Калашникова» Лермонтова и его стихотворения «Ангел», «Ветка Палестины», «Спор», «Пророк», «Тучки небесные. «Выхожу один я на дорогу…», «И скучно, и грустно…»
В числе трех любимых книг девятнадцатилетнего юноши Туманяна был, наряду с «Илиадой» и «Одиссеей» и романом Абовяна «Раны Армении», томик сочинений Лермонтова. В 1894 года Туманян перевел стихотворение Некрасова «Внимая ужасам войны…», а летом 1895 года он взялся с большим воодушевлением за перевод поэмы Лермонтова «Мцыри». Поэма в переводе Туманяна была издана в 1896 году в Тифлисе отдельной книжкой.
В конце 90-х годов интерес к русской литературе у Туманяна еще более усилился, чему несомненно способствовал пушкинский юбилей. В 1899 году на Кавказе Литературная общественность широко отмечала столетие со дня рождения Пушкина36.
В юбилейном году в армянских переводах отдельной книжкой были изданы избранные стихотворения русского поэта.
В эти годы Туманян вновь возвращается к чтению Пушкина, изучает и творчески осваивает наследие великого русского Поэта. В 1899 году Туманян перевел стихотворения «Утопленник» и «Песнь о вещем Олеге», в 1909 году появился перевод одного из наиболее любимых Туманяном стихотворений Пушкина – «Зимний вечер».

Дорога в Абастуман. С фотогр. 1890-х г.

В окрестностях Абастумана. С фотогр. 1893 г.
Переводы Туманяна свидетельствуют о его строгом отношении к самой задаче поэтического воспроизведения. «Перевод подобен розе под стеклом, – пишет Туманян. – Почти невозможно, чтобы переводчик дал благоухание, непосредственное обаяние подлинника. Однако всегда требуется, чтобы он оставался верен мысли подлинника и был понятен читателю. Это требование особенно усиливается, когда переводится такое произведение, каждое слово и предложение которого имеет свое твердое место и значение».
Сознавая всю сложность творческой задачи переводчика, Туманян в своей работе придерживался этих принципов. Он стремился переводить, не изменяя мысли подлинника, добиваясь такого совершенства, при котором перевод обладал бы благозвучием оригинала. В этом отношении переводы Туманяна из русской поэзии близки по своему общему характеру к стихотворениям Лермонтова: «Горные вершины спят во тьме ночной…» (из Гете) или «На севере диком растет одиноко…» (из Гейне). В подобных случаях переводчик выступает прежде всего как поэт. Его волнует сама сложная творческая задача перевода стихотворения, в котором он нашел нечто очень близкое, вполне соответствующее своему поэтическому настроению и, проникаясь духом подлинника, воссоздает его на другом языке. Армянский текст «Зимнего вечера» Пушкина у Туманяна является шедевром именно такого типа поэтического перевода.
Туманяну удивительным образом удалось найти в родной речи такие слова, которые верно передают не только образную систему подлинника, но и легкость, изящество, мудрую простоту и музыкальность русского образца.
В этой связи нужно особо отметить также перевод стихотворения Кольцова «Раздумье селянина». Туманян в переводе стихотворения Кольцова нашел возможным строку «Сяду я за стол да подумаю» заменить другой: «Сяду у стены да подумаю», потому что обычное место размышлений и тяжелых дум бедного армянского селянина не у стола, а у стены своей землянки.
Такую замену Туманян допустил не только потому, что' хотел свой перевод сделать понятным и близким широкому армянскому читателю, но и потому, что он не придерживался принципа внешне формальной точности. Он не ставил перед собою задачу передать русское стихотворение слово в слово, рабски подчиняясь оригиналу. Туманян заботился лишь о том, чтобы в переводе мысль стихотворения Кольцова была передана с максимальной ясностью и точностью.
Туманян полюбил русских поэтов не меньше, чем своих предшественников в армянской поэзии. Более того, он искренне признавался, что в известном смысле Пушкин и Лермонтов оказались ему значительно ближе. «Я нашел, что русские поэты, – писал Туманян в 1902 году, – главным образом Пушкин и Лермонтов, всегда казались мне более родными и близкими».
Туманян был бесконечно влюблен в природу родного края, которой он был обязан лучшими минутами своего существования. По собственному признанию «любовь к горам и тоска по жизни в горах» всегда жили в его душе. В поэзии Пушкина и Лермонтова он нашел неповторимые пейзажи Кавказа. Он с восторгом цитировал замечательные строки Лермонтова:
Как я люблю, Кавказ мой величавый,
Твоих сынов воинственные нравы,
Твоих небес прозрачную лазурь
И чудный вой мгновенных, громких бурь,
Когда пещеры и холмы крутые
Как стражи окликаются ночные;
И вдруг проглянет солнце, и поток
Озолотится, и степной цветок,
Душистую головку поднимая,
Блистает как цветы небес и рая…
(«Измаил-бей»)
Тебе, Кавказ, суровый царь земли,
Я посвящаю снова стих небрежный,
Как сына ты его благослови
И осени вершиной белоснежной.
От юных лет к тебе мечты мои
Прикованы судьбою неизбежной,
На севере, в стране тебе чужой,—
Я сердцем твой, всегда и всюду твой…
(Посвящение к поэме «Демон»)
Г. Р. Державин и В. А. Жуковский, которым не пришлось побывать на Кавказе, лишь силою поэтического воображения впервые в русской поэзии создали величественные романтические картины кавказской природы. Вслед за ними обратились к Кавказу Пушкин и Лермонтов, в поэтическом сознании которых далекая горная страна стала «родиной вольности простой».
Для них Кавказ уже не был отвлеченным географическим понятием. Жизненная судьба бросила их в далекий горный край, и перед их взором открылись великолепные картины «природы дикой и угрюмой».
«С легкой руки Пушкина, – писал Белинский, – Кавказ сделался для русских заветной страною не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, страною кипучей жизни и смелых мечтаний».
Страна гор еще в большей степени очаровала Лермонтова. Кавказ стал, как говорит Белинский, «колыбелью его поэзии так же, как он был колыбелью поэзии Пушкина, и после Пушкина никто так поэтически не отблагодарил Кавказ за дивные впечатления его девственно-величавой природы». Лермонтов рассказывал в письме к С. А. Раевскому, как он «лазил на снеговую гору, на самый верх, откуда видна половина Грузии как на блюдечке. И право, – писал Лермонтов, – я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух – бальзам, хандра к чорту, сердце бьется, грудь высоко дышит – ничего не надо в эту минуту; так сидел бы, да смотрел целую жизнь.».
Сильное чувство любви и привязанности к Кавказу, поэтическое воспевание его природы и вольной жизни в горах, глубокий интерес к народной жизни, явились теми основными моментами, которыми определялось отношение Туманяна к Пушкину и Лермонтову. О непосредственном воздействии русской поэзии на свое собственное творчество Туманян писал: «Я не задумывался над вопросом о том, в какой степени я находился под влиянием русской словесности; я серьезно подумав об этом, стал искать у себя следов русского влияния не во внешней форме моих стихотворений, – так как я никогда сознательно не следовал и не подражал никакому поэту, а в моем духовном мире, литературных вкусах и взглядах.».
Армянская поэзия многим обязана великому русскому революционному демократу, критику и мыслителю Белинскому. Писатели и публицисты Армении искали ответы на волнующие их вопросы за пределами отечественной словесности, в первую очередь в передовой и прогрессивной русской литературе.
Особо важное значение приобретает критика в те ответственные периоды, когда литература переживает процесс бурного роста, когда нарождается новое. Такой процесс переживала армянская литература в 80—90-х годах прошлого столетия.
Большинство армянских писателей и общественных деятелей нового периода были воспитаны на традициях русской классической литературы. Восприятие и усвоение армянскими писателями наследия Белинского имело свою особенную черту. В критических статьях и в оценках отдельных явлений армянской литературы отражалась борьба различных классовых групп, и, конечно, этим прежде всего определялась позиция их авторов. Здесь сталкивались различные точки зрения, различное понимание задач писателя. Но помимо этого в 80—90-х гг., даже в более позднюю пору, в армянской периодической печати, за редкими исключениями, критические статьи писались лицами, которые не только не обладали художественным чувством и вкусом, но и нужными познаниями, необходимым кругозором. Этим осложнялось положение писателя, который вправе был ждать беспристрастного, справедливого отношения к своим произведениям. Армянские писатели в своей литературной полемике использовали взгляды Белинского, обращаясь к нему, как к бесспорному авторитету. Автор многих исторических романов, известный армянский писатель Раффи, защищаясь в 80-х гг. от необоснованных нападок рецензента, опирался на статью Белинского «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя». Романист Мурацан в 1901 г., возражая автору критического разбора исторической драмы «Рузан» и защищая права писателя-художника, апеллировал к Белинскому, излагая его взгляды на историческую драму и ее задачи.
Белинский и Чернышевский занимают особо важное место в духовном развитии не только армянских писателей, но и политических деятелей. Революционное миросозерцание Налбандяна формировалось под непосредственным влиянием передовой русской общественной мысли и в первую очередь Белинского и Чернышевского.
Замечательный армянский революционер Степан Шаумян в годы ученья в Тифлисском реальном училище с увлечением читал Белинского, восхищался глубиной и проницательностью его мысли.
Восемнадцатилетний Шаумян, воодушевленный статьями Белинского, имя которого он произносил всегда с благоговением, писал о чудесной силе воздействия поэзии на человека, о том, как под влиянием поэзии человек «совершенно меняется, возносится высоко…» Шаумян высоко оценивал общественно-воспитательное значение поэзии.
В 1902 году в речи, посвященной сорокалетнему юбилею литературно-педагогической деятельности Агаяна, Шаумян говорил об огромной роли Белинского в освободительном движении: «Белинский и его друзья сумели сыграть столь значительную роль в русской жизни потому, что они имели возможность, благодаря некоторым историческим обстоятельствам, наносить удары по крепостническим порядкам и внедрять идеи свободы посредством легальной литературы.».
Для Шаумяна Белинский и Чернышевский были высокими образцами благородного и самоотверженного служения интересам народа. Воюя против извращения марксизма в вопросах культуры и литературы, борясь за «чистоту литературных нравов», Шаумян в 1913 году писал: «Литература – это храм, куда можно входить лишь с чистой совестью и благородными устремлениями. Когда же люди подходят к этому храму с мелкими, тщеславными вожделениями, с корыстными целями и обманными намерениями, – это величайшее преступление, совершаемое против народа.».
И для Туманяна, эстетические воззрения которого сложились под непосредственным влиянием Белинского, литература была общенациональным, народным делом.
Туманян в своей литературной борьбе также опирался на авторитет Белинского. Отвечая на нападки невежественной критики, Туманян вспоминал о нападках Каченовского на Пушкина в 20-х гг. и отмечал, что после выступления Белинского все стало ясным и истина восторжествовала. «Но, – писал Туманян, – для этого нужно было, чтобы появился Белинский и каждому указал свое место.»
В развитии эстетических вкусов Туманяна, в активном творческом освоении им достижений русской поэзии Белинский сыграл исключительную роль.
Со статьями его Туманян впервые ознакомился, видимо, в начале 80-х годов, когда он был еще в Нерсисянском духовном училище. В 1898 году отмечалась пятидесятая годовщина со дня смерти великого критика. Армянская передовая печать также откликнулась на эту дату. Она подчеркнула благотворное влияние идей Белинского на развитие армянской литературы. Весьма знаменательно, что статья в газете «Мшак» («Труженик») имела эпиграфом строки Некрасова:
Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени…
Оканчивалась статья также словами Некрасова о Белинском:
Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе…
Летом 1904 года Туманян взялся за систематическое изучение Белинского. В письме к Ф. Вартазаряну он с восторгом отзывался о статьях русского критика и удивлялся, как много общего в жизни различных народов. Армянский поэт писал о задачах критики: «Критик – переводчик писателя, он должен «переводить» поэта, но переводить не слова его, а образы. Он должен проникнуть в душу поэта, добраться до самых корней и истоков его творчества, быть глубоко проницательным, судить справедливо.
Тогда рассеются неясности, станут понятными и естественными многие противоречия, из хаоса родится гармония, – конечно, в том случае, если она есть. Прежде всего, нужно, чтобы поэт был поэтом истинным.».
Мысли Туманяна о высоком назначении критика, по всей вероятности, возникли под непосредственным впечатлением чтения Белинского, в частности, его статей о Пушкине и Лермонтове. Образ проницательного критика, способного понять поэта, рассеять неясности и раскрыть перед читателем величие и красоту художественного произведения, указывают на Белинского, как на источник размышления Туманяна.
Статьи великого русского критика, идеи, которые в них заключались, находили в душе поэта живой отклик, будили его мысль, направляли его творчество по пути народности и реализма. Сочинения Белинского были в числе любимых книг армянского поэта. Они помогали Туманяну в выработке правильного взгляда на русскую литературу, на общие проблемы поэзии и эстетики.
В 1904 году литератор и публицист Ф. Вартазарян работал над статьей о творчестве Туманяна. Предварительно в письмах к поэту он делился своими мыслями и просил высказать ему свое мнение по ряду вопросов. Отвечая критику, Туманян писал; «Вообще ты своего поэта определил и понял совершенно правильно: он певец горя своего народа, поэт скорби и печали. У этой скорби и печали различные источники, но все они проистекают из одного и возвращаются к одному – это наша армянская жизнь, армянская страна. Может быть, в этом и главное мое достоинство.
Если это так, – это действительно великое дело. Белинский говорит: величие поэта – в его народности. Поэт, прежде всего, должен быть сердцем своего народа…»
VII
В жизни каждого большого писателя бывают периоды особого подъема творческой деятельности. Иногда несколько месяцев вдохновенного труда приносят больше плодов, чем долгие годы напряженной работы. Такие периоды подъема определяются не только одной зрелостью или полным расцветом творческих сил. Они во многом зависели в прошлом и от условий жизни писателя.
Нужда и житейские треволнения слишком редко давали Туманяну возможность сосредоточиться над своими творческими замыслами. Лишь во время болезни он чувствовал себя несколько свободнее от мелких забот. Этим объясняется, что в 90-е годы у Туманяна все чаще появляются мысли о покое и тишине. Он говорит о своем заветном желании хотя бы несколько дней провести на лоне природы, чтобы отдохнуть «душою и телом». Но для армянского поэта этой целебной силой обладала не только природа, но и жизнь среди народа. Он мечтает о возможности путешествовать, обогащаться новыми впечатлениями.
Можно представить его радость, когда в 1900 году ближайшие друзья, полностью обеспечив поэта, предложили ему уехать на несколько месяцев в Абастуман. Это высокогорное местечко и тогда славилось, как один из лучших курортов Кавказа. Туманян ехал отдохнуть и восстановить свои силы; он был по природе физически крепким человеком, но к началу 900-х годов его здоровье основательно пошатнулось. Он давно мечтал провести хотя бы несколько дней в тишине лесов. Теперь его мечта осуществилась.
Даже на людей, далеких от поэзии, синие горы, покрытые сосновым лесом, озера и родники, горный воздух производят неизгладимое впечатление. Такова чарующая сила природы Кавказа, а как много значит она для поэта!
В начале сентября 1902 года Туманян приехал в Боржом. Узнав о том, как красива дорога в Бакуриани[22]22
Абастумани, Боржоми, Бакуриани – курорты Грузинской ССР.
[Закрыть], он свернул с пути и вместо Абастумана попал в Бакуриани. В четырнадцати верстах от селения находится вершина Цхра Цхаро, что означает на грузинском языке «Девять родников». Туманян решил подняться на эту гору, чтобы увидеть с высоты 2700 метров восход солнца. К нему присоединился русский путешественник. Путь предстоял через Ахалкалакский перевал. Они вышли вечером, ночевали на склоне горы, а в два часа утра были уже на ногах.
Кругом царила тишина. Мало-помалу редела ночная мгла, и из предутреннего тумана вырисовывались деревья и скалы. В шесть утра путники были на вершине. Горы еще дремали в тумане. Временами прояснялся горизонт, и взору открывались картины величественной природы Кавказа. Внизу медленно и плавно двигалось море облаков. Наконец появились первые лучи восходящего солнца и озарили дальние горы.
Богатые впечатления вынес Туманян от поездки в Бакуриани и восхождения на Цхра Цхаро. Он делился ими в письме к жене: «… Казалось, мы стояли посреди огромного моря, которое ежеминутно менялось, создавая тысячи чудесных картин…»
Из Бакуриани Туманян вернулся в Боржом и оттуда, наконец, проехал в Абастуман. Для поэта настало счастливое время: освобожденный от мелких жизненных тревог, он мог полностью отдаться творческой работе.
Абастуман – один из самых живописных уголков Кавказа. Целыми днями поэт скитался по лесам и долинам, «в осенней сладкой и печальной тишине» он слушал «шепот падающих листьев и прощальные песни птиц, которые напрасно в желтых листьях искали весны..» Он делился своими впечатлениями и мыслями с друзьями. «Под угасающими лучами заката я думал, – писал он Марии Туманян, – что и смерть может быть так же прекрасна, как осень в этой долине…» Поэтические письма Туманяна говорят о том, как много дали ему эти одинокие скитания в горах.
В абастуманский период жизни Туманян создает такие произведения, как «Парвана» и «Взятие крепости Тмук». К этому же времени относится основная редакция поэмы «Ануш», которую автор почти заново написал в Абастумане.
Легенда, сказка, предание всегда привлекали Туманяна. Он видел в них выражение творческой мысли народа. Горький говорил: «Писатель, не обладающий знанием фольклора, – плохой писатель». В истории литературы мы знаем примеры, когда поэт не только владеет беспредельными богатствами устного народного творчества, но настолько тесно связан с жизнью масс, что и произведения его становятся истинно народными. Блестящим примером тому является Тарас Шевченко, выразивший в своей поэзии думы и чаяния широких народных масс Украины. Справедливо говорил о нем Н. А. Добролюбов: «Он вышел из народа, жил с народом, и не только мыслью, но и обстоятельствами жизни был с ним крепко и кровно связан… Круг его дум и сочувствий находится в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни.». Таким несомненно был и Ованес Туманян. Недаром он так любил Шевченко, думы, которого были созвучны душе армянского поэта. Любил он и украинские народные песни, находя в них много близкого и родственного с армянскими мелодиями.
По своим воззрениям на народное творчество Туманян приближался к Горькому, который говорил: «Народ не только – сила, создающая все материальные ценности, он – единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт…»
Туманян не представлял возможность существования национальной литературы без фольклора. Еще в ранний период своей литературной деятельности он подчеркивал огромное значение устного народного творчества для развития литературы. В 1894 году Туманян говорил о столетних стариках, которые часто встречались ему в деревне. «Каждый из них – житница, музей преданий, сказаний, народных верований. Многие их рассказы, обычаи, сказания дошли до нас из глубокой старины; они отражают жизнь и нравы наших предков, являются созданием их мысли… Вот где источник армянской литературы, вот откуда должен черпать свои силы армянский романист, поэт, писатель!» Сказки, легенды, пословицы и поговорки, фольклор в целом Туманян воспринимал как жизненный, исторический опыт народа, его мудрость, его философию.
У Туманяна была сильна потребность постоянного общения с массами; у него было горячее желание жить среди народа, постоянно ощущать связь с ним. «Какое великое дело, – писал он Ф. Вартазаряну, – когда писатель имеет возможность путешествовать, изучать свой народ, изучать его старинные предания, его язык и обычаи! Каждый раз особо остро чувствую эту потребность, когда бываю среди народа.»
Армянский поэт всю свою сознательную жизнь любовно и бережно собирал памятники устного народного творчества, считая их самым драгоценным материалом для писателя. Детство и юность Туманяна прошли в деревне, среди народа. В поздние годы, переехав в Тифлис, ом часто оставлял город, уезжал в деревню, собирал вокруг себя стариков крестьян и слушал их рассказы. В течение многих лет он записывал варианты сказки «Тысячеголосый соловей» и каждый раз с волнением узнавал о новом рассказчике, о новых неизвестных ему видоизменениях популярной сказки.
В 1890 году летом Туманян приехал в Шулаверы. Крестьяне рассказали ему о девяностолетнем старике, который знал сказку «Тысячеголосый соловей». Поэт, не теряя времени, поспешил к нему.
Доехав до деревни, он остановился у дома сказочника, вошел в избу и не хотел верить своим глазам: в полумраке, у стен, печально опустив головы, стояли крестьяне, а на столе лежало безжизненное тело сказителя. Туманян вместе с другими оплакивал смерть старика. «Кто знает, – говорил он, – какие драгоценности он унес с собой навсегда?»
Отсутствие планомерного собирания фольклора волновало армянского писателя и доставляло ему немало тревог. «Наш народ с удивительной быстротой забывает свои сказания и легенды… Старики умирают, унося с собой свои знания, а их дети, обремененные заботами, заучивают новое, забывая о старом.»
По мнению Туманяна, поэзия приобретает силу и вес только облагороженная творениями народа. Он не только сам записывал живые рассказы о старине, но и просил своих друзей делать то же самое. Многих из них судьба забросила в далекие, захолустные деревни, где сохранились старинные варианты сказок и легенд.
Интересовали Туманяна также различные народные поверья.
В легендах и преданиях, где изображение реальных исторических событий выступало вместе с чудесным, сказочным элементом, Туманян находил самобытный мир народной поэзии. Фольклор был одним из основных источников творчества армянского поэта, откуда он черпал темы многих своих произведений. Для чуткой, восприимчивой натуры писателя иной раз нужен был лишь внешний толчок, простодушный рассказ крестьянина или сказание, живущее в памяти народа, чтобы в поэтическом воображении возникла законченная картина, полная поэзии и драматизма. Именно такова творческая история многих произведений Туманяна, в том числе одной из его первых легенд, источником которой явилось предание об острове Ахтамар в Ванском озере. В легенде Туманяна повествуется, как на острове одиноко живет красавица Тамар, как каждой ночью к далеким его берегам, привлекаемый лучами огонька, смело плывет юноша:
Вкруг поток, шипя, крутится,
За пловцом бежит вослед,
Но бесстрашный не боится
Ни опасностей, ни бед.
Что ему угрозы ночи,
Пена, воды, ветер, мрак?
Точно любящие очи,
Перед ним горит маяк!
(Пер. К. Бальмонт)

Ованес Туманян. С фотогр. 1890 г.

Агаян и Туманян.
Но недолго длится их счастье. Злые, жестокие люди разведали «тайну любящих сердец». Они гасят далекий свет, и юноша во мраке ночи «в обманчивой надежде» тщетно бьется с волнами, губы его шепчут: «Ах, Тамар!» и он погибает в пучине разъяренных вод.
С той поры минули годы,
Остров полон прежних чар,
Мрачно смотрит он на воды
И зовется «Ахтамар».
Так объясняет народное предание происхождение названия острова, связав его с романтической историей любви, что и послужило основой легенды Туманяна.
В 1901 году поэт побывал в горной местности Джавахк[23]23
Джавахк – старинное название Ахалкалакского и Богдановского районов Грузинской ССР.
[Закрыть], славившейся своими певцами и сказителями.
Автор рассказов из деревенской жизни, писатель Джавахеци37 вспоминает о путешествии Туманяна по окрестностям села Гандза. Они вместе бродили в горах, заходили в хижины пастухов, слушали их песни. Но главной целью прогулки было желание поэта видеть озеро близ села, где родился армянский поэт Ваан Терьян38. С этим озером было связано старинное сказание.
Лишь к вечеру они добрались до Парваны. Стало прохладно. Потянуло свежим ветром. На вершине Абула в бледных тонах сумерек дымились облака. На озере было неспокойно. Темно-синие волны с шумом разбивались о берег. Туманян был взволнован. Он молча бродил по берегу. На обратном пути поэт не проронил ни единого слова. Вернувшись в деревню, отказавшись от еды, он закрылся у себя в комнате и не выходил до тех пор, пока не была закончена работа над прологом поэмы. «Наконец, он вышел, – пишет Джавахеци, – глаза горели, как звезды во мраке ночи, лицо было ясное и светлое, как восходящее солнце. С характерной улыбкой на устах, стал он у стола, подняв правую руку, и прочитал вступление к «Парвана».
Основой поэмы послужило народное предание. Высоко в горах тихо плещет синее прозрачное озеро Парвана. В ясную, солнечную погоду, говорят старцы Джавахка, если всмотреться в зеркало синих вод, на дне озера можно увидеть величавый белый замок царя Парваны. Использовал Туманян и поразившее его явление, которое часто можно наблюдать, в особенности в теплые южные ночи: во мраке, вокруг огня кружатся мотыльки и многие из них бросаются в огонь. Мотивы народного предания и наблюдения над игрой мотыльков вокруг огня Туманян положил в основу своей легенды.
Выше белоснежных вершин, «где блестит простор, где края небес синевой полны», жил властелин гор. Его жизнь украшала единственная дочь. Когда она выросла, царь объявил о своем желании выдать дочь замуж за самого храброго удальца. Дочь царя горной страны славилась своей красотой, и потому на состязание собрались все знаменитые храбрецы Кавказа. «Отец, как мрачная туча, дочь – нежная луна.» Они выходят «как туча, обнявшись с луной». Царь, обращаясь к дочери, предлагает ей избрать самого сильного и могучего из витязей. Она отвечает: «Быть может слабого, но честного и благородного, победит в поединке низкий человек. Нет, он никогда не будет рыцарем моего сердца!». Богатыри просят сказать, чего же желает черноокая дочь Джавахка: «Злата, серебра или адамантов? Если даже звезд пожелаешь, мы достанем их для тебя.». На это дева отвечает: «На что мне злато, серебро, адаманты, иль небесная звезда, и не жемчужин прошу я от друга жизни. Пусть достанет он неугасимый огонь, тогда он станет моим избранником.». Богатыри мчатся во все концы света в поисках вечного огня. Проходят дни, месяцы, годы, но никто из храбрецов не возвращается. Мучительно долго ждет дочь царя. Она становится печальной. Ей грустно жить одинокой. Девушка плачет и день и ночь, и из ее чистых прозрачных слез образуется в горах синее озеро. Поднимаются волны, они затопляют белый замок, погибают в волнах царь и его дочь. Кончается поэма эпилогом: «Говорят, те мотыльки, которые во мраке ночи спешат туда, где засветится огонь, – говорят, что они влюбленные удальцы из Парваны. От страстного желания скорее достигнуть цели превратились они в мотыльков и, как увидят огонь – стремительно бросаются в него. Каждый спешит скорее достать огонь и завладеть сердцем прекрасной девы. И сгорают, сгорают без конца удальцы из Парваны.».