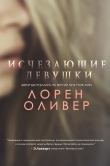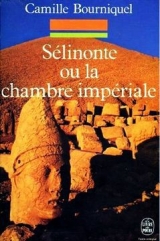
Текст книги "Селинунт, или Покои императора"
Автор книги: Камилл Бурникель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
Это казалось столь невероятным, что я подумал, не перенесли ли их в другое место, и заглянул в подвалы, в подземелья, пробежал по всему зданию сверху донизу Я увидел, что их больше нигде нет, что все отсюда уехали, а главное жилое помещение – Мавританская башня – больше не занято. Каким образом такую масштабную эвакуацию удалось осуществить в столь сжатые сроки? Ничего подобного в Италии не происходило со времен переезда Монте-Кассино под бомбардировкой союзников, наступавших на Рим. Однако нужно было смириться с очевидностью и оценить размах предприятия по мощности задействованных средств. Ничего в таком роде, в какой бы то ни было стране, не делается без помощи военного командования (армия предоставила транспорт), дорожной полиции (она предоставила сопровождение для колонн) и даже спецслужб.
В конце концов я все же обнаружил живую душу в лице привратника, сидевшего верхом на стуле у потайной двери в крепостной стене. Он ограничился кивком в мою сторону и продолжал раскачиваться. «Partiti! Раrtiti!.. tutti partiti!»[54]54
Уехали! Уехали!.. Все уехали! (итал.)
[Закрыть] Вот и все, что мне удалось из него выудить. Решетка была поднята; вход свободен, если кто захочет осмотреть замок. Привратник вновь исполнял обязанности сторожа и получал причитающееся жалованье. На пороге дворницкой показалась его жена. «Si per caso il signore desidera rimanere qualche giorno qui…»,[55]55
Если сеньор захочет побыть здесь несколько дней…(итал.).
[Закрыть] то она будет готовить мне еду утром и вечером, согласно указаниям, полученным от синьорины. Боже мой, как вспомню об этом – трудно было найти худший способ объявить мне о моей отставке.
Эти двое, наверное, подумали, что до меня долго доходит, и что меня здорово провели. Но мне было наплевать на их презрение или сочувствие. Уехали! Допустим, сам вижу. Но почему в такой спешке, в таком строжайшем секрете? И в каком направлении отправилась вереница запломбированных грузовиков?
Свидетели… Я был очень наивен, думая, что найду их вне этих стен. Там был рынок, вернее, базар. Улочки, запруженные прицепами, грузовиками; площади, заставленные прилавками с овощами и фруктами, цветами и сырами, бараниной и птицей; презентационные стенды, домашняя утварь и сельхозтехника. Как перекричать этот гомон, какофонию рева животных, клаксонов, зазывал с мегафонами? Напрасно я заговаривал с людьми, сидевшими в открытых кафе или за рулем своей машины, результат был один: никто ничего не видел, ничего не слышал. Стены не дрожали, собаки не лаяли. Никто не проснулся, разбуженный среди ночи проходившей колонной. Неужели они тоже сговорились? Можно подумать, что в ту ночь все эти мерзкие образины наглотались снотворного. Хотя кое-кто наверняка был в курсе: те самые, кто больше всего удивлялись моей настойчивости.
Я потерял много времени, надсаживая горло, но так и не получил ни малейшей зацепочки. И все же, повторяю, такие вещи не делаются с бухты-барахты. Сколько предварительных совещаний должны были провести организаторы! Чтобы все подготовить, нужны были недели, месяцы. После деликатных переговоров с властями на разных уровнях (вплоть до министерства, вплоть до управлений культуры, заинтересованных в этом переезде) нужно было набрать многочисленный и квалифицированный персонал. Нет, ничего такого не затеешь за одну ночь.
Я начинал смотреть на это дело со стороны и восстанавливать развитие заговора. Несмотря на свои недюжинные способности подчинять себе людей, думать и действовать за них, Атарассо даже издали не мог руководить таким предприятием. И речи быть не могло о том, чтобы он спустился со своего метафизического Эльбруса или Арарата и принял участие в приготовлениях.
(К тому времени мне открылось его тайное лицо, его обиды, слабости, стариковские наваждения, пронизанные блестящими, порой сумбурными догадками, ведь за эти недели у меня в руках побывали все составленные им записки. Лучше сказать, нацарапанные, во время проводившихся работ и археологических экспедиций, и охватывавшие почти полвека. Там было все: рассуждения а-ля Тойнби,[56]56
Арнолд Джозеф Тойнби (1889–1975), британский историк и социолог. В своем 12-томном труде «Исследование истории» (1934–1961) выдвинул идею круговорота сменяющих друг друга локальных цивилизаций.
[Закрыть] геополитические очерки с налетом фантазерства, откровения о личной жизни и даже стихи, этакие лирические пророчества, в которые он хотел вложить самое главное. Все это на французском, но часто приблизительном, порой напоминающем довольно плохой перевод. Мне всегда казалось сомнительным, чтобы он намеревался предоставить эти вещи на суд читателей: злопыхатели могли бы в этом увидеть не столько лишний завиток в венке его славы, сколько череду зачастую поспешных высказываний, ничего не прибавляющих к прежним удачам. Да, я слишком хорошо знал, что занимало его ум до последних месяцев, прежде чем он сдал окончательно и началось его медленное скольжение к потере речи, которую Сандра изо всех сил старалась скрыть, чтобы вообразить, будто он вызывал к себе руководителей операции, прислушивался к их спорам и их суждениям.)
Одна Сандра могла взять на себя принятие необходимых решений. У нее одной было достаточно воли и смекалки, чтобы продумать весь план в малейших деталях, рассчитать весь путь до пункта назначения. Последний долго Держался в секрете: укрепленный островок между Неаполем и Гаэтой, где ящики останутся до самой смерти знаменитейшего, до того самого дня, когда их содержимое после соответствующей экспертизы явится в витринах будущего Фонда Атарассо рядом с музеем Востока в Венеции. (В Венеции, где Атарассо провел свое детство и где пробудилось его призвание – страсть к восточным древностям, ведь Адриатика исторически стала первым подъездным путем, по которому трофеи, исторгнутые из храмов и усыпальниц, прибыли в Европу, на что указывают фрагменты этих памятников, вмурованные в основание базилики у входа во дворец дожей.)
Итак, Сандра одна провернула все это дело. После того как она уехала в карете скорой помощи, доставившей Атарассо на ближайший аэродром, Гриша оставался здесь, пока не был погружен последний ящик. Но когда я проснулся, и его уже не было: он уехал вслед за колонной грузовиков.
Как узнать, почему Сандра не хотела посвящать меня в свои планы? Я три дня пробродил по пустым залам, ожидая хоть какого-нибудь знака, объяснения. Ни одного телефонного звонка, ни одной весточки. Двери снова запирались на засовы, навешивались замки, что понемногу ограничивало мое перемещение. Мне по-прежнему готовили еду, один из детей привратника приносил ее мне наверх. Именно от него я узнал, что слуги, получив щедрое вознаграждение, были уволены с приказом немедленно уехать: к восходу солнца в стенах замка не должно было оставаться ни одной живой души. Это был не сон: все эти меры были направлены против меня.
Столь эффективный способ устранения становился от этого еще загадочнее. В наших отношениях с Сандрой не было ничего такого, что могло бы предупредить меня о подобной перемене, о ее желании оборвать наш роман. Я-то всегда думал, что ее, находившуюся в полной власти своего отца, толкнул в мои объятия не порыв чувств, а потребность разрушить эти чары. Я помогал ей забывать о тревогах старика, о той медленной агонии, при которой она была вынуждена присутствовать, но которая как будто переставала существовать, когда мы были вместе. Отсюда исступление, притворное насилие, странные игры, которые мы придумывали.
Мне казалось, что это насилие отметило собой нашу связь с самой первой встречи. Мы продолжали сталкиваться, мять, гнуть друг друга… а может быть, и помогать один другому. Потом соотношение сил между нами менялось: это я нес ее на руках и клал на кровать. На ту самую кровать, на которой еще валялись разрозненные листки из записных книжек Атарассо. Я потом подбирал их, все смятые. Разыгрывала ли она безразличие? Или такое святотатство обостряло ее наслаждение? Или же она действительно забывала, кто она, где мы? Я думал, что я сжимаю в ладонях лицо ребенка, только что выбравшегося из лесной чащобы и просящего, чтобы от него отогнали кошмарные видения. Вдруг ее преображало забвение, становившееся для нее избавлением. Я видел, как она пробуждается, возвращается к жизни из глубокого мрака. Ее тело принимало меня, принимало ритм, в который я ее втягивал. Но в глубине ее глаз по-прежнему блестело черное озеро. Я обладал ею, не зная ее; она уступала мне, но я не мог ее разгадать. Впрочем, это было для меня неважно, я считал себя ее властелином, а ее – созданной для укрощения, подчинения. Мне в голову приходила глупая мысль, наполнявшая меня ликованием: мысль о том, что эта власть позволит сравниться, а то и заменить того, кто до сих пор удерживал ее в строгой зависимости от себя, мысль о том, что я и ее отец оба нужны ей, просто необходимы. Я был ее наездником. Наши утренние вылазки, наши гонки по мостовым, на которые уже падала октябрьская роса, были только продолжением этой дрессировки по всем правилам науки.
По крайней мере я пожил в этой иллюзии. По крайней мере Сандра все сделала для того, чтобы я в ней замкнулся. И лишь потому, что я еще не окончательно стряхнул с себя эти причудливые фантазии я, приходя то в ярость, то в уныние, не мог решиться уйти и направиться в Рим, где меня ждал старый друг Сатурнадо, который наверняка помог бы мне прогнать эти химеры. Я и шел в Рим, когда чуть не угодил под колеса; так что Сатурнадо прождал меня все лето и, наверное, ума не мог приложить, куда ж я подевался.
Я продолжал цепляться за веру в то, что столь незаурядное приключение не может закончиться так банально. Я был уверен, что Сандра вернется на своей «Остин-Мартин», вихрем пронесется мимо привратницкой и остановится перед монументальной лестницей во внутреннем дворе, спугнув голубей с крыш. Но ничего подобного не происходило. Меня, конечно, продолжали кормить, но в комнате больше не прибирали. Скупое туристическое меню, одни и те же блюда: такое впечатление, что отсутствием разносолов и кулинарных изысков меня побуждали очистить помещение.
Если я уйду из кастелло, я окончательно утрачу связь. Я помнил, какие усилия предпринимал, чтобы приблизиться к Атарассо. В том числе и злополучную историю с камеей, которая оказалась не древнее ларца Медичи, а в его глазах такие вещи обладали не большей ценностью, чем безделушки, которые штампуют для продажи в сувенирных лавочках. Слишком много усилий, так и не увенчавшихся успехом, чтобы после того как невероятная случайность привела меня сюда, дала доступ к его личным бумагам, я сдался без боя.
С другой стороны, я впервые поселялся в доме таким образом. Я прикидывал так и этак, и броня моих убеждений становилась не так крепка. Разве я хоть раз задумался о том, кто такая Сандра? Мне понемногу представала совсем другая личность, чем женщина, с которой я считал себя связанным некими узами в тени сурового отца. И поскольку первыми мне на память всегда приходили картины наших интимных отношений, я припоминал отстраненность, которая вдруг ясно читалась в странно разумном взгляде, отрешенном от мудреного экстаза, порой охватывавшего меня, когда мы катались от одного края постели до другого, словно во время качки на корабле. Этот взгляд словно взвешивал меня, определял мою истинную стоимость, высчитывал, прикидывал, чего еще можно от меня ждать, помимо такой вот траты сил, после которой мы, с осунувшимися лицами, проголодавшись, ели так, что за ушами трещало. Почему я не разглядел в этом испытующем взгляде ничего другого, кроме парализующего ожидания оргазма? То, что я ей давал, ей мог дать любой другой мужчина, в том числе и Гриша, наряду со своими многочисленными обязанностями. Но – то, чего она ожидала только от меня – и к тому времени не могла попросить ни у кого другого – этого мне было не дано увидеть. Глупая, непоколебимая гордыня самца – самца, считающего себя венцом творения и восхищающегося тем, чем наделила его природа, чтобы проявить себя, когда представится удобный случай, – отвлекала мое внимание от главной и далекой цели, преследуемой Сандрой, и обманчиво, почти целомудренно прикрытой ее показной «нимфоманией»: все эти буйства с ее стороны должны были замаскировать совсем иные планы, бесконечно более безнравственные и хищнические, чем все наши, в общем-то, невинные и пустые забавы.
У нее было мало времени. С другой стороны, она решилась заплатить. Если я увидел знак судьбы в банальном происшествии, которое свело нас вместе, то и для нее, конечно, блеснул тот же знак и улыбнулась удача, за которой она гонялась с тающей надеждой напасть на редкую находку, тем более что, не имея возможности надолго отлучаться от Андреаса Итало, она не могла поехать в Рим или Милан или, еще лучше, в Париж, где ей, естественно, было бы гораздо проще заполучить негласного соавтора такого рода.
Со мной же все получилось само собой, так сказать, с доставкой на дом. Ей даже не пришлось представляться. Атарассо – это имя распахивало передо мной небесные врата! В своей беспредельной наивности я не подозревал за ней никаких расчетов, думал, что она действует по зову сердца, окруженная ореолом легендарности. Океанида, вышедшая из пучины морской, чтобы увлечь меня с собой и показать сокровища, собранные в отцовском дворце.
Впоследствии программа оказалась несколько иной. Я не садился вместе с гостями за пиршественный стол. Король, разбитый болезнью, не мог принять меня лично. Во дворце, частично превращенном в лазарет, мне пришлось удовольствоваться душной комнаткой, правда, с алхимическими знаками, которые можно было обнаружить между брусьями потолка, взобравшись на стул.
Мысль о том, что хозяин дома мог даже не догадываться о моем присутствии, что, поселив меня на чердаке, Сандра всего лишь скрыла от отца нечто, чего он бы не одобрил, даже расценил бы как жестокое оскорбление, – такая мысль не приходила мне в голову. Все невероятные обстоятельства этого приключения возбуждали во мне только эйфорию. И к тому же чудовище, подбиравшееся ко мне, приняло вид юной девушки, тем более таинственной, что, в отличие от общепризнанных представлений о загадке, она казалась открытой, свободной от всяких условностей и предрассудков.
Вот так все и произошло. Сандра все взяла в свои руки с самого начала, все просчитала с необычайным двуличием: наши ссоры, примирения, разговоры без видимого интереса по поводу записей, которые вырывали страница за страницей, все – вплоть до тайных встреч, игр в догонялки, странного вызова, бросаемого ночи, и наших предрассветных возвращений вдоль глухих стен, за которыми начинали щебетать птицы. И я больше не видел ее до следующей ночи; она оставляла меня заниматься своей работой, уверенная, что очная ставка с прошлым, необычные размышления Андреаса Итало поглотят меня совершенно. «Можно?» – спрашивала она вечером, приподнимая листки, лежавшие на столе. Как же я не понял, глядя, как внимательно она читает написанное мною за день? Мой вариант столь разительно отличался от того, что принесла мне она, что оригинал уже нельзя было рассматривать как черновик, набросок, тем более как предлог. Иногда все было сочинено лично мной, но она, якобы ничего не заметив, просила дать ей эти страницы, чтобы показать отцу, решаясь на такую огромную ложь, как будто подобное можно было себе представить, как будто он согласился бы с тем, чтобы его до такой степени извратили, преобразили. Я уже давно говорил один и за себя самого. Сандра всегда притворялась, будто этого не замечает.
А теперь я мог сколько угодно метаться, как старая кляча, брошенная у пустых яслей, причины всего этого спектакля не поддавались моему разумению. Но я еще был далек от того, чтобы в полной мере оценить макиавеллиевскую изощренность, с какой она провернула свою махинацию. На самом деле я тогда действительно был не в себе. Подобная развязка подразумевала настолько полное равнодушие к уязвленному самолюбию и поруганной любви, настолько глубокое презрение, что я скорее поверил бы в жестокую насмешку над собой, чем разглядел в происшедшем некую загадку.
Все разъяснилось только через четыре года, в Нью-Йорке, на Пятой Авеню, когда я проходил мимо книжного магазина Рокфеллеровского центра. Я сказал через четыре года, но запломбированный гроб с останками Атарассо, привезенный на Восток, уже три года как покоился в усыпальнице на берегу Евфрата, в которой он некогда производил раскопки, – исключительная привилегия.
А тогда, не решаясь снова пуститься в путь и отправиться в Рим, к моему доброму Сатурнадо, я не мог догадаться, каким орудием в руках Сандры я стал. Меня устранили так безупречно, что я испытывал почти восхищение и нечто вроде мазохистского удовлетворения.
Еще в большей степени, чем перевозка всех ящиков, меня поразило то, что ей удалось заставить сняться с места Атарассо, убедив его в необходимости этого перемещения. Может быть, она преувеличивала, расписывая мне, что он может умереть с минуты на минуту, что, по мнению всех врачей, сменявшихся у его одра, с тех пор как он вынужденно покинул Ближний Восток, передав бразды команде американских археологов под руководством гарвардского профессора Молионидеса, работавших теперь на некогда открытых им участках, дни его сочтены. Зачем она сообщала мне эти новости? Чтобы просто удовлетворить мое любопытство по отношению ко всему, что касалось Андреаса Итало, или это был способ побудить меня поскорее приняться за «редактирование и приведение в порядок»? Сгущала ли она краски, чтобы драматизировать ситуацию и частично возложить на меня моральную ответственность? А потом делилась со мной своей тревогой, чтобы я не ослаблял усилий?
(На самом деле я не прилагал никаких усилий. Я был разочарован первыми переданными мне текстами, но в то же время польщен оказанным доверием, удивлен и заинтересован поворотом судьбы, позволившим мне увидеть этого человека изнутри.)
Возможно, Сандра таким образом отдаляла момент, когда, выполняя данное мне обещание, она подвела бы меня к самому Атарассо, воспользовавшись кратковременным улучшением его состояния.
(«Может быть, он не заговорит с вами, но он знает, чем вы заняты, и наверняка поблагодарит вас хоть жестом».)
Этот момент так и не наступил, и не скажу, чтобы я действительно об этом сожалел. Я чувствовал себя виноватым перед этим человеком. Не столько из-за нас с Сандрой, сколько из-за того, что, не будучи способен прилежно выполнять столь скучную работу, я довольно беззастенчиво трактовал его записи, не соблюдая ни духа, ни буквы, используя их на самом деле как трамплин для собственного воображения, как приглашение к чистому словесному бреду, под которым я бы не поставил своей подписи. Кто когда об этом узнает? Кто потребует у меня отчета? Я ничего не подделывал, не строил из себя литературного «негра»: я начинал с чистого листа. С моей точки зрения, подлинное величие Атарассо было не в этом. Это собрание признаний и утративших актуальность размышлений, этот часто путаный монолог, скорее, омрачали тот образ, каким я его себе представлял. В конце концов я бросил его на пути. Как оправдать все это, если однажды мне придется встретиться с ним лицом к лицу? Как сказать ему, что пишет он плохо?.. Потребовалось бы все переписать под его диктовку, а еще… Нет, мне не хотелось оказаться перед ним и посмотреть ему в глаза. Невидимая сторона этого светила ничем не усиливала его сияния. В этих записных книжках даже были кое-какие детали, кое-какие пометки на полях, которых я предпочел бы никогда не видеть.
По словам Сандры, он был физически нетранспортабелен. Этакая мраморная глыба, обернутая рецептами, которым надо было следовать буквально и с точностью до секунды. Капризный больной, вечно окруженный сиделками, медсестрами, врачами, зачастую вызываемыми из Милана или Рима; когда подступы к замку оказывались перекрыты базарчиками, они прибывали с аэродрома с кортежем полицейских на мотоциклах. Для всех – ученых, журналистов – еще мечтавших увидеть его хоть на мгновение, окутывавшая его тайна стала источником легенд. Его всегда побаивались. Окружавшие его люди постоянно дрожали. Какими же бесконечными должны были казаться ему эти часы! С тех пор как его сразила болезнь, в него вселилось неприятие: ему было невыносимо, что он прожил так долго, а теперь должен жить дальше без всякой к тому необходимости – монумент, в его глазах лишенный смысла, который скоро рухнет. Да, проще было бы перевезти Пальмиру или Сегесту на берега Гудзона, или даже барельефы из Шапура, высеченные в скале, чем перенести его в другую комнату или на другой этаж, даже просто переставить его кровать.
Но перед волей Сандры ничто не могло устоять. Никто не знал, где они; оба как сквозь землю провалились. Что до колонны грузовиков, можно было подумать, что море тотчас сомкнулось за ней, как в Библии. Однако у меня перед глазами был все тот же пейзаж. Кованые геральдические фигурки колокольни вырисовывались на фоне голубоватых холмов. Склоняясь над пустынными дворами, я видел дворец, покинутый во время чумы. С верхнего этажа средневековый город под тяжелым панцирем крыш и террас все так же походил на причудливо измятый щит, брошенный в поле.
Я сказал, что пелена спала лишь четырьмя годами позже, на этот раз в Нью-Йорке. В тот день в Центральном Парке должен был состояться митинг противников насилия, вытащивший меня из привычного ареала, за границу, обозначенную 42-й улицей. Я шел пешком по Пятой авеню. Из-за полиции, старавшейся вытеснить на тротуары толпу пацифистов, чтобы не создавать помех движению транспорта, атмосфера была довольно тяжелой. Я уже и думать забыл о своем итальянском приключении и о его бесславном конце. Голова моя была занята совсем другим. Однако именно в тот день, в той тягостной атмосфере, сказывавшейся на выражении напряженных, настороженных и встревоженных лиц, подчеркнуто презрительных или равнодушных, посреди этой широкой улицы, увешанной большими звездно-полосатыми флагами, развевавшимися на ветру с видом благородного неодобрения, враждебного ответа на угрозу, исходившую от шествия, которое формировалось в нескольких кварталах отсюда, на меня наконец снизошло просветление относительно того происшествия, которое я уже считал канувшим в небытие.
Для этого мне потребовалось всего лишь заметить мимоходом, зацепить взглядом заглавие книги, выставленной среди прочих европейских новинок в витрине Рокфеллеровского центра и плававшей посреди огромного аквариума в отражениях густевшей толпы, и узнать его: «Описание земной империи»!..
Вот это был удар так удар. Самый невероятный удар, который мне только могли нанести. И я, человек в здравом уме и твердой памяти, был оглушен прямо посреди улицы, посреди всех этих людей, которым было совсем не до того, чтобы интересоваться столь запутанной историей, совершенно далекой от их насущных забот. Как бы там ни было, митинг утратил для меня свою актуальность, как только, ворвавшись в магазин, я начал перелистывать книгу.
С этого момента все встало на свои места, все стало грубо просто, выплыла на белый свет хитрость, затеянная дочкой Атарассо. Я забрал с собой книгу, не удостоив за нее заплатить, совершенно уверенный, что она принадлежит мне по праву и что если бы служащий магазина сделал мне замечание, я бы с легкостью добился от него извинений.
Помню, как я шел обратно, рассекая толпу, позабыв о митинге, на ходу проглядывая книгу, выхватывая то тут, то там фразы, которые я мог бы воспроизвести с закрытыми глазами. В ушах у меня стоял треск из слов, которые приходили мне на память, словно ранее поставленное дыхание, затверженные движения. Все они были здесь. Ничего не вымарали, не изменили. Эта явь подстегивала во мне задремавшее было возбуждение. Я пробуждался. Я стряхивал с себя коллективные галлюцинации, которыми частенько заканчивались мои ночи в Гринвич-Вилладж, среди парней и девушек, с которыми я жил теперь рядом. Меня несло на волне благотворного гнева. Мне теперь следовало ринуться в схватку, принять вызов; нельзя было терять ни минуты. Я шел против течения пацифистов, хиппи, некоторые из которых посадили себе на плечи детей, готовились развернуть свои транспаранты, поднять плакаты, скандировать лозунги из-за барьеров в Центральном Парке, которыми их отделят от прочих гуляющих, тихих и безразличных. Я нес в себе совершенно новую истину, готовую взорваться, распиравшую мне грудь, заставляя биться сердце, и окрылявшую меня. Я чувствовал себя призванным, избранным ею. Передо мной стояла цель, гораздо более реальная, осуществимая в ближайшем будущем, чем все то, чего демонстранты могли добиться своими речами о гражданских правах, сексе и наркотиках. Пусть это касается только меня. Но любая истина в конечном счете принадлежит всему миру, и я стану ее свидетелем – не тайным, безымянным, а неотвратимым орудием. Я стану ее живым словом, возмущенным гласом, разящим клинком… Такое чудовищное, невероятное и нелепое воровство… В истории еще не видывали ничего подобного. В подлунном мире еще не предпринимали ничего похожего, чтобы приукрасить покойника. Мир будет поражен и пристыжен. Ему предъявят всю хронику мошенничества. У меня в руках были все доказательства. Последнее слово останется не за Сандрой. На грабительницу, хищницу обрушится гнев всех честных людей. А я буду при этом присутствовать. Меня не смогут купить. Я не поддамся. Она у меня в руках, и ей не удастся лишить меня того, что мне принадлежит. В тот момент я был так уверен, что через несколько дней во всей международной прессе разгорится скандал, подхватываемый ежечасно выпусками новостей по радио и телевидению, что испытывал почти жалость к несчастной, которая возомнила, будто заставит всех поверить в эту сказку, и которую отныне будут уподоблять всем тем вдовам и сестрам великих покойников, что пытались приладить маску гения на лицо смерти.
* * *
Но все это произойдет лишь четырьмя годами позже, в то время, когда я думал, что сумел выкорчевать из своей жизни эту Европу, поклоняющуюся тотемам, отягощенную злопамятством и предрассудками. Тогда же, переживая из-за своей неудачи, ожидая хоть какого-нибудь продолжения завершившегося – как мне казалось – приключения, я был так же далек от этого откровения и до смешного выспренней реакции на него, как далеки бывают люди от того, что уготовано им в будущем. Моим глазам не открылась тончайшая махинация, давшая отсчет этому времени, и ни разу за все те недели, что я прожил в замке, каждый день строча свои листки, я не почувствовал, как стрелка отмеряет роковые секунды. Я чувствовал себя уязвленным в своем достоинстве. Какой мужчина в подобной ситуации не отвел бы душу, изрыгая угрозы и проклятия?
Сандра надо мной посмеялась, выставила меня дураком в моих собственных глазах, лишила меня наполнения, словно устрицу, словно моллюска, выкачала воздух из легких: я вынырнул с пустыми руками. И все же совместно прожитое время понемногу стало представляться мне иначе. Чего же я тогда не заметил, не распознал, о чем предпочел не думать в душной быстротечности наших ночей? Нечто отличное от наших движений, подчиненное какому-то загадочному ожиданию, словно наши чередующиеся вздохи, наше слившееся дыхание, наши ласки, взаимный дар, то жесткое и жестокое столкновение, то соперничество в наслаждении избавляли нас от самих себя и от того замкнутого и ужасного мира, в котором нас заточала смерть невидимого бога, предаваемого нами ежесекундно. Он тоже был пленником этих стен – старый славный король, чей образ вскоре будет прилизан некрологами, – но тем явственнее становилось его присутствие. Мы подталкивали его к могиле, но он оставался связующим нас звеном, искуплением совершаемого греха. Столь ли велика была его доля в той радости, дионисийском мираже тоски? Только он позволял нам устоять перед накатывавшим валом, опрокидывавшей навзничь волной оргазма, словно, агонизируя, различал в нашем позоре обетование воскресения.
Я хорошо помнил свое ожидание. Образ Сандры постепенно блекнул. Случившееся со мной происшествие принесло иные плоды: внезапное извержение, неукротимый словесный поток, как только, начиная разбирать записные книжки, я отклонялся от намеченного в них направления и отдавался на волю слов…
Вот эту-то свободу у меня и отняли. Поспешный отъезд повлек за собой внезапную потерю: остановку властного ритма. Я оказался в положении человека, который застыл как вкопанный посредине фразы, споткнувшись о какое-то слово, как о непреодолимое для него препятствие, и понимает, что родник иссяк, что гидра его вдохновения – всего лишь сдувшийся воздушный шар, старая дырявая волынка, неспособная издать ни одного звука.
Неужели это странное, наконец обретенное равновесие находилось в столь тесной зависимости от обстоятельств? Остановка действительно была самым неожиданным следствием разрыва. Течение остановилось: жидкость не поступала и не перетекала. Батарейки сели. В этот раз я так и останусь на обочине. Хотя мои амбиции ни в коей мере не распространялись на литературу (я и в мыслях не имел воспользоваться нежданно открывшимися возможностями для себя лично), блокировка механизма вызвала во мне чувство утраты и разочарования, пополнившее собой гамму переживаний. Я прекрасно представлял себе пределы своих способностей, в моей памяти были слишком свежи прежние неудачи, чтобы я ставил эти робкие попытки творчества в заслугу исключительно себе и серьезно относился к строительству воздушных замков. Сандру я теперь корил за то, что она лишила меня той силы, которую мне давала. Нужно было перевернуть страницу, но не так просто на это решиться. Бывало, мне казалось, будто что-то начинается или возобновляется, будто моя жизнь приняла некий непредвиденный оборот. Каким бы обманчивым ни было это равновесие, мне и в голову не приходило, что оно стало следствием цепочки случайностей. Теперь же, когда все было кончено, я ощущал себя решетом, неспособным удержать проходившие сквозь меня силы. Эти слова, все эти слова… мне ли они принадлежали? Или мне только дали их на время, чтобы посмотреть, что я с ними сделаю? Но я увлекся этой игрой. Наделяло ли меня иными правами мимолетное чудо? Пускай я невысоко ценил все, что насочинял за эти недели, ко мне подступали сомнения: не облек ли я призрак тем, что было во мне самого живого, самого настоящего?.. Возможность нарекать, придавать форму бесформенному, удерживать ускользающую реальность… И мне было радостно это делать, радостно расточать свое имущество, радостно соприкасаться с истиной, которая уже давно искала во мне выражения.
Я скоро уйду, но это счастье творить ради единой радости творчества, подобное некоему жизненному свершению, отныне будет мне неведомо. Основной ритм, нераздельный с природой. Тропизмы, гравитация, деление клеток головного мозга… Возможно, я только освободился от долгого принуждения?..