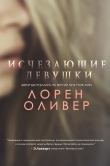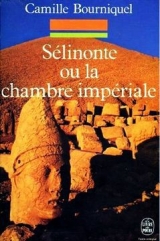
Текст книги "Селинунт, или Покои императора"
Автор книги: Камилл Бурникель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Ночью тысячи фонарей осевого освещения и прожекторов разметили город на странные геометрические фигуры, но тишина пока еще не установилась. Она может взорваться в любой момент. Завопила сирена «скорой помощи», выскочившей из глубины польских кварталов и вихрем подлетевшей к входному павильону. «А baby»,[45]45
Малыш (англ.)
[Закрыть] – сказала бы Эдна, будь она еще здесь. Для всех местных жителей существует строгий запрет. Окрестности больницы должны выглядеть так же благонадежно, как дворик детского сада или пансиона для домашних животных, чьи хозяева уехали в отпуск. Левая рука затекла, я вынужден снова лечь. Но ожидание уже не то, что прежде. Всякая тоска исчезла. Мы приближаемся к цели. Атмосфера скоро переменится.
Пусть внизу по-прежнему существует жизнь, проявляясь то тут, то там – люди валяются на диване, не зная, о чем бы завести разговор… кое-какие пары без особого воодушевления исполняют старый ритуал… длинноволосые юнцы передают друг другу «косяк» с марихуаной, – все это уже не сможет меня отвлечь. Секундная стрелка уже не мечется по циферблату; жучок вдруг застыл, перестав копошиться в своей коробочке. Время теперь может даровать лишь одно облегчение: не заглядывать в будущее.
Бывает, что я даже этому улыбаюсь, зная, что никто не увидит моей улыбки. Наверное, только я один в этой больнице думаю о чем-то другом, кроме того момента, когда я смогу отсюда выйти. Что произошло?.. Многие сказали бы: этот парень тебя сглазил.
Я теперь знаю каждую черточку его лица с налетом тишины. Холмики губ и лба в одновременно диком и полупрозрачном, чувственном и умиротворенном профиле. Тонкий изгиб уха над мочкой. Округлая выпуклость века в глазной впадине… Словно кто-то одним нажатием, одним слегка вращательным движением большого пальца вылепил это лицо, придал ему рельефность, разгладил ровные места и явил жизни. Оно, конечно, выглядело иначе при свете, падавшем на стеклянный столик и на складки простыни, но как будто само излучало этот свет.
Мне часто хочется сделать с него набросок, который я мог бы оставить себе, подобно художникам, которых раньше приглашали к одру знаменитых больных. Удался бы рисунок лучше, чем тот подмалевок, разорванный в клочья моей натурщицей? Увы, такой набросок был бы лишь посредственным и передал бы только усталость, истощение – и больше ничего. Во всяком случае, ничего из внезапной метаморфозы, из молчания, уже готового наполниться словами. Как передать сияющую эрозию, в которой словно растворились все контрасты, как на древних статуях, обточенных солнечными ветрами, аскетическую улыбку, словно раскрывающую маску внутрь самой себя? А нужно было выразить и запечатлеть именно это.
Признаюсь, я был удивлен тем, что при подготовке к операции, перед анестезией, они оставили в неприкосновенности природное буйство и не тронули густой гривы, припаявшей его затылок и шею к подушке. Возможно, они решили, что пациент следует не столько моде, сколько некоему тайному обычаю. Голова скифа, конкистадора, пирата, лицо изъеденной солью фигуры на носу Бог весть какого корабля. Оно напоминало мне маску лорд-мэра города Корка, знаменитого Теренса Мак-Суини,[46]46
Теренс Мак-Суини (1879–1920), ирландский революционер, один из организаторов ирландских Волонтеров. В марте 1920 г. стал мэром г. Корк. В августе арестован англичанами и приговорен к двум годам тюрьмы. Голодал 74 дня, чем привлек внимание мировой общественности к ирландскому вопросу.
[Закрыть] умершего после 73-дневной голодовки, чье изображение одна моя родственница, ирландка по матери, держала в изголовье своей постели и хотела быть с ним похороненной. Упокой, Господи, ее душу!
Иногда он просыпался медленнее, как будто не знал, какую выбрать дорогу, проходил мимо иллюминатора, который поэт Ларбо сравнил с «витриной лавки, в которой продавали бы море». Это море было для него полно остовами кораблей, призывами, доносящимися с глубины, на которых ему не удавалось сосредоточиться.
Но вот он подозвал меня знаком. Его губы шевелятся, не издавая ни единого звука. Или что-то такое, смысл которого мне не уловить. Или обрывок фразы, уносящийся столбом солнечных пылинок под темные своды, «…с зажженным фонарем…» Начало приходит позже: «Ищущий огня…» Конец от него ускользает. Он молчит, но как человек, бредущий в потемках, напрягая слух, пытаясь нащупать ориентиры, найти дорогу, по которой когда-то прошел. Вдруг какое-то слово отскакивает у него из-под ноги, и он будто замирает, слушает, как оно катится в тишине. Он как будто пытается вставить это слово во фразу, которую некогда слышал или сам написал.
Неожиданно он разражается звонким смехом. Тем смехом, каким он встречал остроту или анекдот, насмешки сноба, хамство грубияна, потрясающую непристойность, надписи на заборах казармы под Неаполем: «Ogni sera ho fatto i pompini ai militari».[47]47
Каждый вечер я вставлял пистон военным (итал.).
[Закрыть] Сплетни, gossips, petegolezze! Он с грохотом захлопывает эту дверцу. Мышиная возня. Бесконечные разговоры. Большие и малые несчастья того самого общества потребления. Во всех этих кругах занимались групповухой. Он там не задержался. Он не причалил к их берегу. Он отгоняет эти воспоминания. Стирает их. Солнце снова светит над Рагузой или Скударским озером. Жеро медленно возвращается на Восток. Но раскоп его памяти еще не приведен в порядок, спутанная стратиграфия пока не позволяет ему разграничить уровни, пользуясь терминологией ученых.
«…мир оседлый и мир текучий…» Он снова с головой погрузился в парфянскую историю. Пойму ли я когда-нибудь, что его в ней привлекает, что он в ней видит и какой смысл ей придает? Почему его память забита хитросплетениями политики Аршакидов, обменом народами и венцами, тайными сговорами, убийствами, ставшими причиной римского вторжения? Он присутствует при завоевании Каменистой Аравии, первой фазе покорения, идет с караванами в Бишапур, Пасаргад и дальше по пути шелка, перца и жемчуга. Себя ли он цитирует или страницу из Атарассо, выхваченную из «Сборника» или записных книжек?
«…император, уже в Вавилоне лишившийся последних сил, велел отнести себя на берег Персидского залива, на который впервые вступили его легионы, и долго смотрел на корабли, уходившие на Восток. Александр умер, обратив взор к Карфагену, к дороге Энея, но он, андалузский умбр, был словно поражен совершенно иным видением у врат, которые лишь пятнадцать веков спустя распахнутся перед Западом. Вступил ли он на ложную стезю, сражаясь с даками, наводя мосты через Тахо, высекая имена своих побед на огромной колонне, вещей спирали, превратившейся в бесконечный винт? Мир вдруг перестал ему принадлежать. Триумфы без его участия, титулы, пополняющие собой длинный список, – одно ничтожное жужжание. Он ушел слишком далеко, утратил связь. Возможно, теперь он желал только одного: очутиться одному в пустых покоях, в незнакомом месте? Он соизмерял свой закат, непостижимую тщету своего предприятия с тем, что отныне навсегда от него ускользнет и никогда не имело другого повелителя, кроме этого варварского солнца, явившегося на горизонте и тотчас воспарившего в зенит, единственного покорителя просторов, где след человека подобен муравьиной тропе. Состояла ли его победа в этом откровении? По ту сторону границы время качнется обратно. И горечь от невозможности ее пересечь делала возвращение почти напрасным. Эта горечь будет преследовать его до последней черты, до намеченной встречи в Киликии, открывая перед ним, уже отрекшимся, другие просторы, иные миражи: Кавказ, Индия, Китай…»
Цитата обрывается долгим молчанием, и я еще не скоро смогу поместить её на отведенное ей место. Его отбрасывает волнами прибоя. Нить путается. На протяжении одной фразы он переходит с одного языка на другой, словно ручеек, меняющий направление. Я уже не улавливаю, что он говорит. Но вот мы приближаемся к цели.
«…it has distinctly the fine violaceus tint of almandine…»[48]48
У него явный нежно-фиолетовый оттенок альмандина (англ.).
[Закрыть] Вот оно. Он на лестнице музея древностей, перед решеткой зала медальонов. Охранник впускает его и приветствует, поднеся указательный палец к козырьку фуражки. Жеро здесь завсегдатай. Мало кто разделяет эту страсть, которая отразилась на всей его жизни; он умеет ее удовлетворить. Он знает, где находятся такие коллекции, и, приезжая в каждую новую страну, непременно посвятит им несколько часов. Он входит в эти сейфы с тем же чувством почтения, как если бы ему удалось, повернув время вспять, переступить порог храма в Эфесе или библиотеки Александрии, или, следуя за Гиерофантом, открыть для себя Сокровище афинян в Дельфах. Выражение его лица меняется. Он проходит мимо витрин, подолгу рассматривает драгоценные камни, инталии, столбики монет. Турмалин, хризоберил, сардоникс, перидот… эти названия очаровывают его почти так же, как сокровища, выставленные на подставках, таинственные слова, аристократические титулы самоцветов. «Кровь Изиды»! «Таинственный глаз»! Названия, которые с самых незапамятных времен, со времен мастерских Суз и Египта словно таят некое излучение в своей минеральной основе, скрытый смысл в пестроте, прожилках яшмы и халцедона, но главное – тайное наслаждение, безумную алчность всех этих пап и императоров, которые ради обладания этими предметами не колеблясь меняли города на одну-единственную камею, а порой развязывали войны, чтобы завладеть ограненным рубином или печатью.
Вдруг что-то другое привлекло его внимание. Сейчас произойдет нечто такое, что ознаменует собой начало всей этой истории. В тридцати шагах от него стоит Сандра. «Вот тогда я и увидел ее в первый раз!» Он заметил ее в конце галереи, она тоже застыла перед витриной, каждый предмет на которой он помнил наизусть, – Achemenian gems, Hellenistic period, Etruscan and italic period, globolo style, Roman intaglios[49]49
Украшения Ахеменидов, эллинский период, этрусский и италийский периоды, выпуклые украшения, римские инталии (англ.).
[Закрыть] – так что мог издали представить себе каждый на своем месте, лежащий на обтянутых бархатом панно или прикрепленный металлическими скобами к стеклу.
Когда состоялась эта встреча, Жеро, конечно, еще не знал, какие необычайные последствия она будет для него иметь и какую роль эта девушка призвана сыграть в его жизни. Он восхищался Атарассо, но ему ни разу не удалось к нему подступиться. То, что пятью годами позже она стала связующим звеном между ним и этим выдающимся человеком, придает той встрече постфактум характер знамения.
Образ ее, запечатлевшийся в его памяти, такой, каким он его описал (или, может быть, выдумал), действительно, трудно отделить от окружавших ее украшений, ставших – но это он поймет только позже – некими вещими знаками, которые должны были пробудить в нем осторожность. Отражаясь в стекле, тело Сандры издали казалось сплошь покрытым сказочными трофеями: тирс Диониса на уровне плеча, антилопы, орлы, грифоны, обрамлявшие лицо, Зевс-Аммон, прицепившийся к груди и скользнувший вдоль бедра в разрез юбки, лев, занозивший лапу и протягивающий ее Эросу. Все это больше было похоже на мираж или предостережение, чем на ощутимую реальность.
Именно это наложение столь поразило его. Сандра стала прежде всего идолом, увешанным ожерельями, фибулами, императорскими печатями. Самое сдержанное по сути и по форме искусство на мгновение согрелось теплом живой плоти, оживив символы, скрытые плотной завесой времени. Этот образ останется в памяти Жеро неизгладимым, но и непроницаемым под грудой тайных смыслов.
Наверное, это длилось всего несколько секунд. Сандра уже отделилась от собственного отражения, обогнула большую витрину в центре ротонды и прошла мимо Жеро, даже на него не взглянув. Решетка закрылась. Ее шаги раздались на лестнице, потом стихли в галерее бюстов на первом этаже.
Когда они снова встретились пятью годами позже, Сандра отрицала, что приходила в тот день в зал медальонов, утверждая, будто находилась тогда в Иране с отцом и что вся эта встреча в глиптотеке была полностью выдумана Жеро. Но он не отступился от своих слов. Почему же он тогда не пошел за ней следом? «Я подбежал к решетке, но ее было не открыть. Охранник куда-то делся, а когда он пришел, ее уже было не догнать. Я увидел ее снова лишь несколько лет спустя, за рулем «Остин-Мартин», из-за которой я чуть не лишился ноги. Если б не было там этой решетки с электрическим запором, которым мог управлять только охранник… Если бы я закадрил ее в тот день, все было бы сказано, мы бы к этому больше не вернулись. Ничего бы не случилось…»
Но через какое-то время он опроверг сам себя: «Думаю, что это бы все-таки случилось… не могло не случиться…»
Он как будто совсем проснулся. Взял стакан воды, который я ему протянул. Выпил, снова откинулся на спину, глядя в потолок: «Я часто мечтал о том, чтобы окончить свои дни в больнице для птиц…»
* * *
Он снова видит ее: окутанная тенью, в руках фонарь, который она подносит к его лицу. Сивилла, а не весталка, хотя еще далекая, недоступная, киммерийка, о какой обычно не помнят художники, – жестокая, ненасытная, vagina dentata![50]50
Зубастая вагина (ит.).
[Закрыть] Он вскрикивает…Если бы в тот момент, когда я понял, что они оставили меня одного в этой крепости из розовых кирпичей, закопченных пожарами, кострами, празднествами и бунтами, забрав с собой нелепое чудовище, раскормленное мной за эти недели, – рукопись казалась мне совсем сырой, незаконченной, – если бы тогда она оказалась передо мной, я набросился бы на нее и, наверное, задушил. Но она удрала вместе со стариком прямо в аэропорт. Ничто из того, что замышлялось, не просочилось в комнатку над крышами, выходившую на дозорный путь castello,[51]51
Замок (итал.).
[Закрыть] которую я занимал. Меня так хорошо упрятали в этот чулан, обитый старой тисненой кожей (было такое впечатление, будто целая стая котов точила об нее когти), между колченогим столом, заваленным бумагами, – я еще не знал, что их бессовестно похитят, – и кроватью с лохмотьями балдахина, на которой я лежал целый день, поджидая ее и глядя в потолок. Только она знала все входы и выходы. Но это не вызвало у меня никаких подозрений. Когда мы поднимались посреди ночи и шли прогуляться по пустынным улочкам городка, прилепившегося у подножия этих стен, и нам было нужно, спускаясь, преодолевать все эти препятствия, я считал, что лучше положиться на ее инстинкт и чувство ориентации. Уверенный, что возьму свое, когда мы выйдем наружу, я просто шел за ней следом.
Нужно было быть гвельфом[52]52
Гвельфы – в средневековой Италии – сторонники пап и противники гибеллинов, поддерживавших императора.
[Закрыть] пятью веками раньше, чтобы не потеряться в такой казарме. Огромные залы, покинутые лучниками, копейщиками, камерариями, гонфалоньерами и не знавшие других светильников, кроме факелов, прикрепленных к стенам, горшков со смолой и пылающих поленьев в монументальных очагах, зияли глубокими пещерами в центре крепости. Ящики с коллекциями – черепками, барельефами, цилиндрами, сокровищем Хосрова и Вологеза,[53]53
Xосров – представитель династии Сасанидов, Вологез – из династии Аршакидов (древние правители Персии и Ирана).
[Закрыть] произведениями искусства степняков – поднимались до самого потолка, загромождая этот лабиринт и усложняя наши вылазки. Кто вступил бы на эти подъездные пути, в эти гулкие храмы, не держа в голове план? Не бывало более непроглядной ночи, ощетинившейся опасностями. Пусть даже то тут, то там на фоне неба вычерчивалась стрельчатая арка с колоннами и завитушками, разве не лучше идти след в след за этим телом, несколькими мгновениями прежде сплетавшимся с моим? Эти спуски, подъемы, подземные галереи, колодцы добавляли простора, риска нашим утехам, нашему утомлению. В конце концов мы оказывались у подножия башен. Огибали колокольню, баптистерий. Вода из переполненных фонтанов стекала в желобки между булыжниками. Шлепание наших босых ног звонко раздавалось под каменными сводами древнего римского рынка, ушедшего под землю. Подвальные запахи смешивались через отдушины и решетки казематов или бань с приторными ароматами садов за оградами. Мы пересекали наискось огромные площади. Шли вслед за собственными тенями по галереям, мимо бакалейных лавок с опущенными жалюзи. Вдруг Сандра уносилась вперед, увлеченная собственным порывом. Я поддерживал в ней иллюзию бегства, давая заранее насладиться притворством ее поражения. Мы пробегали почти через весь город. Понемногу я нагонял ее, подстегивая своим дыханием. Она в конце концов останавливалась. Тогда я прижимал ее к одной из колонн монастыря и, наполовину раздев (сам я был по пояс голый, в старых, латаных и обтрепанных джинсах, поддерживаемых веревкой), стегал ее по бедрам и коленям сорванной по дороге веточкой. Ее ярость стихала в тщетных укусах. Вдавив между ее грудей кварцевый амулет, оставлявший там отпечаток, я чувствовал, как она открывается, отдается волне, которая в следующую секунду подхватывала ее и снова прижимала ко мне. Я пропахивал борозду в благодатной плоти, ставшей моей единственной одеждой, моим единственным жилищем. Зарывшись, я, наконец, вырывался единым махом из этой пещеры дождя и соли. «Жеро! Жеро!» Я не откликался на зов. Скоро рассвет. Над крыльцом маленькой молельни в самой глубине сада все еще горел фонарь. Я окунал лицо в небольшой круглый фонтан, потом подзывал ее знаком. Взмахнув всей рукой по поверхности воды, я окатывал ее несколько раз этой влагой, сохранившей свою свежесть в точеном мраморе. Это был завершающий ритуал. Мы шли назад, мокрые, обнявшись, словно любовники, возвращающиеся с пляжа.
* * *
Весь этот эпизод моего пребывания у Атарассо проникнут духом эйфории и полной свободы. Было, конечно, то происшествие – я шел пешком на юг «сапога», и Сандра зацепила меня на повороте, – но не оно, счастливо разрешившись, заглушило мои природные инстинкты к бегству и независимости.
По частью непонятным мне самому причинам я согласился на одиночное заключение в этом замке, и только путаным переплетением далеких обстоятельств можно объяснить то, что я подчинился и принял его так легко.
Романическая сторона всего этого приключения, позволившего мне одновременно снова встретить Сандру и проникнуть в заветную обитель, быть введенным в которую я хотел больше всего на свете, конечно, тоже существовала. Я оказался вынужден прожить там несколько недель в каморке, куда попасть было можно только с покатых крыш и дозорного пути, так что этой главе моей жизни вполне подошло бы название «Мои казематы». Не отрицаю я и того, что столь неожиданная обстановка пробудила во мне в большей степени любопытство, нежели подозрения. После того как меня подобрали с обочины дороги, я очнулся в этих стенах, словно герой приключенческого романа, который остался лежать замертво на месте поединка, а потом незнакомые люди его нашли, перенесли в мансарду или в разбойничью пещеру, перевязали раны… или словно герой мелодрамы, который ради того, чтобы быть ближе к своей любовнице, позволяет запереть себя в шкафу.
Гораздо более реальной причиной этой длительной эйфории, хотя и менее очевидной для меня, была работа над рукописью, которую меня просили редактировать. Поначалу я воспринял это как долг вежливости по отношению к хозяину дома, пусть состояние его здоровья и не позволяло ему в данный момент меня принять и лично попросить о редакторской правке. В общем, своего рода плата за проживание. Но вот это времяпрепровождение, сначала призванное заполнить собой долгие часы бесконечных дней, стало изысканно питать собой ожидание прихода Сандры. Скука сменилась возбуждением, как будто эта игра, в которой меня просили поучаствовать, открыла мне новый путь, зажгла потухшие огни забытого праздника. Я чувствовал себя в этих стенах более свободным, выстраивая фразы, предлагая синонимы на полях, исправляя ляпсусы, стилистические и синтаксические ошибки, вычеркивая, а потом и добавляя от себя фразы ка черновиках, на страницах записных книжек – которые мне передавали изо дня в день, – а под конец присовокупляя целые абзацы, целые главы… конечно, более свободным, бесконечно более счастливым, чем когда-либо раньше, бродя по дорогам и при любых иных обстоятельствах. Надо сказать, что при всем моем уважении к Атарассо, я не относился серьезно к этим запискам и видел в них, скорее, пустую забаву великого ума. Создавая вариации на задаваемые таким образом темы, я действовал с тем меньшей робостью и щепетильностью, что прекрасно знал: мне не придется расплачиваться за свои «грехи», все это не будет иметь никаких последствий, ведь это всего-навсего способ занять мое время, выдуманный Сандрой.
Другой причиной эйфории было физическое согласие между нами обоими, гордость от того, что эта девушка, очутившаяся в моих объятиях, – дочь человека, за которым я гонялся так давно; наконец, чередование моего заточения и наших ночных прогулок. Они были нам наградой за все ограничения – разумеется, разные для обоих, – и позволяли размяться в спящем городе, не заботясь о приличиях или о том, что нас увидят, выследят или даже заберут в полицию. Полицейских в этот час почти не было, но Гриша со своими подручными мог погнаться за нами по пятам и все увидеть.
(Я еще вернусь к этому Грише, воевавшему наемником в Конго, а потом поступившему в шоферы к Андреасу Итало, а на самом деле бывшему его телохранителем, практически шефом охранки, в задачу которого входило присматривать за всем, что происходило снаружи и внутри кастелло, и руководить людьми, которых он сам нанимал, чтобы денно и нощно охранять ящики.) Возможность быть застигнутыми нас возбуждала. Запертые целыми днями, мы отказывались прятаться в тени, в укромных местах, безразличные к взглядам, которые могли быть на нас устремлены, прижавшиеся друг к другу, словно земля медленно колыхалась у нас под ногами.
Наивно выставляя себя напоказ, мы стремились наслаждаться своей свободой замурованных, каждую ночь вырываясь на простор. Это сознательное преступление побуждало нас прибегать к иллюзии, к притворству. Хотя к ночным вылазкам нас подталкивала властная необходимость, они позволяли нам отдалить пресыщение, искать чего-то нового под знаком неминуемой угрозы в глубине какого-нибудь дикого райского сада.
По правде говоря, никогда еще так мало произнесенных (и так много написанных!) слов не способствовали соединению или разлучению двух людей. Возможно, только это и связывало нас в совершенно случайных отношениях, ненадежность которых мы оба чувствовали, развившихся на почве ночного сообщничества, прочного разве что в сексуальном плане. Лишь много позже вся эта картина предстала передо мной совершенно в ином свете.
Но возвращаясь к моим переживаниям в то время, не могу не упомянуть о смутном чувстве вины по отношению к этому человеку, с которым я так хотел познакомиться, а случай позволил мне приблизиться к нему, хоть и не дав возможности с ним переговорить. Я возвел его на пьедестал, но весьма странным образом воздавал ему дань уважения и восхищения, платил за гостеприимство тем, что спал с его дочерью в его же собственном доме – и наверняка не без ведома прислуги и соглядатаев.
Вправду ли она приходилась ему дочерью? Или он просто удочерил ее? А может быть, узы, связывавшие Сандру с разбитым болезнью стариком, имели совсем другую природу, нежели благочестивая забота, почитание высшего ума?
Она бы отказалась отвечать. Мрак неизвестности по-прежнему окутывал любовь, которую ей не было нужно ни оправдывать передо мной, ни выдавать. Эта тайна – тайна чужого присутствия – сближала нас в молчании, порой воцарявшемся между нами после того, как она сообщала о внезапном ухудшении состояния отца. А я мог приблизиться к нему только через нее. Но чаще всего она молчала, когда я ее расспрашивал. Я попался в эти сети. Я думал, что помогаю ей переносить одиночество, что она, даже сокрушаясь о состоянии Андреаса Итало, не может обойтись без молодого мужчины. Тревога бродила в этих стенах, по этим коридорам. С другого конца кастелло мог прозвучать зов, и ей бы пришлось немедленно уйти. Но она оставалась. Мне вдруг представилось, что наше сообщничество носит неясный характер кровосмешения, словно в тени заслуженного и сурового отца мы стали братом и сестрой, которых страх перед грозой или обида на несправедливый выговор загнали в одну постель, и которые, чтобы избавиться от тоски, от унижения, чтобы отомстить самим себе и остальным, могут только зарыться друг в друга и открыть себя один другому.
Да, разве мог я знать о том, что затевается? Если кто и мог бы меня предупредить, то уж не прислуга, ходившая по струнке перед Гришей, начальником охраны сокровищ, шефом частной полиции Атарассо.
Для него следует сделать отступление. Лет тридцати, не больше. Красивая голова озападничевшегося славянина на могучих плечах и мускулистой груди. Бывший белый наемник в Африке вовремя понял, что ему лучше избавиться от автомата и огнемета, и прошел переподготовку между Капри и Римом. Теперь он был готов как участвовать в каком-нибудь родео на Сардинии или в Калабрии, так и на любую другую работенку у миллиардеров, путешествовавших по Италии.
Благодаря своей профессиональной многоплановости он и стал выполнять двойные функции: телохранителя и надсмотрщика. На службу он поступил вскоре после приезда знаменитейшего профессора с дочерью в Бриндизи, на судне, специально зафрахтованном в Бейруте для перевозки ящиков, когда Сандра, оставив отца отдыхать после изнурительного для него путешествия в загородной клинике, отправилась на машине на север в поисках просторного жилища с толстыми стенами и зарешеченными окнами, в котором можно было бы разместить на время бесценное сокровище.
Это большое укрепленное сооружение отвечало всем предъявленным требованиям. Гриша сумел сделаться необходимым новым хозяевам. Однако и он не был вхож к патрону, которого поместили в единственной действительно жилой части этой постройки XV века, и получал приказы только через Сандру, не имея возможности их обсуждать и не зная, какое пространство для маневра в их толковании и исполнении она оставляла за собой.
Мое появление он воспринял без особой радости, возможно, и в духе соперничества (в какое место она его ужалила? может, она и с ним тоже спала?), нарочито меня не замечал и даже избегал появляться поблизости. Выказывать ревность довольно необычно для человека столь расчетливого склада ума. Он прочно обосновался в доме, красивый зверь (а при случае просто самец), – должен быть доволен уже тем, что он хозяин в своих владениях, может и дальше разыгрывать из себя городового и держать в страхе челядь.
Я мало общался со слугами. Наверное, они презирали во мне чужака, которого не сажают за хозяйский стол, а спать загнали под крышу, забывая, что комната, которую я занимал, возможно, некогда была приютом алхимика, личного астролога князя или подеста. Чего доброго, они вообразили, будто я нарочно подставился под брызговик «Остин-Мартин», – шитый белыми нитками предлог, чтобы за мной бесплатно ухаживали и распахнули двери этого дома, наглухо закрытые для чужих. У синьорины, когда она сшибла меня на том крутом повороте, не было водительских прав: само собой, меня нельзя было везти в больницу, там сразу бы известили полицию. Так что они могли подумать, будто я ее шантажировал, возможно, даже требовал денег. Зато им и в голову не могло прийти, что я ее сразу узнал, что я сразу понял, с кем имею дело (охранник зала медальонов сказал мне тогда, кто она такая).
Видя, что я уже совершенно поправился, но никто и не думает указать мне на дверь, слуги остерегались выказывать мне свою враждебность, встречая меня на террасах или на дозорном пути. Они, наверное, тоже чувствовали ответственность за это «сокровище», которое, если б его разложили перед ними, показалось бы им грудой бесформенных обломков, изломанных бесполезных орудий, не представляющих никакой ценности, странных масок, у которых наверняка дурной глаз. Но по радио про это шли передачи, газеты и журналы рассказывали об этом читателям в статьях, напичканных учеными словами и непостижимыми оценками некоторых предметов, подробно описанных и сфотографированных во всех ракурсах. Разве им не следует быть настороже и вести себя со мной осторожнее, чем синьорина?
Когда меня привезли сюда после столкновения и тотчас призванный доктор велел им меня раздеть, они все видели, что у меня в карманах: несколько сотен лир, обтрепанный, возможно, просроченный паспорт. В их глазах я был голодным волком в овчарне. Они прекрасно знали эту породу изголодавшихся иностранцев, битников, прибывших со всего света и затоплявших собой Италию после летнего солнцестояния, толпившихся перед музеями, церквями, при въезде на автомагистрали, и если бы дорожная полиция не гоняла их оттуда, они непременно перегородили бы дороги и вымогали бы деньги у туристов. Это ребята, готовые на все, – по их представлениям об этих исхудалых и волосатых варварах, – готовые обратить в деньги все, что можно, наняться мыть посуду, продаться за тарелку лазаньи, за бутылку кьянти, за четыреста километров по счетчику – явно нечестная конкуренция по отношению к местным жуликам и распутникам, тоже живущим за счет иностранных клиентов.
В глазах прислуги кастелло я принадлежал к племени этих сезонных захватчиков. Чего мне было ждать? Чем бы я отблагодарил за донос, даже если бы у кого-нибудь достало смелости пренебречь наставлениями Гриши и совладать со страхом, который он всем внушал? Слуги могли воспринять эту масштабную воздушно-десантную и морскую операцию как способ, придуманный хозяевами, чтобы избавиться от меня. Брошенный здесь, я буду вынужден отсюда уйти и отправиться искать крова и пропитания у других богатеньких простофиль.
Так что тайна была соблюдена. Все было выполнено за рекордное время. Самое большее шесть-семь часов. Я едва успел прийти в себя после обильного возлияния, из-за которого я, не имея привычки к таким попойкам, совершенно отключился и не слышал, что творилось внизу. Пробуждение стало тем более внезапным, что во всем огромном строении в то утро царила необычная тишина, словно в карьере, вдруг покинутом рабочими. Дворы опустели, слуги исчезли, только несколько голубей сидели на карнизах и вокруг центрального фонтана.
На мгновение у меня мелькнула мысль о том, что событие, грозившее случиться, в конце концов произошло, и Атарассо умер этой ночью. Я вернулся к себе в комнату, натянул майку и джинсы и только тогда заметил, что листки со стола исчезли. Тоже необъяснимое явление, которое не могло пролить свет на все остальное. И почему не явился юный Пьетро в безупречно белой куртке с тесным стоячим воротничком, каждое утро приносивший мне завтрак и газеты, держа поднос на вытянутой руке, словно шел по вощеному паркету? Он один был придан мне в услужение и был не прочь поболтать, если не касаться большинства вопросов, которые мне порой хотелось ему задать. Он тоже ни о чем меня не предупредил, и я даже не подозревал, что он исчез накануне вместе со всеми, после того как принес мне ужин.
Нужно было идти на разведку: спуститься на нижние этажи, пересечь залы и галереи, по которым я проходил только ночью. Я только теперь начинал понимать, что меня облапошили, видя, что залы пусты и знаменитые ящики исчезли: все были вынесены и отправлены в эту самую ночь.