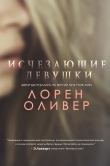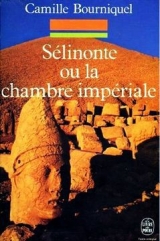
Текст книги "Селинунт, или Покои императора"
Автор книги: Камилл Бурникель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
Почему не поверить Жеро на слово? Почему не допустить, что несовместимость характеров его родителей привела к одному ясному результату: сделала его изгоем на двух континентах, в Америке и в Европе, и не оставила ему другого выбора, кроме его противоречий?
Дружба между нами (выше я сказал «приятельство») была непродолжительной. Однако она остается одним из светлых пятен в те печальные годы (нам они казались чудесными), когда Старый Свет, выстоявший в войну, начал разваливаться, распадаться на части. Что еще Вам сказать про Жеро? Это был юноша незаурядной внешности, привлекавший своими дарованиями, своим умом, но порой раздражавший своими замашками сноба и в целом не вписывавшийся ни в какие рамки – в общем, привязаться к нему было небезопасно. Нам случалось надеть рюкзаки и отправиться в Шартр, Везлэ, Бретань… Но сколько раз он исчезал, и я даже предположить не мог, в какую еще авантюру он ввязался. Возможно, я сердился на него за это. Мне кажется, что ему, как и многим молодым американцам, упивавшимся в разоренных странах Европы свободой без всякого риска для себя, Париж тогда был вреден. Но я могу ошибаться. Мне не хотелось бы высказывать безапелляционные суждения. Говорить о юношеской дружбе всегда рискованно: множество событий всякого рода изменили все до неузнаваемости, а главное, изменили чувства, которые можно было бы испытывать к тому же самому человеку, будь он всегда рядом с тобой.
У Жеро была открытая душа, и в то же время он разрывался между притворством и искренностью. Невозможно было, например, совершенно понять чувства, которые ты ему внушал, и это привносило в длительные отношения некоторую неустойчивость. Когда меня отправили в Германию для прохождения военной службы, он был в отлучке. Не думаю, чтобы ему когда-нибудь пришло в голову написать мне.
Я снова повстречался с ним лишь десятью годами позже, в Бейруте. Все такой же прекрасный, похудевший, постройневший, слегка наклоненный вперед, словно старался разобрать знаки, начертанные на земле. Это меня поразило. Он, наверное, много бывал на солнце, так как сильно загорел; можно было подумать, что он месяц прожил в пустыне. Еще я был поражен странностью его наряда, какой-то продуманной небрежностью. Сегодня на это не обратили бы внимания. Длинные волосы, рубашка навыпуск, обтрепанные джинсы, кожаные плетеные сандалии на босу ногу… Я сказал себе: надо же, Жеро строит из себя непонятого художника. У него еще были крупные бусы на шее. Несмотря на то, что его «прикид» мне показался вызывающим, должен признать, выглядел он волне гармонично. Жеро был похож на статиста из киношной массовки.
Метрдотель ресторана, куда мы вошли, попятился при виде Жеро; пока мы искали свободный столик, все взгляды были устремлены на него. Поскольку он принадлежал к породе людей, на которых другие смотрят с жадностью, одновременно враждебно и восхищенно, столь назойливое любопытство как будто совсем ему не досаждало. Мы были странной парой, но я довольно быстро отогнал от себя мысли о том, что о нас могли подумать. Прошлое накатывало на нас волна за волной, и вскоре мы оказались совершенно отгороженными от внешнего мира. Рядом с Жеро я подпадал под действие тех же чар, что и раньше. Однако мужчина, которого я встретил в тот день, едва напоминал собой юношу, которого я знавал в Париже. Я сказал ему, что женился. Я чувствовал в нем перемену, внутренний императив, отличный от всех тех, который я мог ему приписать, когда мы жили в Медоне. Как угадать, какой была его жизнь в эти десять лет? Он сообщил мне, что его мать умерла. «Что будем делать?» – спросил я, когда мы вышли на улицу. Мы всего лишь обменялись несколькими воспоминаниями, словами, из которых мало что можно было узнать. Обычная галерея портретов, вдоль которой прохаживаются два приятеля после долгой разлуки, вспоминая прежних знакомых. Он помнил много подробностей, целую вереницу лиц, но часто забывал имена. Повидал ли он с тех пор много людей? Много стран? И как он очутился здесь, в Ливане? Видно было, что он не при деньгах, хотя как будто чувствовал себя довольно вольготно в этом безденежье – и очень притворно, я понял это по странному облачению. Бедность сделала его обитателем каких-то неведомых краев, я-то не мог представить его вне материальной обеспеченности, из-за которой он в свое время всегда был в центре нашего внимания. Мы собирались попрощаться, прекрасно понимая, что нам вряд ли еще раз представится случай увидеться. Если бы мы расстались, пожав друг другу руки, значит, оказались бы не на высоте этих уникальных обстоятельств. В воспоминаниях все было живо, и образ разграбленного дома, с тех пор попавшего под нож бульдозера, полностью стертого с изменившегося до неузнаваемости клочка земли, навсегда запечатлелся в памяти. Неужели и он тоже сотрется, и мы станем чужими друг другу? Жеро колебался. Если станет ясно, что нам больше нечего сказать, мы одним ударом завершим дело разрушения, и причудливый ночной дворец рухнет, скрыв под своими обломками глубокие пещеры, где некогда разносилось эхо музыкальных инструментов и нашего гомона, возмущавшего соседей.
Я предложил ему выпить по стаканчику у меня дома. Я ждал от него всего, что угодно, кроме рассказа о том, что вызвало в нем столь зримую перемену. Однако я это услышал. Сначала Жеро, с подчеркнутой отрешенностью, говорил со мной о Европе и о Франции в частности, словно уже ничего от нее не ждал. Это разочарование, уже ощутимое у многих молодых людей в Вашей стране, с тех пор вскормило собой целое поколение. Оставался Восток. Оставалась Азия. Откуда у него взялся этот энтузиазм? Я, многие годы живший на краю этого бурлящего котла, грозящего выплеснуть свое варево, не был настолько убежден, что именно отсюда прольется свет. Уйма конфликтов в перспективе… Но речь шла не об этом. Я с удивлением узнал, что он собирался примкнуть в Иране к экспедиции, производившей раскопки гробниц Ахеменидов, но главной его целью было пойти дальше и присоединиться – одному богу известно, каким образом! – к советской экспедиции, работавшей в Нисе, но не остановиться и на этом, а уйти за Амударью, в древнюю Согдиану.
Разговор принял странный оборот. К несчастью, память не позволяет мне воспроизвести его Вам в подробностях. С другой стороны, являясь полнейшим профаном в вопросах археологии, я был слегка ошарашен. Подобная установка, которой ничто не предвещало, выдавала полувменяемого человека, бросающегося, как мне показалось, из стороны в сторону, вместо того чтобы наметить себе программу действий и постараться ее придерживаться. Он сыпал сведениями, а я молчал, не имея возможности возразить. О чем он только не говорил: о шумерских и хеттских текстах, о новых методах обнаружения древних поселений и датирования объектов, о парфянской глиптике,[19]19
Глиптика – искусство рельефных изображений на драгоценных камнях.
[Закрыть] о греческом происхождении кушанского[20]20
Кушанское царство, произошедшее из древнего княжества в Бактрии, в период расцвета включало в себя часть Средней Азии, Афганистан, Пакистан и Северную Индию.
[Закрыть] алфавита и всем таком прочем, пока, наконец, не заметил, что я его не слушаю. Он умолк, допил виски, и я понял, что он сейчас уйдет.
Я был просто оглоушен мешаниной из народов и цивилизаций. Я-то ничего не знал обо всех этих богах – Мардуке, Иштар и иже с ними… Вавилон, Ассирия – все это прекрасно! Но музыка, как же быть с музыкой? Помнил ли он наши вечера, как его онемевшие от холода пальцы оживали, дотронувшись до клавиш рояля? Играл ли он еще Брамса, Форе?.. «Мне опротивело все это изысканное дребезжание!» Я понял, что не только вкусы его переменились, но и музыке он теперь уделяет не слишком много места рядом со своим новым увлечением… за исключением, может быть, той, что пришла издалека… из Бали… или из чащи ведических лесов!
– Почему Азия?
Он пожал плечами, снова поудобнее уселся на диванных подушках. Ответил что-то вроде: «…потому что в Азии ничто никогда не достигает конца».
Это было не ново и неубедительно. Я чуть было не сказал ему, что не он первый отворачивался от Европы, что в каждом поколении… Рембо, Сегален[21]21
Артюр Рембо (1854–1891), французский поэт-новатор, вел бурную, беспокойную жизнь. В 1876 году вступил в голландскую армию и отправился в Индонезию, потом дезертировал из Джакарты. Виктор Сегален (1878–1919), французский писатель, корабельный врач. Совершил многочисленные путешествия в Китай (описал надгробные памятники династии Хань), Маньчжурию, Тихоокеанский регион.
[Закрыть] и т. д… Но он-то что ожидал найти посреди этих развалин, на берегах Ахерона,[22]22
Ахерон – в греческой мифологии болотистая, медленно текущая река в подземном царстве, через которую души умерших переправлялись в челне Харона.
[Закрыть] где время оседает мельчайшими частицами, смутными наносами? Надеялся ли он успешно работать на благо другим и самому себе? Отринуть якобы агонизирующую цивилизацию, чтобы замкнуться в прошлом посреди столь же мертвых цивилизаций, казалось мне бегством, регрессом для человека, не являвшегося ученым, палеографом. Охота на тигров или слонов, на мой взгляд, была бы в его случае не столь пустой тратой времени, чем эта новая прихоть. Я, должно быть, высказал ему свою точку зрения без околичностей, с той же откровенностью, с какой раньше подчеркивал наши расхождения. Он вошел в раж.
– Тебе не понять, ты же не знаешь… Плевал я на все это, но как захватывает… пыль с мошкой набивается в рот, того и гляди, укусит скорпион, воды нет… можно прогуляться на четыре-пять тысячелетий назад… это возвращает вкус к жизни!
Пускай я был для него в тот момент лишь ничтожным мещанином, мужем и отцом двоих детей… я понимал: чтобы потерять вкус к жизни, он должен был пройти через определенные разочарования. Куда девался наш ас из асов, наш юный виргинийский бог, не проходивший мимо ни одного соблазна?
– Я столько всего перепробовал… Париж, Лондон, Нью-Йорк, Гонолулу – везде одно и то же. Ничего не выцедишь. А эти религии, в которые никто больше не верит и которые перерождаются в митинги, раздачу бесплатного супа, в учреждения для малолетних преступников… Поневоле начинаешь смотреть в другую сторону. Там полно сект, молелен, в которые входишь на цыпочках и где учат предаваться самосозерцанию… посвященные всех рангов, учителя и ученики. Странные ребята. Чокнутые, шарлатаны, помешанные из лучшего мира, принимающие себя за воплощение Марии-Магдалины, Алиенор Аквитанской или Марии-Антуанетты. Пастыри без стада. Стадо без пастыря. И в этой куче несколько чистых душ, несколько подлинных провидцев… Я тоже искал, я изо всех сил хотел освободиться.
Боже мой, от чего? Я еще никогда не встречал человека, менее стесненного, менее скованного в проявлении своих инстинктов и рефлексов, менее подчиненного образу мыслей или идеологии. Что ж, послушаем – узнаем, я ведь здесь именно для этого: чтобы впитывать его слова, по которым выходило, что фаза ученичества еще далеко не завершена, и очень может быть, что она, увы, так никогда и не завершится. На сей раз мы вновь оказались в одной среде, увлекаемые пространными общими рассуждениями, что еще никому не причинило вреда.
По словам Жеро, его «освобождение» состоялось не столько поэтапно, сколько через ряд последовательных отторжений: Америки, Европы, кучи старых шаблонов в области религии и морали, а главное – после кончины его матери, исчезновения семьи, денег, которые эта семья перестала ему поставлять. Нет больше долларов, нет больше дотаций! Теперь только собственные ноги могли носить его по свету! «Чудесно! Разве не чудесно?.. Тебе не понять. Иначе ты не занимался бы своим ремеслом!»
Нет, мне было не понять. Я не мог приветствовать как освобождение подобное восхождение в пустоту – я, крепко пустивший корни в земле предков, которую он якобы «махнул не глядя» на пустыни, саркофаги, папирусы, хранящиеся в сосудах. Я, в чьих ушах всегда звучал шум горного потока возле нашего дома в Беарне. Я был поражен. Если так пойдет дальше, он, чего доброго, примется прясть шерсть, пасти овец, делать надрезы на щеках, – подвергать себя варварским обрядам инициации…
– И это еще не все… Представь себе – это я говорю в доказательство того, что действительно все испытал, – я чуть было не сделался монахом!
– В Тибете?
– Да нет же, в вашем монастыре… сыром и грязном, хотя они и устроили там душ. Вот до чего дошли: гигиена!
Жеро с бритой головой, Жеро в рясе, запертый в келье!.. Он не давал мне передохнуть. Но я все еще отказывался верить. С американцем, которого занесло во Францию, может случиться все, что угодно, но чтобы постричься в бенедиктинцы – такого еще не видали. Я вспомнил, как он читал вслух «Нарцисса» Кокто посреди поклонниц, сидевших вкруг него на паркете. Разве такое забудешь?
– Тебе бы подошел тавроболий,[23]23
Обряд, присутствующий в культе Кибелы, а затем распространившийся в Римской империи: быка приносили в искупительную жертву на помосте над ямой, и его кровь лилась на жреца или верующего, проходившего таким образом обряд посвящения.
[Закрыть] – сказал я, – мистическая религия.
– Ничего мистического не осталось.
– Знаю… сейчас ты скажешь, что Бог умер.
– Не везде… у вас, у нас – несомненно. Попробуй, поговори с ними о чуде… Встань и иди! Кто еще в это верит?.. Боги живут очень далеко от людей… в прошлом… вот в прошлое за ними и надо отправляться.
Так ли? Жеро казался уверенным в себе. Он возвращался к этим богам, убежденный в том, что они не могут умереть, все сразу; что в них будущее остается чисто от всего, что выдумывают люди. Напрасно я рылся в памяти: никогда мы не говорили о религии. Все обряды, связанные с культом, оставляли его равнодушным, даже заставляли занять оборонительную позицию, и я был недалек от мысли, что из протестантской школы он вынес некое предубеждение против ритуалов и папизма. Вернее, против всех ритуалов, к какой бы религии они ни относились, его раздражало то, что он считал непонятными тотемическими пережитками. Мне на память пришел показательный случай: как-то раз Жеро пригласили присутствовать при обрезании, и он вернулся в ярости, возмущенный до глубины души, описав мне в самых мрачных красках эту «отвратительную ампутацию».
Какое внутреннее потрясение могло до такой степени преобразить его глубинные или поверхностные реакции по отношению к ритуальным обычаям?
– Но ты даже не крещен, – напомнил я. – Ты столько этим хвастался. «Я не член вашего клуба», – говорил ты мне, когда я шел в церковь.
– Вот именно, у меня создалось впечатление, будто от меня утаили нечто, что стоило испытать, попробовать… Надо было посмотреть… могут ли эти люди мне что-нибудь дать.
– Так ты обратился?
– Нет, но когда ты пришел, откуда я пришел, когда ты прошел через то, через что прошел я, это крайняя степень вызова. Я чувствовал неизбывную тревогу. Мне было нужно, обязательно нужно, если я хотел идти дальше по намеченному мною пути, испытать это, чтобы как следует убедиться, что и здесь для меня ничего нет.
– Ты хотел поссориться с богом, с единым Богом, чтобы подружиться с остальными.
– …только понять, понять, почему эта огромная система больше не образует христианский мир, почему святилище пусто, алтарь осквернен иконоборцами.
– И ты понял?
– Ты представить себе не можешь, насколько они мне в этом помогли.
И Жеро рассказал мне о своем приключении: необходимом, неизбежном «мистическом кризисе». Произошел он до или после его «освобождения»? Думаю, являлся его частью. Вспоминая об этом сейчас, когда я силюсь понять, что же произошло на самом деле, я говорю себе, что все могло бы повернуться иначе; что один-единственный добрый кюре, еще находящий время почитать молитвенник и не сдавший в архив святого Иосифа и святую Филомену, помог бы ему выбраться. С кем он имел дело? Наверняка с одним из модных священников, вхожих в интеллигентскую среду – кивок университету, кивок профсоюзам, – который тотчас прикинул, какой куш он сорвет, каким громким выйдет обращение. Но, возможно, я ошибаюсь. Я сужу со стороны, располагая только одной версией событий – в изложении Жеро. Как бы там ни было, вот он в суперсовременном монастыре, несмотря на его обветшалые стены; послушники в джинсах и водолазках больше заняты Фрейдом и Арто, чем Тертуллианом или святым Бонавентурой.[24]24
Антонен Арто (1896–1948), французский писатель и актер, опиоман, пытался утвердить на сцене «театр жестокости», с 1937 года содержался в психлечебницах. Тертуллиан (155–220), Отец Церкви, апологет христианства, первый латинский писатель христианской направленности. Джиованни Бонавентура (1217–1274), итальянский теолог, вдохновившийся идеями Блаженного Августина, глава ордена францисканцев.
[Закрыть] Весь авангард того времени имел в кельях своих приверженцев, противников, толкователей. Когда утихали дискуссии вокруг Ле-Корбюзье, они разгорались вокруг Жермены Ришье, Мессиана или Вареза.[25]25
Шарль Эдуар Ле-Корбюзье (1887–1965), французский архитектор швейцарского происхождения, предложил концепцию упрощения и функциональности архитектурных форм. Жермена Ришье (1904–1959), французский скульптор, часто прибегала к симбиозу форм человека, растений и животных (серия «Люди-птицы»). Оливье Мессиан (1908–1992), французский композитор и органист. Вдохновлялся грегорианскими песнопениями, пением птиц и восточными ритмами для создания глубоко религиозных произведений (опера «Святой Франциск Ассизский», 1983). Эдгар Варез (1885–1965), французский композитор, в 1926 г. принял американское гражданство. Сделал шум неотъемлемой частью музыкальной формы, предтеча электронной музыки. Во Франции его творчество получило известность лишь в 50-е годы.
[Закрыть] Жеро-то думал, что удалился в ашрам, а товарищи оглушали его блестящими суждениями на всевозможные темы. И что за критики! Какие прекрасные образчики знания и интеллекта! Их главной заботой, похоже, было прорубать окна в монастырской стене, которая, вместо того, чтобы ограждать их от внешнего мира, напротив, распаляла их любознательность и как будто обостряла восприятие. Не за этим пришел сюда Жеро. Другие наблюдения привлекли его внимание. Все сверхъестественное, прежние христианские чудеса, древний символизм как будто нашли себе прибежище в поэзии, секреты которой некоторые из этих юношей тайно лелеяли, дыша ее будоражащими флюидами. Те, кто с наибольшим презрением отвергали чертовщину кюре из Арса,[26]26
Кюре из Арса – святой Жан-Мари Вианнэ (1786–1859). Всю жизнь был сельским священником, преобразив свой приход проповедями, благотворительностью и строгой жизнью. Еще при жизни аббата Арс превратился в место паломничества, где происходили многочисленные обращения и исцеления. В 1925 г. был канонизирован и провозглашен покровителем приходских священников.
[Закрыть] впадали в транс перед ниспровергателями божественного, беспрестанно приносившими веру в жертву своим видениям, снам, алхимии, непреходящему величию слова. Таинство отныне совершалось в чистоте богохульства. Зарождалась ли новая религия? Родилась ли она уже?
В общем, мир, который открылся Жеро, был зеркальным отражением того мира, который он покинул: такой вывод можно сделать из его рассказа. Однако я не прибавляю и не убавляю ему цены. Монастырский устав часто допускает развлечения, но Жеро, явившись туда в качестве новообращенного, желал прежде всего отстраниться от внешнего мира, удивлялся тому, что он до сих пор привлекает этих молодых людей, многие из которых только и мечтали, как бы «удрать в самоволку» в город, чтобы посмотреть последний фильм Карне, последнюю пьесу Одиберти или Кроммелинка.[27]27
Марсель Карне (1906), французский режиссер-реалист, ставил фильмы в основном по сценариям Жака П р е в е р а («Дети райка», 1945). Жак Одиберти (1899–1965), французский поэт, романист, драматург в стиле «барокко».-Фернан Кроммелинк (1886–1970), в основном известен своей пьесой «Великолепный рогоносец» (1921).
[Закрыть] Его поместили на этаже для временных обитателей, но он жил тогда там один. Несмотря ни на что, душу его не покидало сомнение: не обманывался ли он, судя лишь по внешности? Он был готов допустить, что многие среди послушников, даже те, кто менее всего противились искушениям духа и некоторым эмоциональным миражам, заставлявшим их оступаться, оставались в душе искренними и безупречными. В общем, он ждал знамения: знака, который дарует ему просвещение, но сам не мог бы сказать, ожидал ли он этот знак от случая или провидения.
Однажды ночью, когда монахи вышли из часовни и разошлись по кельям, он остался сидеть в самой глубине нефа. Одна-единственная лампада горела над дарохранительницей. Жеро поддался очарованию этого неяркого свечения; красная точка фитиля как будто указывала вход в лабиринт. Хотя он знал, что часовня по ночам остается открытой, чтобы братья или послушники могли в любой момент прийти туда помолиться, ему вдруг пришло в голову, что его тут заперли. Тогда он пошел на ощупь, ориентируясь по одинокому огоньку. Справа от алтаря находилась дверь, через которую вышли монахи. Он уже шел по ковру, покрывавшему плиты рядом со святилищем. Значит, ему надо было держаться правее, но едва он шагнул в сторону, как раздался страшный грохот, гулким эхом отразившийся под сводами. Жеро задел ногой сосуд с кропильной водой, оставшийся у входа на хоры, и все содержимое разлилось по полу.
Как рассказывал об этом сам Жеро, он испытал странное потрясение. Он почувствовал, будто его резко отвергают, гонят из храма. Через несколько минут он покинул монастырь.
Так закончилась эта попытка: нелепым происшествием, от которого у него даже впоследствии сохранялось впечатление профанации. В ту самую ночь, в ту самую минуту, между ним и неведомым Богом, отказавшимся явить ему свое истинное лицо, были сожжены мосты. Отныне он увидит божественный лик лишь за человеческими лицами, в глубине пропастей или в сокровенности нерукотворной природы.
* * *
Второй ответ – вернее, выборка из писем одного корреспондента, в которой я собрал все самое основное, – представляющий больший интерес в личностном аспекте, еще более систематично выдержан в разрушительном ключе. Ничего кроме отрицательного утверждения, но подкрепленного многочисленными доказательствами.
Можно лишь удивляться тому, что этот свидетель потратил столько времени на подведение итогов одной жизни и столь тщательно выстроил свой диагноз, если крах Жеро был для него совершенно очевиден. Наверное, его это забавляло. Я не могу найти другого объяснения тому ликованию, что обуревает автора при упоминании о герое его повествования и не покидает на всем протяжении этого медицинского заключения, переходящего в обвинительную речь.
Разумеется, он в первую очередь стремится защитить мэтра от обвинения, которое, если дать ему ход, могло бы лишь очернить его память. Разве не лучше вписать в карту Жеро все характерные признаки, которые не мог не выявить специалист по недугам личности. Но бравый швейцарский доктор не ограничивается вердиктом своему подопечному, вынесенным с высоты непоколебимой уверенности, одного больного ему недостаточно: он и мне предлагает свои услуги, предоставляя в мое распоряжение все свои познания в неврологии, тем более что теперь, выйдя на пенсию, он смог бы посвятить сколь угодно времени моему исцелению. Разве те вопросы, которыми я задаюсь по поводу Жеро, могли родиться в голове, способной к уравновешенному и разумному суждению? В моем упорстве он видит патологические признаки. На протяжении своего длинного и пространного анализа он по пунктам рассматривает мою встречу с Жеро, о которой я сам ему рассказал. Это избавляет меня от необходимости упоминать о ней впоследствии.
Для него все уже заранее решено. Только одно в конечном счете зацепило, заинтересовало его: мой случай, мое странное помешательство. Снова взяться за все это дело может только человек, страдающий каким-нибудь неврозом, – психопат.
* * *
«Главное – это иметь плохую репутацию!.. Видите ли, мне всегда казалось, что если бы он собрал воедино все события своей жизни в речь в защиту человека, которая обернулась бы «Трактатом о тщете меня самого», первая ее фраза была бы именно такой. Чтобы не бояться людских суждений, он взял себе за правило их опережать. В этом было простодушие, вызов. Однако мы прекрасно понимаем, в чем тут дело. Мир слишком скуп, даже на презрение. А ему, в общем, так ни разу и не удалось надолго приковать все взгляды к своим кривляниям в центре арены. Все свелось лишь к невероятному транжирству, к трагическому саморазрушению.
Каков его случай?.. Я сразу выскажу Вам свое мнение, даже если оно Вас шокирует. Случай совершенно банальный. Возбуждение. Бред, принявший довольно распространенную форму отождествления. Он преклонялся перед Андреасом Итало Атарассо, стало быть, Андреас Итало – это он. Нет ничего проще.
Кое-кто – и Вы в том числе – дрогнули и серьезно задумались, тщательно изучая, разбирая одно за другим утверждения, которые он позволял себе выставлять. Это лишь доказывает… Нет, не стану говорить, что это доказывает. Люди сами хотят, чтобы их кормили небылицами, а эта была в три обхвата. Отчего же они не видят того, с чем мы, врачи, сталкиваемся каждый день! Отчего же у них, как у нас, не вянут уши от несуразных требований наших пациентов, от их раскаяний, их сарказмов! Отчего же нет у них перед глазами маленьких кабалистических штучек, загоняющих случай в клетку из их ребусов и фантастических измышлений! Нужно уметь не поддаваться их навязчивым идеям, научиться слушать их невозмутимо. Помню, как старик Блондель получил от одного больного пощечину, свернувшую ему челюсть, и продолжал беседу как ни в чем не бывало. Нас тогда охватил трепет уважения и восторга. Однако это обычная работа. Как еще мог повести себя психиатр? На самом деле ничего такого не произошло. В этом и есть разница между неврозом и гениальностью, между криком из-под смирительной рубашки и пророчеством пифии.
Но вернемся к Вашему другу. Он никогда не бил по щекам врачей, но раздавал оплеухи здравому смыслу, самой истине. Я не отказываю ему в чрезмерной одаренности, фантазии – увы, больше в сторону преувеличения, чем преуменьшения. Это дорожка к неустойчивому поведению. Будь у него чуть меньше способностей, ему было бы проще определиться.
Как-то раз он с лету – здесь это слово подходит как нельзя кстати – вызвался заменить собой молодого танцовщика труппы Монте-Карло, который накануне бросился вниз головой с Трофея Августа![28]28
Памятник, сооруженный в VI в. до н. э. в честь покорения Римом альпийских племен, недалеко от Монако.
[Закрыть] До того момента никто не подозревал у него таких способностей. И вот чудесный притворщик вдруг воспарил в лучах прожекторов посреди эльфов, пери, ундин, – принц, похитивший свою фею, возничий солнечной колесницы, заводная кукла или марионетка, пернатый змей, с невероятной точностью движений перемещавшийся по сцене, – потом вдруг, в священном опьянении, будто в него вселились боги, пронесся вдохновенно, как сомнамбула, по великой Вальпургиевой ночи. Я видел его, я был там, так что могу об этом говорить в полной уверенности, что мне не приснилась эта метаморфоза, я даже сам вызывал его на «бис». Удивить-то он удивил. В тот раз он добился большого успеха, удивив всю элиту Монако, и завсегдатаи салонов Парижского отеля судачили о нем еще целый день. Его фантазия уходила корнями в строжайшую дисциплину, недоступную профану. Но свет не любит быть ошарашенным: неожиданность срывает маску и озадачивает. Нужно было подыскать объяснение случившемуся. Не желая допустить, что подобное знание поз и фигур может прийти по внезапному наитию, предпочтение отдали той гипотезе, что он солгал о своем прошлом и что столь выдающиеся способности – результат обучения, о котором никто до сих пор и не подозревал. Нашлись люди, утверждавшие, будто видели его в «Нью-Йорк Сити Балет» и что он сохранил привычку каждое утро упражняться у балетного станка, как другие регулярно занимаются верховой ездой или фехтованием. Милый и чудный мальчик, по нему сходили с ума! Хорош собой, и такой оригинал! Несущийся, словно метеорит, о котором никто не знает, ни откуда он взялся, ни где упадет. Однако в плане личных возможностей у него возникли кое-какие сложности, не чуждые минутному успеху у снобов. Хотя поступление в театр как раз и могло бы открыть перед ним другие перспективы, отвечая самым насущным нуждам, позволило бы списать кое-какие долги. Ему бы уже не пришлось сворачиваться из кулька в рогожку, впервые в жизни он стал бы зарабатывать своим трудом, и ему не потребовалось бы в будущем, чтобы затыкать хронические дыры, напрашиваться в гости на яхты, вечно стоящие у причала, так как их владельцы страдают морской болезнью, или – другая форма долговой тюрьмы – к старым клячам, увешанным бриллиантами, которые, впрочем, требовали от него лишь сопроводить их в казино до дверей частных апартаментов.
К несчастью, успех начинал быть ему в тягость, натравливая на него импрессарио и репортеров, – последние уже, не стесняясь, делали деньги на его славе, ставя его в своих газетенках в один ряд с особами королевской крови. Он предпочел разбить кубок (успеха) о скалы и скрыться за занавесом, будто ураганные овации выходящей на поклон труппе грозили развеять то, чем он всегда был в собственных глазах: прах и пыль! На сей раз все взволновались не на шутку. О нем заговорили на мраморных ступенях, где собираются под конец сезонных миграций те же звезды или их копии, те же миллиардеры, те же развенчанные короли, те же мальтийские рыцари, те же игроки в погоне за беспроигрышным номером – и все они ищут точку опоры, то обращая свои взоры на какого-нибудь римского князя, перешедшего в смиренное услужение папе, то на какую-нибудь забытую таинственную особу, безвыездно сидящую дни напролет за спущенными шторами. Представляю себе, как объективы телекамер нацелились на верхнюю площадку Трофея Августа в ожидании еще более сенсационного события, нежели дебют Вашего друга. В самом деле, почему бы ему не повторить поступок юноши, место которого он занял, и, повинуясь Бог весть какой зловещей потребности, отождествить себя с ним окончательно и тоже броситься вниз? Но все обернулось иначе. Его «Мазерати» (которую он брал на день напрокат) нашли у рощицы рододендронов перед отелем. Это был наихудший финал для человека, которому удалось заставить воспринимать себя всерьез. Хотя все-таки скандал – лучший способ прикрыть свое бегство. Короче, он надо всеми посмеялся и даже нарушил свой контракт. Но где его теперь найдешь?
А он, надев свои знаменитые сандалии с голенищами (сделанные по образцу, который он якобы срисовал со старинного саркофага), закинув за плечи походную сумку с альбомом для рисования, брахманскими четками, томиком «Книги Мертвых», камешком, подобранным в Дельфах на площадке оракулов, наверное, добрел до границы княжества, а там напросился в попутчики к какому-нибудь толстому бельгийцу на мощной американской машине. Так или иначе – не исключено, что его увезла по горному серпантину нимфетка в кабриолете, а может быть, он ушел пешком, – Жеро сделал красивый жест, перечислив на счет сооружения надгробного памятника юному самоубийце все деньги, заработанные во время выступлений. Пускай он всегда вел себя легкомысленно в том, что касалось средств к существованию, нельзя не признать за ним этой деликатности или метафизической щепетильности: никогда не становиться должником потустороннего мира!
То был лишь один момент – важно это подчеркнуть, – лишь один эпизод в цепи его превращений. Он сумел бы еще и не такое. Целенаправленное желание являть себя только в различных фантастических образах, тогда как суть его оставалась бы неуправляемой и предположительной.
Все это, как видите, никакая не загадка, однако проливает свет на другие события и позволяет продвинуться к уже практически состоявшемуся выводу. И все же немало людей «купилось» – правда, они не колеблясь узнали бы в оперной ложе в Вене или Байреуте профиль графа Сен-Жермена или Калиостро, если бы только кто-нибудь из их круга намекнул на их присутствие, попросив хранить все в строжайшем секрете. Люди уже не стыдятся быть простаками. А он это знал лучше чем кто-либо, ведь его, даже если он появлялся в Венеции или на модном курорте в Швейцарии, Тунисе или Португалии, в ресторане «Максим» или в литературном кружке, на аукционе «Сотбис» или на парижском вернисаже, всегда встречали так, будто он прибыл из буддистского монастыря, прожил полгода, умерщвляя свою плоть и занимаясь медитацией наедине со своим гуру, или даже среди знахарей в андской деревушке.
Очень удобно предоставить другим сочинять легенду о себе самом. Но позвольте мне противопоставить разумный скептицизм всем этим затеям, в результате которых он оказался в замкнутом круге из миражей и притворства. Фигляр, а не ходячая загадка. Мистификатор, а не посланник, призванный соединить оккультные секты, еще уцелевшие по всему свету, несмотря на капитализм, голод, китайскую революцию и покорение космоса. Если б он еще поддерживал себя на уровне, колеся по Европе и Азии, дабы отыскать родственные души, набрести на путь теософии, озарения. Он же только вид такой на себя напускал, и его первого все это утомляло. В доказательство своих слов сошлюсь на ту легкость, с которой он, делая ставку на доверчивость своей публики, простодушие и легковерие этой породы праздношатающихся, переходил от назиданий к чистой воды розыгрышам.
Так, во время бракосочетания принца Алексиса с его манекенщицей, Жеро вдруг встал со своего места, поднялся по винтовой лестнице на амвон, прошел по галерее мимо хоров к кафедре, отпихнул штатного соборного органиста, занял его место под зачарованными взглядами певчих и заиграл «Токкату» Баха. Сам дьявол не вел бы себя столь привольно за органом, окутанный клубами серы. Грохот был такой, что птицы, укрывшиеся под сводами, заметались по церкви, вспугнутые грозой, не в силах выбраться на волю. Поскольку принц Алексис не позволил своим телохранителям броситься к кафедре, все решили, что это он придумал сие сенсационное действо для придания ритуалу пущей торжественности и необычности. Порядок и церемониал выхода был нарушен. Вместо того чтобы щелкать коронованных особ, парами спускавшихся по крыльцу, все папарацци повернулись спиной к Оранским, Гримальди, Баттенбергам и ринулись к кафедре с камерами наперевес, словно американские десантники, мчащиеся через рисовые поля, потрясая над головой ружьями и огнеметами. Жеро уже и след простыл. Но то, что под свадьбу отвели три страницы в журнале «Лайф» и по шесть в «Пари-Матч» и «Оджи», – полностью его-заслуга.