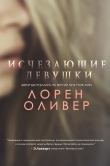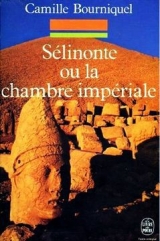
Текст книги "Селинунт, или Покои императора"
Автор книги: Камилл Бурникель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
«Ты пепел, и я сгорю на этом костре…»
Я выхватываю эту фразу в начале любопытного отрывка о Матерях (космических, естественно!) – одного из тех, которым комментаторы обычно уделяют много внимания. Сандра, cendre (пепел)! Быть не может, чтобы такая игра слов родилась случайно! Пепел – именно это имя ты ей дал, и может быть, в первый же раз, когда держал ее в объятиях. Потому что пепел легкий, теплый и мягкий на ощупь, его уносит ветер, кружащий утром голубей вокруг колокольни, и потому что тебе оставался только неуловимый и истерзанный аромат, похожий на запах огня, тлевшего всю ночь на ложе из диких фиалок, а теперь окончательно угасшего под осенней изморосью.
Пускай с этими словами ты обращаешься к Земле, первичной материи (помнишь, у Лотреамона: «Приветствую тебя, о Старый Океан!»?), разве можно не заметить вещего знака за легким изменением звучания? Впрочем, все женские образы, встреченные на протяжении твоего внутреннего путешествия, по сути – одна и та же фигура, вещая и загадочная.
Я вижу ту же перемену в твоем отношении к этой личности, стремление увидеть в ней иные черты, нежели те, какими наделяли ее твой гнев и твоя досада в послеоперационный период возбуждения и бреда. За образом девушки, посмеявшейся над тобой, вставал другой: образ закутанной в покрывало женщины, подносящей к лицу светильник, зажатый в ладонях. Спутал ли ты ее с прозрачной фигурой вестницы, выступающей из темноты, на полотне какого-нибудь художника, мастера света, или с изображением из Виллы Таинств?[75]75
Вилла на склоне холма к северо-западу от Помпей. Усадьба патриция. Известна своей архитектурой и внутренним убранством, особенно настенными росписями в большом зале, изображающими, предположительно, дионисийские "обряды, фигуры людей и божеств в натуральную величину.
[Закрыть]
Внешний облик менялся, открывая наряду с «хищницей» посредницу, рядом с Цирцеей, усыпившей твои защитные инстинкты, Сивиллу, «но более далекую», как ты говорил, «киммерийку, о какой обычно не помнят художники». Почти на каждой странице описания твоего сказочного зверинца, твоей прогулки по стране сновидений, встречается эта мифологическая терминология, чередование двух ликов, один из которых возбуждает твой гнев, а другой странно символичен. Как в текстах пророчеств, в которых тебе нравится смешивать знаки и символы, Сандра становилась «хозяйкой замка», «проводницей», таинственной «трактирщицей Сидури», той, что говорит герою Гильгамешу:[76]76
Гильгамеш, шумерский герой, царь Урука, один из главных персонажей ассиро-вавилонской мифологии. Богиня Иштар провозгласила его героем, но он отверг ее благосклонность, за что она ему отомстила, убив его друга.
[Закрыть] «Куда ты спешишь, Гильгамеш? Ты не найдешь жизни, за которой гонишься. Когда боги создали человечество, они даровали тебе смерть. Жизнь же оставили себе».
Под нагромождением былинных сюжетов постоянно проступает пережитая тобой история. Так, говоря о киммерийцах, «жителях Вечной Ночи», ты внезапно задаешь себе вопрос: «Не из их ли я племени?»
Несомненно, эта причудливая экспедиция вызвана некой тревогой, высвобожденной при необычных обстоятельствах вашей встречи через механизм говорения и видения. Передавая тебе эти записки, Сандра выбила тебя из наезженной колеи. Начав неожиданно видеть глазами другого, ты стал видеть то, чего тебе не было дано увидеть, слышать то, чего тебе не было дано услышать. Можно ли назвать это откровением? Голос, доносившийся к тебе с самого горизонта, был твоим голосом, таким, каким ты всегда его предчувствовал, на который безнадежно уповал. Более того, тебе были дарованы слова: те самые, которые всегда ускользали от тебя. Откровение?.. Гораздо больше: слово!
Да, я могу представить твое замешательство, когда ты увидел все это напечатанным и вспомнил те недели, когда, не утруждая себя сверх меры, ты был орудием медленного словесного богоявления, схватывал картины, а не выдумывал их, словно внезапное изменение освещения вдруг позволило тебе разглядеть пейзаж за запотевшим стеклом.
Хотя ты был разгневан на ту, которая сыграла с тобой такую шутку, ты не мог отрицать: благодаря ей ты познал радость, чистую, без примесей, – радость видеть, как на твоих глазах рождается из пены новая земля, под солнцем, которого не затмевал рой слов, в тишине, не оглушенной его гудением. Ни одно твое открытие не было более чудесным, более освобождающим. Возможно, следовало вспомнить детство – таким, каким оно снится поэтам – чтобы вновь обрести то чувство непосредственного, почти дикого слияния с реальностью, выраженной одним только желанием погрузиться в нее с головой и затеряться в ней.
Раз уж тебе подвернулся такой предлог, тебе не приходилось краснеть за свою дерзость. Твоя подпись не требовалась. Не становился ты и участником системы, в которой произведение искусства превращается в товар для общества потребления. Ты избегал этой симонии, этого ажиотажа, этого торгашества.
Таково могло быть истинное объяснение подобных перемен, не только в «Описании земной империи» (то есть твоем), но и в «Незапамятном» – второй части цикла подведения итогов, которая стала его завершением, осуществлением, когда ты понял, что твоя кампания ничего не дала, что никто не поддался и не принял тебя всерьез, и если ты хочешь разрушить чары, тебе нужно снова взяться за перо, дописать конец и опубликовать его под собственным именем – ты думал, что это единственный способ добиться торжества правды.
Будучи привилегированным читателем, я, наверное, один трактую эти две книги таким образом. Хотя, возможно, совсем не обязательно знать подобные тонкости, чтобы произведение получило смысл, – не зависящий от Атарассо, который его не писал, и от тебя, который позволил его у себя отнять. То, что оно подвержено стольким различным трактовкам, вызывает столько противоречивых толкований, еще яснее указывает на его принадлежность. Если мне когда-нибудь удастся доказать твои утверждения, я лишь отберу эту книгу у одного из вас, не более того. Небольшая перемена по сравнению с настоящим ее наполнением. Загадка ее рождения, которого в обоих случаях ничто не предвещало, останется загадкой. Из всех заблуждений ума самое тщеславное – считать, будто автор продолжает жить в своем произведении, тогда как единственный шанс на нетленность у самого произведения состоит именно в способности изринуть из себя, отвергнуть автора, очиститься от него, избавиться от примет наследственности и свести практически к нулю последствия чьего-либо существования, о котором в свое время посчитали нужным заявить.
Именно этот пепел будет развеян временем. Уверенность в этом жила в тебе волнующей надеждой, ибо вместо того, чтобы удалять тебя от возможной судьбы, она превращала тебя не в настырное выражение индивидуальности, а в свидетеля никем не признанной истины, которая ослепляла тебя своим светом каждый раз, когда ты оборачивался к прошлому.
«Они разбили мои оковы в покоях императора…» Я нашел эту фразу в «Незапамятном», в отрывке, посвященном смерти Траяна. Большинство критиков продолжают ломать голову над тем, какой в этом кроется смысл, заявляя обычно, что Атарассо изобразил себя в облике старого императора, который во время парфянского похода очутился в тех краях, где сам он проработал всю жизнь. Никто как будто не заметил, что это единственный не сказочный, не вымышленный ориентир в твоем воображаемом путешествии. Вся вторая часть произведения – если рассматривать его как единое целое – строится вокруг этой войны, затеянной с целью обеспечить безопасность караванов, идущих в Азию, и установить власть Рима надо всеми дорогами до самого Персидского Залива. Поскольку Атарассо всегда интересовался поздним периодом месопотамской истории, а в особенности парфянской глиптикой, никого не удивило, что он упомянул о нескольких эпизодах завоевания и отождествил себя с императором.
Действительно, ты бы мог выбрать и какой-нибудь эпизод из «Отступления десяти тысяч» Ксенофонта[77]77
Имеется в виду произведение «Анабасис» греческого историка Ксенофонта, в котором говорится о походе в Персию десяти тысяч греческих наемников и об их возвращении назад к Черному морю.
[Закрыть] или сон Александра, созданный твоим воображением. И здесь твой выбор не случаен. Ты не пытаешься выступить в роли историка, которого не доставало парфянской войне. Да, это была победа, но неоднозначная: хоть она и знаменует собой апогей императорской власти, «победитель сам стал военным трофеем», как говорится в приведенной тобою фразе. Это победа, которая могла бы стать переходным этапом к провалу и отречению. Это печаль при виде триумфа, какая звучит и у Лоуренса Аравийского. Тебя привлек образ не императора, превозносимого молвой, а человека, который, обернувшись к Востоку (я уже приводил этот отрывок в другом месте), мечтает о невозможном завоевании, а затем, сраженный болезнью, умирает на обратном пути, лишенный триумфа, который ждал его в Риме. Селинунт – это слово запечатлелось в твоей памяти, и я прекрасно знаю, чем оно было для тебя. Что касается символичности голой комнаты, где гений старика сложит крылья фортуны у его изголовья, то этот символ так и останется непонятен комментаторам, которые, не зная о твоем существовании, никогда не догадаются, почему Атарассо выделил из череды эпох этого героя, разочарованного своей победой и приемлющего эту пустую форму, для заполнения которой уже недостаточно видимой славы и успеха.
* * *
Провал и оскорбительное, всеобщее недоверие – вот и все, чего Жеро добился на этом поприще. Никто больше не желал ни слышать, ни слушать его. Кто стал бы ему доверять? Его взбалмошные заявления могли родиться только в поврежденном уме: лучше никак на них не реагировать. Его открытое письмо осталось при нем. Ему не удалось ни всколыхнуть общественность, ни избежать ярлыка сумасшедшего. Хотя скандал не разгорелся, неудачное предприятие чуть не навлекло на него неприятности с иммиграционными службами и полицией. Негласные защитники Атарассо поостереглись затеять против него процесс о клевете, который подлил бы масла в огонь. Они использовали другие способы, чтобы заткнуть ему рот, и, не пуская в ход тяжелую артиллерию, все-таки сумели его затравить.
По крайней мере, так утверждал он сам; возможно, он сгущал краски и думал, что его преследуют. Но так оно и было. Сложности с полицией, которые, как он говорил, у него тогда возникли, могли вызвать специально, чтобы запугать его. Его настоящее гражданство оставалось щекотливым вопросом. Монегаск? Разве можно серьезно относиться к такому измышлению? Его служба в армии могла лишь упорядочить его положение по отношению к Америке. Быть человеком ниоткуда, отвергать всякое гражданство было частью его игры, его актерства. Я подозреваю, что, поскольку он никогда не заботился о формальностях и, после стольких странствий, не сохранил ни одного документа, подтверждающего его службу в армии, ему, чтобы дать требуемые объяснения (возможно, только в отношении его жития и членства в политических партиях в последние годы перед возвращением в США), пришлось подчиниться унизительной необходимости предоставлять доказательства своей гражданской доблести, свой послужной список, а может быть, чтобы отвести от себя угрозу выдворения из страны (хотя, я думаю, до этого не дошло), даже обратиться к Гасту – влиятельному лицу, хорошо известному в Нэшвилле (Теннеси), и к тому же брату его матери.
Во всяком случае, все эти различные происшествия показывают, насколько непрочно было его положение, которое могло лишь подорвать доверие к его словам, а не подкрепить их.
В таких условиях Гринвич-Вилладж, конечно, не был для него надежным убежищем. Слишком многие там были не в ладах с обществом, кое-кто состоял на учете в полиции, так как проходил по делам о наркотиках или о проституции. Если бы полиция задумала его повязать, предлог нашелся бы легко. Этим ли опасениям он уступил, покинув Нью-Йорк, или просто атмосфера вокруг него была слишком шумной, слишком искусственной и, в конечном счете, мало соответствовала его намерениям?
Он провел какое-то время в окрестностях Ньюпорта, но так и не сумел расслабиться и обрести спокойствие. Существование этой книги – теперь уже недосягаемой, продолжавшей двигаться по своей орбите и передавать сигналы, улавливаемые всеми локаторами, но уже не выполняя ничьих команд и отказываясь входить в нижние слои атмосферы, – автономное существование этой книги не выходило у него из головы. Возвращение ее будет трудным, битва – гигантской, и это стало для Жеро наваждением, навязчивой идеей. Тем более что первые результаты маневра оказались жалкими, угнетающими. Его внутреннее равновесие было нарушено настолько, что он возомнил, будто за ним неусыпно следят, или даже хотят его ликвидировать. Но это было лишь следствием ситуации, лишившей его права свободно распоряжаться тем, что он считал частью себя самого.
Потрясение подорвало и физические его силы, благодаря которым он так долго считался чемпионом во всех категориях, не подвластным мелким неприятностям. Я уже намекал на возможные проблемы со здоровьем, которые могли у него возникнуть до отъезда из Европы: разве он вернулся в Америку не в надежде обрести второе дыхание? Теперь он жил, словно в дурном сне: вокруг него не было ничего реального. Возможно, что эта усталость, потребность глотнуть свежего воздуха побудили его избегать Нью-Йорка. Однако доминантой оставалась его решимость продолжать борьбу и уйти из-под надзора, который, по его словам, за ним якобы установили в Ньюпорте.
…Они преследуют меня. Они знают, кто я, и не спускают с меня глаз. Когда я иду в ближайший продмаг, они идут за мной следом; они переходят из отдела в отдел, не теряя меня из виду, подходят к кассе, когда я забираю сдачу. По ночам я слышу их шаги в коридоре… Но им не заставить меня замолчать. Я уничтожу то, что не должно было существовать. Ложь исчезнет… Бесследно…
Поскольку он не считал себя «достаточно в безопасности» на побережье, то уехал в Нантукет и поселился там в бывшем пакгаузе, кое-как переделанном под летний домик. Тебя привлекла туда не красота этого живописного острова, который, из-за его формы, часто сравнивают со свиной отбивной, и не то, что еще напоминало о первом поселении квакеров или старом порте китобоев, а мощный прибой Атлантического океана, разбивающийся о прибрежные скалы, и шум волн по ночам, слышный сквозь тонкие стены.
Мне легко представить, как он гуляет по улицам, вымощенным галькой, покинутым последним туристом, останавливается перед благородными фасадами красивых домов бывших капитанов китобойных судов (так напоминающими своими коринфскими колоннами дом в Нэшвилле), а главное – как идет мимо лодок на причале и снова вдыхает там запах Европы. Весь остров превращался для него в мезонин, в балкон, во «вдовью площадку» на самом верху кровли, откуда встревоженные супруги раньше окидывали взглядом горизонт, высматривая на нем что-то.
…Я словно отделился от земли. Путешествие продолжалось. Я часами бродил по этим пляжам, иногда засыпал, укрывшись от ветра, полузарывшись в песок, и просыпался, только когда уже спускалась ночь – она быстро настает в это время года… Просыпался с потрескавшимися от соли губами, а в ушах шумело так же, как в ракушках, скользивших у меня между пальцев. Бакены, подвижные и неподвижные огни, сияли звездами в бескрайней дали, обрисовывая границы реальности между невидимыми точками – Санкати-Хед, Грейт-Пойнт…
Рыбак, сбившийся с пути перед рифами, не чувствовал бы себя более одиноко, увидев эти огни, танцующие над полосой опасностей…
Одиночество помогало ему обрести себя и определиться. Он не разрешил Вивеке приехать к нему в Ньюпорт, и теперь никто не знал, где он. Никакой другой паствы, кроме этих волн, никаких других следов, кроме тех, что ветер стирал позади него. Он больше не посылал писем в «Нью-Йоркер» или в Европу. Он понимал, что эта история ударила его как обухом по голове, что он вел себя наивно, по-дурацки, и что надо было действовать иначе; но ему еще только предстояло найти себе оружие.
Однажды вечером он достал из сумки книгу и в очередной раз, на свежую голову, принялся внимательно ее перечитывать.
…Это показалось мне чересчур сложным, да что там, вычурным, замысловатым, раздутым, надуманным… неестественным. Чтение давалось мне с трудом. Если бы я написал другие книги, то не эту посоветовал бы прочитать. И откуда сей пророческий тон?.. Все казалось мне гораздо проще. А главное, мне казалось, что человек, который это написал, остановился на полпути… словно его прервали… Я не дошел до конца. В общем, я бросил книгу в огонь и смотрел, как она горит… Так моя мать смотрела из окна на горящую мастерскую, на более тридцати лет живописи, не спускаясь вниз, не пытаясь спасти ни одного рисунка… «Вечно мы берем с собой слишком много вещей»! Она всегда говорила это перед тем, как, поняв, что ей ни в жизнь не упаковать чемоданы, принималась все раздаривать, раздавать, предпочитая, как она говорила себе в оправдание, уехать налегке… Ей это удалось, когда она умерла. От нее не осталось ничего – сын, продолжавший колесить по свету, еще двое, с которыми она поссорилась и которые не потрудились приехать… Ничего, кроме разве взгляда, который Гаст не мог оторвать от поросшего травой холмика на ее могилке…
Какое впечатление осталось у Жеро от перечитанной книги?
…Перегруженный корабль, который тянет ко дну. Нужны опытные подводники, чтобы содрать что-нибудь с его бортов… Пусть других это устраивает или восхищает, дает им смысл жизни… От такой пищи у него тяжесть в желудке. Нужно было все переделать. Но такую книгу нельзя переписать, как нельзя прожить свою жизнь заново. Другую – может быть; можно написать другую книгу.
…Погода испортилась совершенно. Нужно было что-то делать. Нельзя с утра до ночи бродить под дождем и ветром или подбирать выброшенные на берег предметы. И потом, это само шло ко мне. Я уже придумал заглавие: «Незапамятное». Даже если не касаться всего того, что я напихал в предыдущую книгу, мне еще много оставалось сказать. Я выбросил за борт всю эту чертову мифологию с символами, всех этих гадалок, волхвов и пифий с треножниками. Я не собирался восстанавливать Вавилонскую башню или Критский лабиринт; я принимал все таким, как есть, не ставя ничего с ног на голову… Только настоящее время. Жизненное кредо, подальше от всяких богов и предсказаний. Картина сего момента. Я писал, и у меня было впечатление, будто лист под моим пером остается белым. То было чистым и свежим, как плод на ветке, нежным на ощупь, как лицо спящего ребенка. Честное и здоровое занятие. Что еще сказать? Я не задавал себе вопросов. Я сам был себе компанией. В конце концов, я, наверное, нашел себя, но вдали от всех моих давних наваждений, вдали от всех пророчеств, которые якобы важны… Мне было спокойно в этом пакгаузе, рядом с морем, пенящимся у скал. Вся эта суета, приезды, отъезды – что она мне дала? Покой перед лицом бушующего океана позволял разложить все по полочкам. Я вспоминал, что был счастлив порой в четырех стенах… Эти комнаты никогда не казались мне достаточно пустыми, достаточно голыми.
И все же каждая отличалась от другой, была особенным местом, даже если в моих воспоминаниях их не к чему было привязать… Какой будет последняя?..
Жеро узнает об этом позже, но ему было еще далеко до окончательного отрешения; бегство к несуществованию было еще только миражом, сменившим собой многие другие… Человек, который говорит, что наконец нашел себя, достаточно показывает: он не отступился и по-прежнему настроен добиться признания того, кто он есть. А если писатель избегает среды, где, как ему кажется, он теряет время и свою сущность, он лишь повинуется защитному инстинкту и ищет более удобное место для работы. Нантукет для Жеро был таким местом. Не столько остров, сколько мыс, открытый морским ветрам, где, вместе с запахами старой Европы, долетавшими через океан, к нему возвращался все столь же стойкий соблазн. Белый кит продолжал его дразнить, и он будет гоняться за ним до самых южных морей. Удовольствие, которое он себе доставлял, ничем не разнилось с тем, что было ему явлено – в некотором смысле даровано случаем – пятью годами раньше. Можно лишь удивляться, как он не заметил, что эта книга, которая должна была стать незапамятной, шла вслед за той, другой, и в некотором роде завершала и венчала ее собой. Можно удивляться, как он не вспомнил, что образ пустой комнаты уже стал одной из тем предыдущей книги.
Есть одно доказательство тому, что он, хотя бы интуитивно, сознавал это единство: он не уничтожил постепенно того, что писал, а такой поступок имел бы совсем иное значение, нежели сжигание экземпляра книги, с которой уже ничего не поделать. Он не уничтожил «Незапамятное», начал редактировать текст, потом, откопав где-то старый «Ремингтон», принялся печатать, как любой автор, уверенный в своем произведении.
Эта странная уверенность исходила не столько от него самого (от той тревоги, которая ранее всегда останавливала его руку на середине страницы), сколько, как ни парадоксально это звучит, от необычайного успеха книги, опубликованной под именем Атарассо. «Незапамятное» в тот момент представляло собой для Жеро высочайшую и неопровержимую истину, противопоставленную лжи, обману, бесстыднейшей фальсификации за всю историю литературы, но эта истина, надо признать, могла родиться в нем, обрести силу и выражение только на почве лжи, как если бы контраст двух этих терминов пропадал при их слиянии в одном и, в конечном счете, незначительном происшествии.
Однажды утром Нантукет проснулся под снегом, а Жеро поставил последнюю точку. Четыре месяца назад на этот остров высадился затравленный человек, ищущий убежища, где его наконец оставят в покое. Ему удалось загарпунить красавицу-акулу и поднять здесь свое знамя. Рукопись «Незапамятного» заменила собой в тибетской котомке сожженный экземпляр «Описания земной империи». Сидя в автобусе, который вез его в Нью-Йорк, он, должно быть, чувствовал себя другим человеком, уверенным на сей раз, и не менее наивно, что любая истина утверждается не через скандал, а через доказательство, проделавшее свой путь и внушающее доверие само по себе. Он был носителем такой истины. Кто откажется ее признать?
В Нью-Йорке он направился прямо в бюро путешествий. Откуда у него были деньги? От дяди Гаста, которого он, не колеблясь, заставил раскошелиться, вспомнив старые привычки и испытывая не больше смущения, чем Ники, когда та посылала брату сигнал «СОС» с Капри или из Португалии. Гаст, наверное, потребовал от Жеро не больше объяснений, чем в свое время от сестры. У него снова был удар, и он, решив, что теперь конец не за горами, выполнил кое-какие формальности по завещанию: он оставлял свое состояние и дом заведению «for crippled children»,[78]78
Для детей-инвалидов (англ.).
[Закрыть] обязуя последнее сохранять за «его племянником Жеро до конца его жизни комнату, которую он занимал в детстве». Это единственный документ, в котором Гаст признает Жеро своим племянником. Воспользовался ли Жеро этим приглашением? В том ли направлении он уехал, когда ускользнул у меня из-под носа на автовокзале?
Но в тот момент он в последний раз плыл в Европу – с рукописью подмышкой, с той же надеждой, озаренный той же уверенностью, что и первые апостолы, отправлявшиеся в Селевкию, чтобы явить миру послание истины и счастья. Через пять дней он прибыл в Шербур.
* * *
Терпеть не могу убивать время. И не люблю, когда я вынужден красться по стеночке и ни с кем не общаться. Более того, хлестал такой дождь, что эти края было не узнать: залитые равнины, вышедшие из берегов реки, снесенные мосты, спешно эвакуируемые музеи – настоящее бедствие. Но все шло по плану. В Генуе, куда я добрался на перекладных (Ментон, Империя, Савона), в гостинице «Савой» меня ждало письмо. Чезаре Ардити примет меня в Турине, но неделей позже; он извинялся за то, что не может быть на месте к ранее названному им же сроку: он возвращался из Франкфурта утром того самого дня, на вечер которого была назначена наша встреча. Но я мог быть доволен: начало хорошее. Скандал не удался; но как же я раньше не подумал о войне между издателями? Еще не зная, какую бомбу я с собой привез, он тотчас почуял, что дело стоящее. Туринский издатель был в ярости от того, что рукопись Атарассо увели у него из-под носа, и намеревался каким-нибудь образом поддеть миланского издателя, перехватившего этот кус. Но все должно было храниться в строжайшей тайне. В первом же письме он посоветовал мне ни с кем не видаться до нашей встречи. Предупреждение оставалось в силе. На этот раз я решил проявить осторожность, то есть нигде не проявиться. К тому же я хотел только одного: остаться за кадром, вручить Ардити свои двести страниц печатного текста и исчезнуть. Пусть выжмет все, что может, из нежданного подарка, а уж старик это сумеет, не даром же он из Палермо. Пусть их рвут друг друга на части, устраивают вендетту, затевают процесс за процессом. Хотя эта рукопись, как и первая, была написана по-французски, ни один издатель в Париже или в Швейцарии не впутался бы в такую темную, такую запутанную историю, изначально казусную, которая вызовет столько споров, столько различных разбирательств, что жизни человеческой не хватит, чтобы довести ее до конца. Вообще-то, чтобы разборка обрела полноценный смысл – даже если ее результатом, увы, окажется ритуальная казнь Атарассо, – она должна произойти в той самой стране, где была затеяна первоначальная махинация. Книгу надо было запустить в Италии, и, как и в первом случае, сразу на трех языках. Только Ардити по плечу принять такой бой и не вылететь с ринга, С моей стороны было большим зазнайством обратиться к нему. Нет никого умнее сицилийцев. В качестве приманки я написал, что хочу кое-что ему передать: он сразу все понял. Не принадлежа к «банде Атарассо», он ждал только повода, чтобы вступить в игру.
Он, конечно, был прав, предупреждая, чтобы я ни с кем не сговаривался. Даже мои друзья – если таковые у меня еще оставались – могли оказать мне лишь медвежью услугу своей болтовней и запоздалым рвением. Хуже всех были бы те, кто бросился бы меня разыскивать, узнав, что я объявился в их краях: не станешь же от них бегать или поворачиваться к ним спиной. Но куда деться на эту неделю? В Риме меня знала каждая собака. В Милане мне шагу не ступить, чтобы кто-нибудь не окликнул. А потом с меня уже не слезут. Я сказал слишком много или слишком мало. Я вернулся не за тем, чтобы попасться им в лапы, и не за тем, чтобы меня фотографировали перед Миланским собором или на фоне площади Навона; я вернулся не за тем, чтобы давать интервью и пресс-конференции или раздавать автографы, если меня узнают в кафе или в кино. В этом и была опасность. Совет Чезаре Ардити полностью соответствовал моим собственным представлениям о линии поведения. Раньше я действовал в открытую, теперь же мне необходимо тщательно рассчитывать свои шаги, не выдавать своего присутствия и своих намерений, особенно тем, кто, слишком внезапно переметнувшись на мою сторону, могли случайно задуть еще не разгоревшийся пожар. Тот же самый эффект неожиданности, в свое время обернувшийся против меня, я должен использовать против тайных недоброжелателей, придавших всему делу необратимый характер и закрывших люк у меня над головой. Что написано пером, того не вырубить и топором! Теперь этот аргумент был в моих руках. И еще кое-что. Правое слово превыше всего. Скоро они это поймут. Можно нисколько не заботиться о личной репутации и неукоснительно следовать этому правилу устной наивности – умом которую не понять, – своего рода фетишу. Я чувствовал чудесную отрешенность от последствий публикации: вторая рукопись, написанная той же рукой, разоблачит грязную тайну рождения первой, многим казавшегося подозрительным!
Но в очередной раз все обернулось иначе. Всадив свой дротик в блюдо обетованных даров, я возвещаю, что лирическое отступление завершилось само собой, единственно возможным решением.
Неделя – это очень долго для страны, где я в любой момент мог наткнуться на людей, с которыми мне было бы лучше не встречаться. Что делать столько времени под проливным дождем? Как часто, отправляясь в заданном направлении, с конкретной целью, я отклонялся от первоначального плана и оказывался в прямо противоположном месте, нередко даже в другой стране. Тем не менее, как все люди, которые всю жизнь мотаются с места на место, отдаваясь на волю случая, я, как уже сказал, терпеть не мог убивать время и слоняться без всякой цели. А в Италии, где поливал ледяной дождь, жители были вынуждены покидать свои дома, дороги пришли в негодность или превратились в каналы, по которым, увлекаемые течением, плыли лодки с матрасами и домашними животными, я не мог пойти куда глаза глядят и укрыться в какой-нибудь деревушке, окруженной водой или отрезанной горными потоками.
Я все-таки вырвался из Генуи и к следующему утру добрался на попутках до Вероны. Я снова стоял на обочине, у въезда на автостраду Милан-Венеция. Вот тут-то все и решилось. Под нахлобученным капюшоном меня было не узнать, дождь хлестал со всех сторон, в резиновых сапогах хлюпало; я представлял собой жалкое зрелище. К тому же я ждал уже больше часа, и место выбрал не самое удачное: видно плохо, и движения почти никакого. Наконец один грузовик остановился. Я был так уверен, что мы едем в Милан – потом я хотел отправиться в Кунео или в Аосту, где я не рисковал попасться кому-нибудь на глаза и мог спокойно дожидаться дня, назначенного Чезаре Ардити, – что только увидев сквозь запотевшее стекло табличку, указывающую на выезд из Виченцы, понял, что мы едем в другую сторону. Это здорово насмешило молодого шофера. Он собирался разгрузиться в Местре и вернуться в Милан следующим вечером; он мог бы захватить меня с собой, если угодно. «Вы торопитесь? Что у вас, жена рожает! Днем раньше, днем позже!» Он выехал на запасной пусть, чтобы дать мне время решиться и заодно дорассказать анекдот. «Andiamo!» Я махнул рукой, чтобы он ехал дальше. «Va bene! Va bene!..[79]79
Поехали! – Отлично, отлично! (итал.).
[Закрыть] Завтра привезу вас назад». Я взял предложенную сигарету. Мы совсем подружились. «Americano?» Отрицательный ответ его сильно разочаровал. У него был дядя в Монреале, тетя в Цинциннати, еще кто-то там в Бруклине… Америка для него ассоциировалась с семьей; его родственники там преуспели – по крайней мере, он так думал. Он высадил меня у въезда на мост Местре, подробно объяснил, где мне найти его завтра, и пожелал мне удачи. То есть пожелал проскочить между капелек и подыскать себе сухое местечко для ночлега.
Мне бы следовало остаться в Местре и не идти по этому мосту. Но кто знает, когда я еще ступлю на него снова! Наверное, никогда, раз я решился уехать сразу же после встречи с Ардити. Мне не хотелось быть тут, когда критики сцепятся между собой и понесут меня по кочкам. Тогда мне будет самое время вставить в уши затычки и сменить имя, а лучше подыскать себе работу на автозаправке или в молочной лавке где-нибудь в Скалистых горах. Я уже заранее сочинял свой вестерн: буколическую картинку с бревенчатой избушкой, речкой, кишащей бобрами, где-то между Санта-Фе и могилой Буффало-Билла (я ничем себя не связывал). В общем, спокойный уголок, какого заслуживает человек, послуживший истине и исполнивший долг совести.