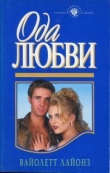Текст книги "Змееносец. Истинная кровь (СИ)"
Автор книги: Jk Светлая
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
XXVI
24 декабря 2015 года, Париж
Было еще раннее утро, когда Мишель проснулся. Боясь разбудить Мари, спокойно спящую рядом, он разглядывал ее безмятежное лицо. Она была прекрасна. Приоткрытые, по-утреннему пухлые губы с четко очерченным изгибом, длинные ресницы отбрасывали слегка подрагивающие тени на бледные щеки, волосы разметались по подушке веселым ореолом. Думать о чем-то еще он не мог. Не хотел. Вся на земле нежность сейчас была здесь, в этой комнате, возле Мари. Разве все прочее имеет значение, независимо от того, что произойдет, когда она проснется после этой странной ночи – такой значимой и одновременно такой нереальной.
Мари зашевелилась, укладываясь поудобнее на его плече, что-то тихонько пробормотала и вдруг резко открыла глаза. Молча смотрела на Мишеля. И не осмеливалась пошевелиться. Только бы продлить этот момент пробуждения возле него. Потому что не знала, что теперь делать и как теперь жить. Сама того от себя не ожидая, она вдруг потянулась к его щеке и легко, едва ощутимо, прикоснулась к ней губами.
Он повернулся к Мари и, не позволяя своим надеждам глубоко пустить корни в душе, улыбнулся:
– Как спалось?
– Я не знаю… А тебе?
– Превосходно!
Мишель сжал ее в объятиях и легонько поцеловал в висок.
– Завтраком меня накормишь?
Она не сопротивлялась его объятию, однако на лице ее появилось выражение задумчивости. Когда Мари начинала думать, то неизвестно еще, до чего могла додуматься. Эту черту она сама за собой знала.
– Накормлю, – коротко сказала королева, но все еще не вставала, не желая покидать его объятий. Потому что прерви их на мгновение, и она не будет знать, что сейчас и здесь между ними все еще по-прежнему. – Только мне нужно принять душ…
Его Величество согласно кивнул, думая о том, что времени у него остается все меньше. А единственное, о чем он способен думать – простила ли она его?
– Позже, – добавила Мари и помчалась в ванную.
Там ей всегда легче думалось.
Включила воду. Та зашумела, успокаивая бурю, что теперь разыгралась в ее мыслях. В это утро после прошедшей ночи, не чувствуя торжества своей маленькой победы над ним, но вместе с тем испытывая все больше сомнений, она особенно остро ощутила очевидное. Она могла бежать от себя сколько угодно. Но никогда не сможет убежать от своей любви.
Знала, что ей суждено любить его всегда, всю жизнь, что этого не изменить.
И этого никогда не перечеркнет даже то, что он целовал другую женщину на ее глазах. Этого ничто не перечеркнет. Потому что он примчался сюда за ней. Потому что он хотел ее вернуть. Потому что он тоже не сможет без нее. Ведь не сможет?
Переодевшись в пушистый банный халат, чувствующая себя немного лучше после теплого душа, благоухающая ванилью, она стояла у двери и никак не решалась ее открыть. Она совершенно точно знала, что делать. И при этом ей было страшно, как никогда в жизни.
Когда она, наконец, решилась выйти, то просто спросила, как ни в чем не бывало:
– Так что насчет завтрака? Овсянку будешь?
– Буду, – осторожно, будто ступая по льду, кивнул король.
Мари прошла к кухне и поставила на плиту молоко. А потом, не глядя на него, но только на кастрюльку, проговорила:
– Мишель, нам нужно поговорить… Мне кажется, что… нам очень нужно поговорить.
– Нужно, – согласился он, скрывая напряжение. – Давай поговорим.
Мари перевела дыхание. Потом набрала в грудь побольше воздуха и выпалила:
– Я хочу дать нам еще один шанс. Я тебя люблю. И даже постараюсь простить. Но у меня условие.
– Какое?
– Я хочу, чтобы мы жили здесь. Ты же видишь… я не могу там. Не приживаюсь. Я не хочу жить в стране, которой нет ни на одной карте, ни в одном учебнике… И если… если ты меня любишь, Мишель… ты…
Мари замолчала, вдруг услышав то, что звучит в ее словах. И ужаснулась самой себе. То, чего она требовала от Мишеля, было… отвратительно.
Он долго ничего не говорил, не зная, что ей ответить. После случившегося в эту ночь просьба ее была немыслима и несправедлива, но вместе с тем… разве не знал он, что это так? Разве не достаточно в нем мужества, чтобы сознаться себе в том, что она права? Несмотря ни на что, она была права. Она не могла там, у него. Как ни старался он ей помочь. Даже их близость она принимала иначе, чем он, так что говорить о прочем?
– Ты понимаешь, если я останусь здесь, то тебе станут говорить, что твой муж сумасшедший? – обманывать он ее не мог. – Поверь, я очень хочу, чтобы мы всегда были вместе. Я тоже люблю тебя. Но я не смогу остаться здесь. Прости, Мари. Это сильнее меня.
И Мишель вдруг отчетливо понял, что не должен заставлять ее возвращаться туда, где ей плохо. А значит, и искать Санграль больше незачем.
Мари опустила руки, пристально глядя на него, и не могла наглядеться. Все кончено. Все. Кончено. Потому что любовь к ней в нем слабее его чувства долга перед Трезмоном. Король в нем сильнее влюбленного. Но можно ли осудить его за это? Имеет ли кто право? Она не чувствовала, как по ее щеке скатилась слеза. Она не знала, что может быть так больно. Даже тогда, в саду, она не испытала такой боли, как сейчас. Все это означало… жизнь без него. А нужна ли ей такая жизнь?
– Понимаю, – наконец, ответила Мари и удивилась – ее голос звучал, как обычно, будто только что не испытала этой боли, разрывающей душу. – Я все себе придумала. Считай, что я не задавала тебе этого вопроса. Считай, что вообще ничего этим утром не было.
– Овсянка хотя бы будет? – проворчал Мишель.
Она медленно, будто сонная, повернулась к плите, глядя, как закипает молоко. Когда пенка поднялась доверху, сделала огонь поменьше, взяла со стола пачку, высыпала крупу в кипящее молоко. И, стоя к нему спиной, тихо сказала:
– Останься со мной.
– Я не могу. Хочу, но не могу, – прошептал Мишель, обняв жену за плечи.
– Тогда я не скажу тебе, где твой Монсегюр!
Он прижал Мари к себе и подумал о том, что никогда не увидит своего ребенка, дочь ли, сына – какая разница. Что больше никогда она не будет по вечерам сидеть у него на коленях в их любимом кресле. Что розы в тронном зале однажды станут не видны, исчезнув от света и пыли. И однажды, много лет спустя, все это покажется лишь красивым сном.
Мишель усмехнулся ей в затылок:
– Не говори. Стоит ли тратить время, если это далеко от Парижа?
Мари дернулась в его руках, но не отстранилась:
– Врун. Я думала, тебе туда нужно, чтобы вернуться домой… Так сколько теперь у нас времени?
– Завтра утром я исчезну…
Мари медленно растянула губы в улыбку. И повернулась к нему.
– Значит, Рождество мы встретим вместе. А потом ты вернешься в Трезмон. К ней. Что ж, ты попытался, и у тебя не получилось. Я попыталась тоже. И у меня тоже не получилось. Все должно быть на своем месте.
Мишель устало потер глаза.
– Я возвращаюсь домой, а не к ней. Это сюда я отправился к тебе. Потому что я тебя люблю. Потому что я очень хочу, чтобы ты вернулась вместе со мной. Но заставлять я тебя не стану. Если ты считаешь, что твое место здесь – так тому и быть.
– Потому что Трезмон тебе важнее меня и нашего ребенка? – спросила она и осеклась. – Прости… Я не то хотела сказать… Прости…
Мишель взял ее руки в свои, крепко сжал их и, глядя ей прямо в глаза, медленно произнес:
– И ты, и наш ребенок для меня гораздо важнее всего на свете. Но я не могу остаться. Петрунель дал мне всего три ночи.
– Ты все-таки сумасшедший, – коротко хохотнула она и все же заплакала. – Зачем ты с ним связался? Ты же все про него знаешь!
Она поднялась на носочки и поцеловала его в щеку. Совсем не так, как этим же утром в постели, но долго прижимаясь к нему губами и чувствуя, как обрывается сердце.
– Как еще я мог попасть сюда? Маглор Форжерон отказался мне помочь, старый болван! – Мишель на миг отстранился и стал покрывать ее лицо поцелуями. А потом нашел губы и уже не мог от них оторваться. И единственная мысль вертелась в его голове: как он будет без нее?
Мари вырвалась. И посмотрела на плиту, на которой уже подгорала овсянка.
– Давай хотя бы елку поставим… раз это последнее Рождество… – сказала она отстраненно. И усиленно гнала от себя мысли, что… что она ничего не потеряет, если вернется с ним. Потому что уже потеряла гораздо больше – она потеряла способность жить без него.
– Давай поставим, – улыбнулся Мишель, взглянув на кашу вслед за Мари. – Завтрак отменяется?
– Нет. Не отменяется. Отменяется экзекуция с помощью овсянки, – она решительно выключила конфорку. – Мы едем за елкой и по дороге зайдем куда-нибудь.
XXVII
24 декабря 1186 года, Трезмонский замок
Благочестивый брат Ницетас, здоровенный широкоплечий детина с невинным взором на лице дровосека двадцати пяти лет отроду, еще год назад не был столь уж благочестив, но всем сердцем стремился к тому. Он искал путь истинной веры, но все время оступался и никак не мог найти самый короткий путь к тому, чтобы познать Бога, не позабыв своей выгоды. Добрый бенедиктинец, воспитанный в Санкт-Галленском аббатстве, несколько лет назад паломником он пришел в Вайссенкройц да там и остался, свалившись со страшной лихорадкой и ставший на ноги лишь усилиями брата Ансельма. Тогда же он и решил, что устав цистерцианцев тому способствовал, а посему он-то и есть самый угодный Господу. Однако долго находиться в обители оказалось выше его сил, и скоро он попросился служить Всевышнему там, куда направит его брат Ансельм. Тот лишь покачал головой и сказал:
– Что ж, брат Ницетас, ступай в Фенеллу – туда отныне ведут все дороги с тех пор, как исчез несчастный и дорогой нашему сердцу брат Паулюс.
Так Ницетас и очутился впервые в Трезмонском замке. И в первый же день своего пребывания в королевстве венчал короля и королеву. Он искренно полагал эту миссию очень почетной и надеялся на поощрение. Однако комната, которую сперва ему предложили, была тесна. Потребовал другую – и та, что была им получена, оказалась не многим лучше. После он подметил, что кухарка – не отдавала ему лучших кусков. А ведь брат Ницетас лишь ради ее стряпни готов был нарушить пост, что было с его стороны великой жертвой. Кухарка же была непреклонна – война меж ними разразилась нешуточная. Зато брату Ницетасу удалось избежать греха чревоугодия.
Но последней каплей, переполнившей чашу его терпения, стало то, что ни король, ни королева не желали посещать службы. Объявив меж слуг, что королева бесноватая, он отправился назад, в родной Санкт-Галлен, так и не найдя Бога среди трезмонцев, но прихватив с собой чудесную праздничную рясу отца Паулюса, не иначе безвинно погибшего где-то в Святой земле, как грустно вздыхала старая и злая кухарка, проливавшая слезу по одному только цистерцианцу. Ну и еще по маркизу де Конфьяну. И по мяснику Шарлю. На короля заглядываться кухарка не решалась. А с Ницетасом у них была война.
Итак, решив, что праздничная сутана цистерцианцу отныне без надобности, святой брат отбыл восвояси. Остановившись на постоялом дворе «Ржавая подкова», он проводил ночь в добрых увеселениях, не слишком претивших заповедям Господним, когда подошла к нему прекрасная, как сама Дева Мария, девушка.
– Не желает ли чего святой брат? – спросила она с улыбкой, покуда он изучал рыжеватые кудряшки ее волос, которые двоились и троились пред его не вполне ясным взором. – Еще прекрасного вина из наших погребов? Или козьего сыра из Жуайеза? Или может быть ласки и нежности юной Аделины?
Ночь они провели в молитве. Поскольку на большее святой брат был уже не способен. А перед рассветом явилась ему сама Дева Мария, указавшая, наконец, путь.
– Ну и пьянь же вы, святой брат! – объявила она голосом Аделины. – Что толку от вашего красивого тела, коли вы им и пошевелить не можете? Езжайте в свой Васин… Васан… кройц свой, как проспитесь. Не умеете грешить – так и нечего пробовать.
И понял в тот момент брат Ницетас – было ему видение. И с тех самых пор стал вести благочестивую жизнь, вернувшись в лоно цистерцианского ордена да к брату Ансельму под крыло. В Вайссенкройце после его рассказа о явлении Девы Марии, в котором многое было опущено, но многое и приукрашено, к нему стали относиться с большим почтением. А сам он мечтал о канонизации, когда Богу станет угодно прибрать его к рукам.
И лишь одно не давало покоя брату Ницетасу – взятая у брата Паулюса праздничная сутана. Совесть мучила его еженощно, являясь кошмарами в виде покойного монаха, которого он даже не знал. И однажды после страшного сна, в котором брат Паулюс тянул к нему свои руки и грозил Геенной огненной, попросился у брата Ансельма посетить Трезмонский замок, чтобы провести там Рождественское богослужение.
Получив благословение у своего почтенного наставника, он отправился в Трезмон.
И первым делом явился пред очи суровой, но с утра подозрительно довольной кухарке Барбаре.
– У нас свой монах теперь есть! – миролюбиво объявила она. – Радость великая! Брат Паулюс вернулся! И после Рождества он и обвенчает меня и любезного моего Шарля! Коли будет твоя милость вернуть сутану!
Радостно покивав, брат Ницетас бросился в комнату брата Паулюса, чтобы обрадовать того да попросить прощения за доставленные неудобства. И, едва войдя в комнату, он, хватаясь за сердце, возопил:
– Срам-то какой!
Яркое сентябрьское солнце слепило его глаза. Но он был счастлив, просто охренительно счастлив. Он стоял посреди своего виноградника, в котором было уже несколько десятков лоз, и они, милостью Господа, и в этом году дадут ему богатый урожай.
Паулюс подошел к ближайшей лозе и взял в руки упругую янтарно-зеленую гроздь. Внутри каждой ягодки светило свое солнце, которое также слепило его глаза.
– Посмотри, – сказал он Лиз. – Правда, она совершенство? – аккуратно срезав гроздь и оторвав ягодку, он поднес ее к губам девушки. – Как и ты!
И уже представил, что после поцелует эти манящие губы, как рядом с ними оказался монах в облачении брата-цистерцианца и зычно гаркнул:
– Срам-то какой!
Паулюс открыл глаза и шальным взглядом посмотрел на незваного визитера, который стоял у кровати, осеняя своим крестом спящую под боком Лиз. На животе у нее лежал младенец и, не отрывая своих глазищ, разглядывал пряжку на ее платье.
«Он вообще когда-нибудь спит?» – мелькнула в голове святого брата мысль, полная мрачной безнадеги.
– Господи, прости его, грешника! – продолжал верещать святой брат, вращая глазами, будто прямо пред ними раскрыты двери в ад.
А тем временем Лиз с трудом разлепила веки и растерянно посмотрела на монаха. Сначала на незнакомого, потом на любимого.
– Ты мне сейчас ребенка напугаешь! – воинственно крикнула она незнакомцу, прижимая к себе Его Светлость, устроившего им с Паулюсом очередную веселую ночь.
Паулюс устало потер глаза, упрямо закрывающиеся для продолжения сна, несмотря на вопли богобоязненного монаха. Затем спустил ноги на пол и сел на кровати.
– Ты кто такой, святой брат, и что делаешь в моей комнате? – спросил он, широко зевая.
– Брат Ницетас, подлинный цистерцианец, не то что ты, нечестивец и прелюбодей!
– Чего? – протянула опешившая Лиз. – Это кто тут еще прелюбодей?
– Это кто тут еще прелюбодей? – эхом отозвался Паулюс и медленно почесал затылок. – А вот ты, брат Ницетас, самый обыкновенный жулик. Спер мою праздничную сутану и думаешь, тебе простится только потому, что ты подлинный цистерцианец?
– Что? – в свою очередь опешил монах. – Что я, греховодник ты этакий, сделал? Сутану твою я одолжил всего лишь и привез, как только прослышал, что ты вернулся из Святой земли! И что видят мои глаза! Любимец брата Ансельма, этого божьего человека, ты взял в свое ложе, подле которого дозволено в молитве перебирать четки, эту блудницу да обзавелся бастардом!
– Va te faire foutre, fils de pute! – вставила свое веское слово Лиз. – Я привидение!
– Она привидение, – Паулюс снова повторил вслед за Лиз. – И ребенка не оскорбляй!
Словно уразумев, что говорят именно о нем, юный маркиз недовольно хрюкнул и скривил личико, приготовившись разрыдаться. Лиз тут же пощекотала ему животик и младенец передумал.
– Принес сутану? Отдай и вали, – коротко деловито добавила она, не глядя на Ницетаса.
Тот многозначительно икнул. И, произнеся в мыслях короткую молитву о спасении заблудших душ, вновь обратился к брату Паулюсу:
– Так а Рождественское богослужение кто править будет, Паулюс Бабенбергский?
XXVIII
24 декабря 2015 года, Париж
Рождественский рынок в Ля Дефанс пестрил фонариками, игрушками и елочной мишурой. И это так не сочеталось с серым, будто замершим в ожидании бури, небом. Морозный воздух тоже казался замершим. И люди вокруг, спешащие и суетящиеся, почему-то представлялись Мари похожими на плавающих в аквариуме рыб. Они медленно передвигались, открывали рты, выпучивали глаза и чему-то отвратительно радовались, стайками торопясь к тому месту, где, видимо, добрый хозяин всыпал в аквариум корм.
Мари старалась улыбаться, но не получалось. Из-за этого она поднимала воротник. И щурилась от ветра.
– Вам в Фенелле надо тоже ставить елку. Это весело, – чуть слышно проговорила она.
– К чему нам теперь в Фенелле веселье? – Мишель пожал плечами, оглядываясь по сторонам.
Было шумно и многолюдно. Его Величество криво усмехнулся. Пожалуй, так и должно быть накануне праздника. И люди вокруг не виноваты, что у него самого больше никогда не будет праздника.
– Ну, и где твои елки? – напустив на себя беззаботный вид, спросил Мишель.
– Вон! – Мари показала рукой на длинный зеленый пушистый ряд. – Мы отсюда до вечера не уйдем. Давай я пойду с одного конца, а ты – с другого. Ты выберешь… самую пушистую… и я… А потом решим, хорошо?
Сказала и тут же рассердилась – чем она занимается? Зачем она этим занимается? Ведь придется просто разомкнуть сцепившиеся с ним ладони.
– Хорошо, – согласился Мишель и, отпустив Мари, пошел в сторону, которую она ему указала.
Ряд действительно были длинным. И расстояние, разделившее их…. Было оно больше восьми столетий, которые лягут между ними уже на рассвете? И совершенно непонятно, чему так радуются окружающие? Еще одному уходящему дню? Который ляжет покровом на эти столетия и сделает их еще более невыносимо далекими друг от друга?
– Что-то вы приуныли, Ваше Величество, – вдруг проговорил продавец елок голосом Петрунеля. И лицо его было точь-в-точь, как у злополучного мэтра. Даже бородавка красовалась на месте. Только клетчатая куртка заменила черный плащ. Но воротник куртки по-прежнему украшала брошь повелителя времени.
– Зачем явились? – усмехнулся Мишель, разглядывая яркий костюм кузена.
– Спросить, отчего вы, Ваше Величество, ходите выбираете елку, что, конечно, очень важно, если того хочет королева… Но ведь не в последний же день зимнего солнцестояния!
– Почему нет? День, как день, – Мишель пожал плечами и пошел дальше вдоль елочного ряда.
– Эй! – окликнул его мэтр и выдернул из ряда одну из елок. – Возьмите эту. Королеве понравится. И тем быстрее вы отправитесь на Монсальваж.
– Не понравится! Она кривая, – не останавливаясь, проворчал Его Величество. – Но у меня достаточно времени, чтобы выбрать подходящую, потому что я никуда не поеду.
Петрунель ошарашено посмотрел на короля и поставил елку на место.
– Двадцать первый век скверно на вас влияет, дорогой кузен. Вы сошли с ума?
– Что вы! Я в своем уме, как никогда ранее, – Мишель резко развернулся и оказался лицом к лицу с мэтром. – Чего вы привязались?
– У нас с вами уговор, Ваше Величество. Без Санграля вы не сможете получить назад свою жену! Она останется здесь. Навсегда.
– Да, Петрунель, она останется здесь. Навсегда, – повторил вслед за ним Мишель.
Петрунель вскинул брови и участливо посмотрел на короля.
– Да вас лихорадит, не иначе, Ваше Величество! Вы готовы потерять королеву Мари из-за такой безделицы как роман с маркизой? Или Ее Величество уже наскучила вам?
– Не ваше дело! – рыкнул Мишель в лицо магистру. – Ступайте и продавайте ваши чертовы деревья!
Он снова развернулся и пошел прочь от Петрунеля.
– Допустим, наскучила, – не отставал от него ни на шаг маг. – Но уверены ли вы, что сможете спокойно спать, зная, что вашего сына воспитывает чужой мужчина!
И, дернув короля за рукав, он показал на другой конец елочного ряда, где возле королевы Мари стоял… Алекс Романи.
Он отчаянно размахивал руками и, судя по лицу, горячо говорил, пытаясь убедить в чем-то Ее Величество.
Мишель снова остановился и с минуту смотрел на разыгрывающуюся на его глазах сцену. И каждое мгновение принимал новое решение. Добавить Алексу затрещин. Убедить Мари вернуться с ним. Придумать, как остаться здесь.
– Говорите уже, зачем явились, – сказал Его Величество Петрунелю, сдерживая закипающий гнев.
– Всего лишь напомнить, что времени не так много, как вам хотелось бы. Вы, конечно, предприняли еще не все. Можно попробовать устроить своей супруге ухаживания с походами в кино и поцелуями на последнем ряду. Можно исполнять любое ее желание. Можно, в конце концов, отправиться к семейному психологу и постараться разобраться в ваших отношениях. А можно отправиться в Монсальваж и найти там Санграль. Он решит ваши проблемы.
В этот момент Алекс Романи бухнулся перед Мари на колени и, хватая ее за руки, на весь рынок воскликнул:
– Мари! Я всю жизнь мечтал о ребенке! Поверь, он изменит меня! Уже изменил!
Лица королевы видно не было – она стояла спиной к королю и Петрунелю.
– Может быть, еще подскажете, каким образом ваш камень решит мои проблемы? – король мрачно посмотрел на мэтра.
– Вы будете обладать силой, способной вернуть вам ее любовь. И сможете забрать ее в Трезмон. Уже навсегда. Поверьте, не стоит недооценивать Санграль. Он может… все!
Мари вырвала ладонь из рук Алекса и что-то тихо заговорила, достаточно тихо, чтобы слов ее слышно не было на этом конце ряда.
Его Величество рассмеялся.
– Нельзя вернуть то, что и так принадлежит мне.
Мари вдруг повернула голову в его сторону и беспомощно кивнула на Алекса, который продолжал что-то болтать.
Почти бегом Мишель бросился к жене, позабыв о занудном мэтре. Подскочив к Алексу, он схватил его за воротник куртки, поднял на ноги и холодным тоном проговорил:
– Если вы, месье, еще хотя бы раз подойдете к моей жене и, упаси вас бог, что-нибудь предложите в отношении моего ребенка, никакой даже самый достойный лекарь вам не поможет. Это понятно?
Месье Романи согласно кивнул, но тут же сообщил:
– Непонятно!
Потом перевел оторопевший взгляд на Мари и спросил:
– Так это кто кого обманывал столько времени? А? Ты была замужем… беременна… И при этом крутила роман со мной? Так это ты использовала меня!
Мари моргнула. Два раза. А потом улыбнулась и тихо сказала:
– Именно, милый. Потому ты с легким сердцем можешь искать себе другую жену и мать своих будущих детей. И даже не одну!
Взяв жену под руку, Мишель двинулся вдоль елок, от которых у него уже рябило в глазах.
– В той стороне нет ни одной красивой. А ты здесь что-нибудь нашла?
– Господи… Бери любую и поехали. Еще немного, и у меня лопнула бы голова.