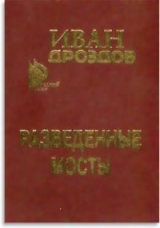
Текст книги "Разведенные мосты"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
«Последний Иван» я написал за полгода, и вскоре же он был издан. Эту книгу уж никто не мог задержать. Она продавалась и продаётся в Петербурге, в Москве, метнулась и в другие города, и даже за границу. А теперь уж «Последний Иван» и книга о пьянстве русских писателей «Унесённые водкой» целиком помещены в Интернете, и нам недавно позвонила из Америки наша добрая знакомая Маша Трезорукова и сообщила, что её коллеги по фирме, главным образом русские евреи, приехавшие недавно из России в Америку на постоянное жительство, читают эти книги на экране своих компьютеров.
Итак, «Последний Иван», мой тезка, удачно и, можно даже сказать, счастливо начал свою жизнь. Из Москвы нам прислали так называемый прайс-лист, то есть указатель цен, по которым там продаются мои книги. «Ивана» продавали по 150 рублей за экземпляр. Мы же отдавали распространителям по себестоимости. И Люша, посылая в Москву полтиража, писала продавцам: «Не знаю, по какой цене вы будете продавать «Ивана», а также и другие книги моего мужа, но я их буду отдавать вам по себестоимости. Людей ныне и так обобрали до нитки, и я не хочу участвовать в грабеже своего народа.
Она этими словами как бы просила продавцов назначать невысокие цены.
Так мы определили новую философию своей жизни. И до сего дня ни одной копейки не берём лишней с читателя: за сколько издаём книгу, за столько её и продаём. И если в советское время я за каждый роман получал от десяти до четырнадцати тысяч рублей, примерно тридцать месячных зарплат профессора, то теперь мы за свой труд от государства ничего не получаем: работаем бесплатно! Говорю: от государства, потому что благодарный-то читатель нам щедро помогает. И чтобы оценить размеры этой помощи, надо взглянуть на первую страницу некоторых книг, – к примеру, недавно вышедшей книги «Прости меня грешного». Там есть такая надпись: «Автор выражает сердечную признательность читателям, которые внесли посильную лепту в издание этой книги». И далее идут имена этих читателей, их 24.
Удивительное явление! Люди как бы сердцем чувствуют трудность издания книг в наше время и протягивают автору руку помощи. Для автора нет большей награды, и ничто его так не воодушевляет, как эта бескорыстная, щедрая помощь. Человек иногда отдаёт последнее, но отдает! – лишь бы принять участие в борьбе за Россию.
Постепенно наладился порядок моей жизни в Ленинграде: я пишу, а Люша издаёт мои книги и распространяет. Этот порядок совершенно не похож на прежний московский, который за многие годы в столице у меня там сложился. Здесь в Питере поначалу у меня было мало знакомых; общественная жизнь шла от меня стороной. В Москве же, если я не на даче, то постоянно звонит телефон и приглашают то на митинг, то на собрание, то на какую-нибудь встречу. Здесь тоже звонит телефон, и чем больше печатается моих книг, тем чаще звонят. Но звонки эти от читателей, и с ними чаще всего говорит Люция Павловна. Я же либо гуляю по парку, обдумываю сюжеты, «общаюсь» со своими образами, персонажами, либо сижу за компьютером. Компьютер в два раза, а то и в три упростил работу над рукописью, ускорил письмо, повысил культуру всей работы. Счастье мое было в том, что я с первых лет работы в журналистике освоил машинопись и теперь печатал на компьютере со скоростью профессиональной машинистки. Скорость печатания удачно совпала с физиологической особенностью моей творческой работы. Я сажусь за компьютер тогда, когда очередные сцены, и даже, может быть, уже целая глава придуманы во время прогулок. Мне остаётся перенести их на бумагу. А так как компьютер позволяет писать и тут же переписывать, и тут же исправлять, уточнять, редактировать и доводить текст до окончательной кондиции, то и вышел у меня такой рекордный срок написания полномасштабного романа.
«Последний Иван» – рассказ о моей жизни конца пятидесятых годов и до середины семидесятых. В то время я варился в котле журналистики, а потом и писательского мира. Издатели «Последнего Ивана» предпослали роману такую аннотацию: «Дорогой читатель! Если ты русский, прочти эту книгу. Она писалась для тебя. Иван Дроздов – русский писатель, его книги замалчивались, их объявляли вредными и опасными. О себе он сказал: «Вся моя жизнь прошла в журналистском и писательском мире, а там много евреев. На обложке этой книги я мог бы написать: «Пятьдесят лет в еврейском строю», но я своей книге дал имя «Последний Иван». Это потому, что они теснили меня со всех позиций, и я уходил, но уходил последним, когда уже не было никаких сил бороться. Ни одной боевой позиции я не сдал ни под Сталинградом, ни под Курском, ни в битве за Будапешт, но здесь отступал. Вместе со всем русским народом. А вот почему мы отступали, читатель узнает из этой книги»».
Но закончив эти свои воспоминания, я подумал: а почему бы мне не написать и о том периоде жизни, который начался сразу после войны и окончился в Литературном институте? И я приступил к работе над второй воспоминательной книгой «Оккупация». Когда же она была напечатана, её купили все, кто читал «Последнего Ивана». Мой большой приятель профессор-биолог Борис Иванович Протасов об «Иване» отзывался в самых восторженных тонах, а когда заполучил книгу «Оккупация», долго не принимался за чтение. Знакомым говорил: «Я читал «Последнего Ивана» – что же можно ещё написать после него?». Когда же прочитал, то всем говорил: «Да эта книга, пожалуй, ещё и посильнее «Ивана» будет».
Писатель измеряет свою жизнь книгами: тогда-то я работал над этой книгой, в таком-то году она напечатана, а за эти десять лет я написал такие-то… и так далее. За одну книгу его хвалят, за другую бьют, а за третью предают анафеме, лишают доступа в издательства, не дают работы. И лишь тот писатель живёт комфортно, на всяких собраниях за красным столом сидит, позвякивает лауреатскими значками, кто держит нос по ветру, кто в силу своего характера или каких-то обстоятельств ещё в начале своей деятельности предусмотрительно усвоил удобную философию: решил для себя угождать «верхним» людям.
Работая в газете, а затем в издательстве, насмотрелся я на этих… Ох, насмотрелся! И пусть меня извинит читатель: зело как невзлюбил их. Они не только единородны по характеру, по своим внутренним качествам, но, кажется, похожи друг на друга и внешне. Вот он приклеил к своей сытой физиономии сладенькую улыбку, идёт к тебе с поклонами, тянет для приветствия пухленькую ручку. И голос у него высокий, как у тенора, и слова он найдёт такие, которые тронут самую чёрствую душу, размягчат самую крутую суровость, и вы, – как бы вы ни были принципиальны и справедливы, – не заметите, как и вы сами уж подленько заулыбались, вмиг забыли все его плебейские замашки – и уж сами готовы плясать с ним холуйские менуэты.
Был у нас один великий писатель, – он, впрочем, так и не удосужился написать ничего великого, но каким-то удивительным образом ходил всю жизнь в литературных генералах, умудрялся получать все мыслимые и немыслимые награды, попадать в энциклопедии и красоваться там среди титанов, – а и всего-то соорудил длинное и не очень вразумительное стихотворение про долговязого милиционера. Мне рассказывали, впрочем, не берусь утверждать, что это было именно так, что какому-то писателю за детективный роман вручили милицейскую полосатую палку, а у нашего героя такой палки не было. «Как же так! – недоумевал наш «великий». – Я написал стихи про милиционера, а милицейскую палку мне не дали!» И звонил во все инстанции до тех пор, пока министр внутренних дел такой палкой его не наградил.
Но в чём же была сила этого человека? А в том, что при своём огромном росте и горилообразном виде он умел проникать в гостиные всех царей-генсеков и очаровывать там хозяев.
Любопытно, что подобных шаркунов в русской литературе советского периода было много. И когда я теперь вижу писателя – моего современника с лауреатским значком или даже и с Золотой Звездой Героя Социалистического Труда, я вспоминаю время, когда они стали лауреатами. Больше всего наград выдавали литераторам Горбачёв и его правая рука – главный разрушитель России Александр Яковлев. И тут нелишне будет вспомнить меткое замечание Солоухина о подпиливателях. Вот они-то, гремящие медальками Яковлева, и старались вместе с проамериканской нечистью чернить всё советское. Доставалось от них русскому человеку: он и плохо работает, и много пьёт, и ворует, и распутничает. Потому у нас и всё плохо, а вот там за границей – не жизнь, а рай.
Уж как они старались, эти литераторы! Вот и получалось: с одной стороны наше государство подпиливали диссиденты, то бишь «агенты влияния», а с другой – наши, русские литераторы. Сильно они старались, сердешные, на радость Горбачёву, Яковлеву и прочей предательской сволоте! Вот и рухнуло оно, наше, Советское государство. А теперь и мы хороши: ходим, как бараны, на избирательные участки и выбираем всяких хакамад, немцовых, сынов и дочерей юристов. Положили в карман Абрамовича Чукотку, а завтра господам Грефу и Коху отдадим и всю Россию. О, Матерь Божия! Сойди со своего небесного престола, вразуми нас, глупых, подсоби. Одни-то мы, православные, не справимся с навалившейся на нас бедой!
Но вот начала свою жизнь и вторая воспоминательная книга «Оккупация». Но почему «Оккупация»? Речь-то идёт не о нашем времени, а о годах послевоенных. Там и наша великая Победа, и Парад Победителей на Красной площади, и слезы радости тех, кто вернулся с войны, и слёзы вдов и детей осиротевших… Весна 1945-го!.. Там и героические пять-шесть лет, за которые мы восстановили всё порушенное немцами. На страх врагам создали атомную бомбу, водородную, ракеты Королёва. Послали в космос Гагарина.
Ну, вот. А ты книге своей даёшь название «Оккупация». Но почему же «Оккупация»?..
Да, оккупация. Победив в одной войне, Сталин пошёл в атаку на другого врага, внутреннего. Но… в этой новой войне не сдюжил. Не сумел мобилизовать народ, а хотел всё сделать своими силами. И… не совладал. Враг был похитрее немца; он гнездился в кабинетах Кремля, Центрального Комитета Коммунистической партии, в министерствах, органах надзора и безопасности. Этот враг быстренько убрал со сцены и самого Сталина, оттеснил Жукова и других полководцев. Россия осталась без головы. Вот такую-то Россию новые враги без единого выстрела полонили и превратили в колонию на манер африканских.
Обо всём этом и повествует мой новый воспоминательный роман. Он основан исключительно на реальных событиях. И название пришло само по себе; оно и не могло быть иным. Впрочем, окончательный суд за читателем: прочтёт он книгу и увидит, насколько прав автор, давая книге такое страшное имя.
Часть вторая
Глава первая
Моя литературная работа вошла примерно в ту же колею, по которой катилась она и в Москве: трудился я каждый день, ложился спать в десять, а в четвертом или пятом часу ночи вставал и почти до утра сидел у компьютера, приводя в порядок впечатления дня. Днём тоже раза два присаживался за работу, а потом подолгу общался с природой. Выбрал удобный камень на берегу пруда возле тренировочной базы спортивного общества «Зенит» и там вместе с детьми кормил уток, наблюдал за их неспешной и счастливой жизнью.
В другой раз я огибал пруд и шёл к небольшой, но уютной и красивой церквушке Дмитрия Салунского, и там покупал свечи, ставил в память об усопших близких мне людях, вспоминал и живущих, ставил им свечи во здравие.
Писал свой очередной роман о том, как демократы крушили питерские заводы, распродавали торговый флот, пассажирские красавцы-теплоходы, захватывали банки и дворцы. Всегда с большим трудом придумывались названия книг, а тут как-то быстро пришел и заголовок: «Голгофа». Но вот и этот роман готов, и я подступился к другому; начал писать о Москве, о том, как хитренький мэр Лужков, спрятавшись под маску простачка в рабочей кепке, превращал нашу столицу в Вавилон, натаскивал туда со всего света мигрантов, постепенно отдавая москвичей им в рабство, превращая Москву в Косово. И тут тоже быстро нашлось название: «Похищение столицы».
Замечу кстати: писатели по своим интересам и жанрам бывают разные. Есть писатели исторические; они выбирают момент истории своей страны или мира и начинают «вживаться» в облюбованный период, изучают язык того времени, быт людей, их материальные условия и духовные интересы. Особое внимание уделяют изучению личной и общественной жизни героев и персонажей, которыми решили населить страницы своей книги. Эти подолгу сидят в библиотеках, архивах, посещают музеи. И тут невольно вкрадываются элементы компиляции, заимствования у других авторов. У кого-то взял взгляд на историю того времени, у другого автора понимание того или другого исторического лица. Я такие книги охотно читаю, особенно читал в молодости, но в своём творчестве следую иным путём: меня интересует время моей жизни, моего поколения. И в этом смысле я глубоко уважаю и почитаю Ивана Сергеевича Тургенева; он, как известно, писал по горячим следам происходящих событий; он хотя и вынужден был долгие годы пребывать на чужбине, но жил, страдал и радовался вместе со своими современниками, и главным образом людьми русскими. И в этом смысле он мог назвать себя летописцем своей эпохи, писателем глубоко национальным, русским.
Есть писатели, которые пишут книги чисто развлекательного, приключенческого характера, так называемого следовательского, сыскного пошиба: «Следствие ведут знатоки». Такие писатели запрягли и гонят что есть мочи русскую литературу в окаянные годы возврата на нашу землю оголтелого капитализма, когда люди наши, и особенно молодёжь, отданы на откуп всякого рода лжецам и растлителям, когда устрашающих размеров достигли разбой, насилие, а ловкий вороватый человек стал подлинным героем нашего времени. Этих писателей я не признаю и книги их читаю изредка и лишь с единственной целью: знать, до какой же глубины может упасть безбожие, мораль и нравственность в духовной жизни людей.
Есть в литературном мире так называемые бытописатели, и есть литература фантастическая. Был у нас великолепный писатель-фантаст Иван Ефремов, а в мировой литературе большую популярность имел в своё время, да и сейчас имеет Жюль Верн. Вот если из этого ряда книг появляется произведение такой силы и такого уровня, я с удовольствием его прочитаю. К сожалению, подобные книги этого жанра в мировой литературе теперь появляются редко.
Но вернусь к моей, несущейся, как на вороных, жизни.
Радовался тому, что судьба подарила мне хорошие условия жизни: Люция Павловна не только наладила издание моих книг, но была ещё и хорошей хозяйкой. Она как-то незаметно для меня взяла на себя все заботы по устройству быта, все связи с читателями, а их, этих связей, становилось всё больше. Со всех концов страны и из-за границы нам писали письма, звонили, а иные приходили и приезжали в гости. И всё это делалось так, что не мешало моей работе.
Но судьба любит преподносить неожиданные сюрпризы. Однажды я пришёл с прогулки и увидел у себя в квартире двух москвичей. Одного я знал: это был доктор искусствоведения, большой специалист по русской старине Владимир Александрович Десятников, с другим не был знаком; он представился: профессор Борис Иванович Искаков, президент Международной славянской академии. Об этом человеке я давно слышал; за него меня кто-то просил заступиться перед властями. Его теснили на работе, грозились уволить с кафедры Института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова, – и я вместе с другими писателями, учёными подписывал какое-то письмо, но теперь все подробности этой баталии забылись, и я, глядя на его крепкую мускулистую фигуру, испытывая на себе взгляд уверенного, преуспевающего в жизни человека, был рад, что всё у него устроилось и он занимает такое высокое положение.
Президент заговорил о моём «Иване»:
– Читал и говорил о вашей книге на заседании президиума нашей академии. Вам удалось написать роман, который будет жить. Я в этом уверен. Только за эту книгу мы вправе вас принять в Славянскую академию, но у вас есть ещё и «Подземный меридиан», и другие произведения. Я своим студентам рекомендовал читать ваши книги; между прочим, институтское начальство и за такие вот рекомендации, не предусмотренные планами министерства, всегда на меня нападало.
Искаков невысок ростом, плотно сбит, круглая голова посажена крепко, а в карих больших глазах светится ум и энергия. Говорит он чётко и громко – так, будто его собеседники плохо слышат; очевидно, это у него от профессиональной привычки читать лекции большим аудиториям.
Я поблагодарил президента за лестную оценку моих книг и в свою очередь сказал, что хотя и не имел чести быть с ним знакомым, но слышал о принципиальной позиции, которую он занимал в институте в каких-то важных делах.
– Да, я хотя и не из племени диссидентов, но и мне пришлось повоевать с властями. В своё время чуть не вылетел из партии. Спасибо писателям и моим коллегам, пославшим письмо в Центральный комитет.
Мою фамилию он не назвал, там было много имён, и, очевидно, он не всех подписантов помнил.
Я обратился к Владимиру Александровичу, сидевшему у окна в кресле от нас поодаль:
– С вами мы встретились в электричке по пути из Москвы в Сергиеву лавру, и, как мне помнится, знакомство наше состоялось не лучшим образом. Но я надеюсь, вы на меня не обижаетесь. Я люблю всякие розыгрыши, но не всегда они у меня получаются.
– Что вы! – махнул рукой Владимир Александрович, – я и забыл, что вы мне там говорили. Расстались мы друзьями и потом обменялись письмами и книгами. Собирался приехать к вам на дачу, но так и не собрался.
Я хорошо помню, как мы ехали в пустом вагоне, и я, чтобы не скучать, подсел к человеку, одиноко сидевшему у окна. К простенку он прислонил большую папку, перетянутую бечевой. В папке у него были то ли картины, то ли иконы. Мы разговорились, и я скоро узнал, что он художник и везет в Троице-Сергиеву лавру рисунки, которые выполнил по заказу Духовной академии.
– Вы реалист или как? – начал я разговор в надежде, что художник обогатит мои скудные знания в теории живописи. Но мой спутник, видимо, уловил незлую иронию в моём тоне и задал встречный вопрос:
– А вы, что же, знаете, что такое реализм и чем он отличается от других направлений живописи?
– Ну, знаний системных у меня нет, однако кое-что читал, слышал от умных людей.
– Я тоже кое-что читал, и тоже слышал от умных людей.
Разговор он загнал в тупик, и мне уже не хотелось его продолжать.
Десятников переменил тему:
– Вы, наверное, живёте в Семхозе и знакомы с Иваном Михайловичем Шевцовым? Он роман о художниках написал, «Тля» называется – так, может, и вы читали его, а может, и самого Шевцова знаете?..
Я замолчал. Передо мной сидел человек, которого не хотелось бы дурачить, но и называть своё имя я тоже не хотел. Пожалел, что начал неуместный разговор об «измах» в живописи. Он же и совсем прижал меня к стенке. Сказал:
– Я Десятников Владимир Александрович, доктор искусствоведения и немножко рисую. А вы, если не ошибаюсь, и есть Шевцов Иван Михайлович?
Я сказал:
– Что я Иван – то верно, но фамилия у меня другая.
И назвал себя.
С этого момента наша беседа приняла естественное течение, и, расставаясь, мы обменялись визитными карточками. А через несколько дней я получил от Владимира Александровича его книги с автографами и два прекрасно изданных альбома его рисунков. Рисовал он главным образом церквушки, и почти все они были полуразрушены, валились набок, а с некоторых падали колокольни, кресты.
Примерно так же рисовал церкви и знаменитый в то время поэт, мой друг Игорь Иванович Кобзев. Этим они выражали состояние Православной церкви в советское время.
Я ждал, что Десятников приедет к нам на дачу, но он не приехал, а заявился ко мне вот только теперь, спустя примерно десять лет после той памятной встречи.
Борис Иванович Искаков, показывая на него, сказал:
– А Владимир Александрович – мой первый заместитель, вице-президент нашей академии.
Я сказал, что впервые вижу так близко сразу двух академиков. Если я не ошибаюсь, Славянская академия зародилась раньше Российской. Российская находилась у нас здесь, в Петербурге, а Славянская – в Москве и называлась Славяно-греко-латинской духовной.
– Да, верно, – согласился Десятников. – Именно с неё в 1730 году начал свой путь в науку Михайло Ломоносов. Поначалу он был зачислен учеником этого уважаемого заведения. Но ближе к делу. Мы хотели бы и вас видеть членом нашей академии.
– И тоже в роли ученика?
– Ну нет, конечно.
Из чувства такта я не стал уточнять, какой же чин хотят предложить мне. Спросил:
– Как я понимаю, академия общественная и членство в ней мало к чему обязывает?
Президент пояснил:
– Все академии мира общественные, почти все. Это наши кремлёвские сидельцы, дабы превратить учёных в приводной ремень своей партийной машины, наплодили в академиях наук тьму начальников, положили им высокие оклады. Мы будем свободны от бюрократов и денежных подачек; будем жить на добровольные взносы и пособия богатых людей. Так живёт и возрождённая в вашем городе Петровская академия, и недавно начала свою жизнь наша Славянская.
– Про Петровскую я слышал; на днях туда принят писатель Василий Белов, а вот что есть у нас и Славянская…
– Да, мы ещё в прошлом году создали тут Северо-западное отделение. В него уже приняты тридцать человек. Вы будете тридцать первым.
Десятников уточнил:
– Если, конечно, вас примут на собрании, но мы с Борисом Ивановичем дадим вам рекомендации, и я надеюсь…
Люция Павловна пригласила нас к чаю, и я, провожая гостей на кухню, думал: а не нарушит ли членство в коллективе учёных и деятелей искусств, если, конечно, туда меня примут, так хорошо и чётко наладившийся мой литературный труд?
По привычке литератора «прощупываю» взглядом так неожиданно залетевших из столицы гостей. Оба они производят впечатление людей недюжинных, даже в чём-то необыкновенных. Цветущий мужской возраст, уверенные жесты, энергичная речь, уместные шутки и завидное остроумие – всё в них мне нравится, всё говорит об их высокой культуре, обширной образованности. И невольно залетает в голову мысль о неслучайной природе их положения, является к ним доверие.
Президент сидит у окна и подолгу смотрит на деревья подступающего к нашему дому парка, в оценках людей скуп, события в стране и захвативших в России власть оценивает смело и всем разрушительным действиям новых владык даёт краткие, но глубокие аттестации. Фамилия у него нерусская, но в суждениях он обнаруживает глубоко русскую сущность и даже заметный великодержавный, впрочем, вполне здравый и логичный национализм. Как-то даже вскользь заметил: мы кому угодно, и особенно евреям, позволили быть националистами, но только не себе.
Десятников горячо поддерживает философию своего шефа, но внешне проявляет себя совершенно иначе. Он оживлён, весел, сыплет прибаутками и анекдотами и много, заразительно смеётся. Словом, ведет себя, как и подобает человеку искусства, как яркий, остроумный артист.
Ужин наш длится несколько часов, а затем мы уславливаемся встретиться завтра в полдень на заседании президиума нашего местного Северо-западного отделения Международной славянской академии. Я пока не знаю, что такое президиум, много ли там людей и что это за люди, – излишнее любопытство считаю преждевременным, нетактичным и неуместным.
Расстаёмся мы почти друзьями.
В условленное время с некоторым волнением отправляюсь по названному адресу. В каком-то официальном учреждении небольшой зал, и там уже собрались люди, человек двадцать. Тут сидел полный адмирал, – как я потом узнал, начальник Военно-морской академии Валентин Николаевич Поникоровский, рядом с ним митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн, какой-то епископ, были и мои приятели: академик Фёдор Григорьевич Углов, певец Борис Тимофеевич Штоколов и два-три лица, с которыми я встречался, но даже фамилии их не знал.
В голове невольно поползла неприятная мысль: стоит одному из них выступить против моей кандидатуры, как и другие согласно закивают головами и голосовать за меня не станут. Ведь обо мне молчат радио и телевидение, а газетные критики писали одни гадости, за что же принимать такого литератора в академию?
А тут ещё явилась и мысль, тщательно скрываемая мною от всех знакомых, и даже от самых близких людей, – это моя глубокая, щекотливая тайна: ведь в школе-то я, как обмолвился в предыдущей главе, учился всего лишь четыре или пять месяцев. Иными словами, имею такой пробел в образовании, который мне уж, видно, ничем и не восполнить. А тут вдруг предлагают в академию. Да ещё могут рекомендовать принять меня по квоте члена-корреспондента! Тут уж мне и совсем будет неловко. Ну, какой же я академик! Наверное, мне тут же надо и признаться во всём этом. И я уж хотел было заговорить, хотел раскрыть свою щекотливую тайну, но духом не собрался и промолчал.
Думал о себе ещё и так: вот уж и на пенсию вышел, все зрелые годы позади, и по доброй воле согласился прийти на экзамен, где экзаменовать меня будут такие серьёзные люди, в том числе и митрополит Иоанн, которого сам же признаю за отца Отечества и первого заступника русского народа.
Мне стало жарко от одной только мысли, что вот сейчас начнётся обсуждение и этот великий святой человек тихим голосом произнесёт простые и в общем-то очень верные слова: «Мы не знаем такого писателя, я думаю, что в наш коллектив мы должны принимать самых достойных». Да скажи он такое – и моё сердце разорвётся от обиды и унижения. Зачем же я сюда притащился?..
Подсаживаюсь к Штоколову; он удивлён, видимо, не ожидал тут меня встретить и не очень-то хорошо понимает, почему я сюда заявился. Мне, между тем, тоже не очень понятно, почему это такие близкие друзья, какими я считал Углова и Штоколова, как бы скрывали от меня факт своего членства в Славянской академии. Является скользкая, как червяк, догадка, что не хотели возбуждать моего желания и самому стать членом этого уважаемого коллектива – тогда бы от них потребовалась рекомендация, а затем череда обсуждений, в ходе которых кто-то стал бы доказывать, что я не тот писатель, который достоин звания члена академии, а они бы вынуждены были доказывать обратное, и так далее, и так далее. Словом, мне было неприятно, и я хотя и подсел к Штоколову, с которым знаком уже тридцать лет, но говорить с ним не хотелось, и я сидел молча, оглядывая и изучая лица присутствующих. Борис Тимофеевич тоже меня ни о чём не спрашивал, и я этому был рад.
Заседание вёл профессор Искаков, возле него справа сидел Фёдор Григорьевич Углов. На нём был серый костюм со значком лауреата Ленинской премии на лацкане пиджака, слева от председателя, несколько отстранясь, в удобном кресле важно расположился в золочёном одеянии владыка Иоанн. Искаков коротко и чётко доложил о состоянии дел в академии, выразил надежду, что скоро её Северо-западное отделение станет важнейшим подразделением нашего почтенного заведения и займёт подобающее место в духовном мире России.
Заметил, как члены собрания внимательно слушают президента и как он, воодушевляясь всё более, говорит о том, что же случилось с нашей страной, почему на куски развалилась империя, которую наши предки строили не одно тысячелетие. Речь его, острая, как нож, не щадит сынов Израиля, взорвавших мину под нашей державой, называл конкретных виновников, делал смелые предсказания о каре, которая ждёт предателей и разрушителей.
Меня речь президента завораживала, я понимал, что перед нами смелый боец, и невольно проникался к нему уважением.
Рядом со мной сидели муж и жена; я понял это по тому, как женщина шептала мужу: «Ты не беспокойся, всё будет хорошо, твою кандидатуру поддерживает Десятников, а он у них главный авторитет по линии искусства».
Штоколов наклоняется ко мне, говорит:
– Художник Сорокин. Волнуется. Его будут принимать в академию.
Я посмотрел на лицо художника: оно было бледным, руки его дрожали, и супруга держала их, успокаивала.
Я вновь задумался о себе, о том, что сейчас и меня поставят на обсуждение.
Президент объявляет: «Приступаем к приёму новых членов». Зачитывает рекомендации на художника Геннадия Максимовича Сорокина. Слово берёт Десятников. Коротко, но объёмно характеризует творчество художника, перечисляет выставки его картин у нас в стране и за рубежом. И предлагает избрать Сорокина членом-корреспондентом.
Возражений нет, Сорокина избирают единогласно.
Президент смотрит в мою сторону, и я чувствую, как сжимается моё сердце, жаром занимается голова. Много в своей жизни я сдал экзаменов, закончил два военных училища, военную академию, Литературный институт, но, кажется, нигде я так не волновался, нигде не испытывал такого состояния, о котором можно сказать, что именно здесь решалась судьба всей моей жизни.
Не стану живописать подробности моего избрания по той же квоте – члена-корреспондента, дабы не впасть в соблазн говорить комплименты в собственный адрес. Профессор Искаков и Владимир Александрович дали мне лестную характеристику, их поддержал Углов, сказал хорошие слова в мой адрес и Борис Штоколов, но все другие молчали, из чего я сделал вывод, что моих книг они не читали. Может быть, это и к лучшему: у них не было повода возражать против моей кандидатуры, и они, как и в случае с Сорокиным, промолчали, выразив таким образом согласие.
Поднялся со своего места митрополит Иоанн и, сославшись на необходимость быть на службе в каком-то храме, попросил разрешения удалиться.
Он уже был у двери, когда из заднего ряда чёрный, как цыган, с большой бородой мужчина громко проговорил:
– Ваше высокое преосвященство! Хотел бы выразить мнение всех моих коллег и сказать вам: Патриархом русской православной церкви мы считаем вас, а не того, который в Москве.
Митрополит постоял с минуту, повернулся к нам и чётко проговорил:
– Патриарх у нас один – Алексий Второй. И я его молитвенно почитаю.
Это была минута большого напряжения и всеобщего смущения.
Президент, обращаясь к бородатому, резко произнёс:
– Мы вас не просили говорить от нашего имени. И вообще: я не помню, чтобы мы вас принимали в академию. Назовите вашу фамилию.
– Да, это верно: вы ещё не приняли меня в свою академию, хотя я профессор и за мной идёт целая школа астрофизиков. Меня вы ещё не приняли, а вот Михайло Ломоносов, едва только появился в Москве и был тут же принят в Славянскую академию.
В разговор с ним вступил Десятников:
– Мы этот факт из истории академии знаем, но Ломоносов был принят в качестве ученика академии. Вы же, надеюсь, претендуете на более высокое положение?








