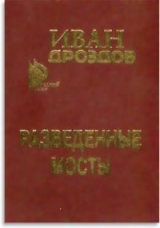
Текст книги "Разведенные мосты"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
– Да, я буду просить вас принять меня по квоте полного академика.
Президент будто и не слышал этого заявления, продолжал свою речь.
Потом было собрание членов Северо-западного отделения, затем в Москве мою кандидатуру, как сквозь жернова, пропустили через большой президиум. И потом последняя инстанция: общее собрание академии. Всего на то время в ней было около пятисот человек, но на собрание пришли, приехали и прилетели двести семьдесят. И здесь меня окончательно затвердили в звании члена-корреспондента.
Вся эта эпопея со вхождением в элитарный клуб не только литературного, но теперь уже и учёного мира, вышибла меня из привычной колеи, но, вернувшись в Петербург с собрания, я снова включился в регулярную каждодневную работу. Теперь я уже писал роман по горячим следам современной жизни и назвал его «Шальные миллионы».
Академики собирались раз в месяц, и это были для меня интересные, волнующие дни. Я знакомился с людьми, которых раньше знал плохо; больше того, не знал совсем по причине их высокого положения. Тут если учёный, то непременно крупный, известный; один возглавляет институт, другой лабораторию – и все имеют книги, учеников, свои школы, а то и направления в науке. Если это артисты, то непременно ведущие: тут был художественный руководитель театра Игорь Горбачёв, всемирно известный певец Штоколов – Народные артисты СССР.
Сказать, что я таких людей не встречал, не могу; без малого сорок лет жил и работал в Москве, занимал видное положение в журналистике, а затем и в писательском мире; наконец, мои книги. Но и все-таки… Тут была публика из самой высшей элиты.
Надобно сказать и о том, как и почему возникла академия и что вызвало к жизни другие общественные академии, которых в советское время у нас не было.
Революция, как известно, царей свергла. Малорослые большевички типа Троцкого и Свердлова, как ненужный хлам, сметали и все прежние общественные институты. Петровская академия по причине царской природы, а Славянская – откровенно русского духа… Их смахнули первыми. Их же в первую очередь и возродили. Другие академии создавались заново: Экологическая, Естественных наук, Здорового образа жизни и другие. Но главная причина их появления – это несправедливость, которая со временем накапливалась в присвоении высоких и почётных званий при советском режиме. Дух еврейского торгашества и междусобойчика проникал во все сферы нашей жизни, особенно туда, где пахло большими деньгами, почётом и высоким положением. К примеру, писательский мир. Сюда в первую очередь хлынули евреи. И этот процесс начался ещё задолго до советской власти. Куприн говорил: у нас всякий еврей рождается на свет с предначертанием стать русским писателем. Потом уж эта зараза стала проникать и в учёную среду. Большая академия СССР и все отраслевые академии постепенно заполнялись людьми еврейской национальности. Русским людям и людям всех других народностей всё труднее было проникнуть через плотное заграждение еврейского монолита. Телевидение навязывало имена учёных, которые ничего не открыли, не написали книг: Арбатовы, Шмелёвы, Аганбегяны, Заславские, Примаковы… И как реакция на это уродливое явление стали возникать общественные академии.
Итак, судьба, любящая в иные времена выкинуть неожиданный фортель, забросила меня на мостик корабля, на котором я никогда не плавал. На одном из собраний меня избрали полным академиком и президентом нашего отделения; мне предложили руководить учёными, в делах которых я ничего не понимал, артистами, художниками, талантами которых я, конечно же, не обладал, и, наконец, педагогами, да ещё и такими, которые двигали вперёд педагогическую науку. Я попал в положение известного американского писателя Марка Твена, который по иронии случая должен был редактировать сельскохозяйственную газету, хотя сам и не мог отличить пшеницы от ячменя.
Ситуация не только парадоксальная, но и в некотором роде комическая, – сюжет, почти готовый для профессионального юмориста, не из тех, конечно, смехачей, которые заполонили все каналы телевидения, но никого не могут рассмешить. Впрочем, один бородатый смехач, – он, кажется, единственный там из русских, как только его пропустил Жванецкий? – так этот странный бородатый сибиряк выкинул такой номер, что рассмешил всю Россию, да, пожалуй, и не только Россию, а и весь свет: он совершенно серьёзно, без тени улыбки на лице, выставил свою кандидатуру на выборах красноярского губернатора и – победил!..
Но этот смехач пришёл из глухой сибирской деревни и влез на телеэкран каким-то чудом. Всем остальным мастерам смеха, хотя они и потомки Чарли Чаплина, и все на одно лицо с Аркадием Райкиным, далеко до того сибиряка. И даже великий русский писатель Жванецкий, пишущий для смехачей местечковые байки, не может придумать для них такой смелый сюжет.
Своего помещения у нас не было, но в моей новой семье были важные именитые люди. При первой же беседе с митрополитом Иоанном я посетовал на отсутствие у нас постоянного помещения. Он сказал:
– А чем плох зал, в котором мы теперь собираемся? Тут и комнаты есть, и порядок, чистота примерные.
– Тут, вроде бы, как я прочёл на вывеске, Православный центр?
– Да, верно, есть такой в Петербурге – Православный центр. В Москве нет, а у нас, слава Богу, есть. И построен он ещё при царе Святом мученике Николае Втором, и он всегда давал приют для богоугодных заведений, а наша Славянская академия…
– Да, да, конечно, но если так, если можно…
– Благословит вас Господь, а я желаю успеха.
Мы старались по возможности не беспокоить Владыку. У него болели ноги, и мы знали об этом. А кроме того, его служебная занятость и писание статей, которые составили новую Библию для русского народа, указали нам противника и с поражающей смелостью и глубиной раскрыли его суть, – знали мы о том, как этот великий старец, называемый патриотами Отцом современной Руси, как Илья Муромец, бьётся на поле брани за будущее наших детей и внуков.
Всматривался в этого человека, внимал каждому его слову. По привычке литератора пытался уловить черты его образа, манеру говорить. Говорил он мало, а всё больше молчал и слушал собеседника, но зато о многом говорили его глаза, его лицо и вся его фигура. Он был весь открыт и устремлён навстречу вам; он весь светился и радовался, и казалось, вот сейчас скажет вам нечто такое, что осчастливит вас на всю жизнь. Было что-то детское и восторженное и в его взгляде и голосе. Он вам верил и сам был готов растворить перед вами душу. Я такое вижу на детских и даже младенческих лицах.
Потом несколько лет спустя меня пригласят во Псково-Печерский монастырь и я там предстану пред очи другого Светильника Земли Русской – известного в Православном мире старца архимандрита Адриана. К тому времени митрополит Иоанн уже отошёл к Богу, и отче Адриан вышел ко мне с епитрахилью, завещанной ему отцом Иоанном. Накрыв мою голову этой намоленной великими людьми и расшитой золотыми узорами тканью, он привлёк меня к своей груди и читал молитвы, прося у Бога прощения моим грехам. Никогда за свою долгую жизнь я не удостаивался такого священного действа. Сняв с головы епитрахиль, отец Адриан как бы вдохнул в меня свежесть молодых лет и вернул мне бодрость минувшей кипучей жизни.
И вот ведь что уж совсем замечательно и вновь поразило мое существо: отец Адриан, как и митрополит Иоанн, светился откровением детской души, и он протягивал к вам руки и звал к новой жизни, туда, где нет печали, а есть одна радость и светлая надежда на что-то большое и вечное.
Иной из моих читателей скажет: восторженный человек! Блажит и вопиёт о радостях, которых в жизни-то очень мало, а другому и совсем не встречаются.
Ну, а это уж – кто и как меня понимает.
Помещение у нас было хорошим, и встречали нас там приветливо. Но все-таки это было не наше помещение и ездить туда было неудобно. Учёный секретарь академии Александр Никитич Золотов, – он у нас из военно-морских профессоров, – предложил обратиться к высшему военно-морскому начальству и даже сходить к мэру Петербурга Собчаку и попросить помещение где-нибудь в центре города, желательно на Невском проспекте.
Вице-президент нашего отделения Владислав Аркадьевич Смирнов-Денисов и бывший большой начальник из обкома партии Николай Сергеевич Пантелеймонов, он же литературный критик, взялись организовать мне встречу с помощником Собчака или начальником его администрации. Сказали мне, что он пишет стихи, выпустил несколько сборников и хотел бы получить от меня рекомендацию в Союз писателей.
И вот я в мэрии, меня принимает молодой чиновник, ему лет сорок, и одет он модно, и ведёт себя с сознанием важности своего сана. Впрочем, есть и нотки некоторого снисхождения к моему возрасту, и желание произвести на меня выгодное впечатление.
Всё это есть, и всё это я вижу, потому что человек играет роль, а всякая роль требует таланта и усилий. У моего собеседника таланта театрального нет, но есть большое желание выглядеть и важным, и могущим решать многие вопросы. Но от моего вопроса, едва я его обозначил, он всё время уклонялся. Больше того: убеждал меня не заводить для академии собственного помещения. Говорил, что теперь всякое помещение, даже самое малое, требует много средств на его содержание, а средств таких у вас нет и не будет, поскольку у вас нет никаких шансов попасть на обеспечение городского бюджета.
Пишу я всё это, а сам думаю: это скучно, это неинтересно для моих читателей, так зачем же обо всём этом писать? И вообще: не напрасно ли я затеял разговор об академии?.. Лучше всё это бросить и взяться за очередной роман, который уже зреет в моей голове и о котором я в ущерб своей настоящей рукописи всё больше думаю. И уж заголовок пришёл для нового романа: «Узник Белого дома». Главный герой мне известен; это Борис Простаков, племянник отставного генерала Конкина, – они живут вместе в станице Каслинской… Это из моего последнего, только что вышедшего из печати романа «Дубинушка»… У меня нередко так бывает: полюбившиеся мне герои переходят из одного романа в другой. Так, может быть, этот новый роман мне и писать, а эти воспоминания тут и закончить?
Я как бы советуюсь с читателем, потому что их, читателей, я причисляю к своим лучшим друзьям. Кажется, ещё Горький сказал: у писателя нет более близких друзей, чем его читатели. Но едва мне такая мысль вспрыгнула в голову, как тотчас явилось и сомнение: а кто же допишет документальный портрет моего времени?.. Ведь я уже написал два романа-воспоминания, основанных на действительно существовавших лицах и событиях. Повторю ещё раз их названия: «Оккупация» и «Последний Иван». Ну, а последний-то период моей жизни – петербургский, как же не рассказать о нём?..
Неприятно писать о том, как я посетил мэрию, но надо же закончить сцену встречи с важным чиновником из городского управления.
Чиновник напрочь-то не отказывал мне в помещении, а этак полушутя-полусерьёзно закидывал такую мысль: странно это, что от вас до сих пор не последовало приглашения его шефу стать членом вашей академии. Шеф-то наш, всё-таки, профессор!
Я эту мысль оставлял без внимания, а мой собеседник все мои вопросы оставлял без ответа. Так мы беседовали битый час и даже на миллиметр не подвинулись к пониманию друг друга.
Я уже было хотел уходить, но тут мне пришла в голову счастливая мысль: а ведь это прекрасный экземпляр для понимания природы современных шустрых демократов, захвативших власть в России! И как же это я, профессиональный литератор, хотел пройти мимо него и ничем не заинтересовался из такого богатого арсенала характерных черт одного из тех молодцов, которые ныне тихой сапой без единого выстрела одолели Россию; того самого, которых имел в виду Достоевский, произнося свою пророческую фразу: «Жиды погубят Россию».
Перво-наперво, я попытался найти в сидевшем, стоявшем и вальяжно разгуливающем по кабинету чиновнике хотя бы одну симпатичную черту. Странное дело! Нет, не находил такую черту! Я не находил не только что-нибудь хорошее или симпатическое, но хотя бы и намёка на приятность и отзывчивость. Он как бы не слышал меня и не понимал. В нём не было благожелательности или сочувствия к моим заботам. Он их не видел. Порой мне казалось, он и меня не видел, а уж что я такое, чем занимаюсь и чем озабочен – да этого для него и не могло быть по той простой причине, что этого и не должно быть. Я для него был воздух, материя без формы, объёма и запаха, и даже не материя, а – ничто, пустота и безвременность. Впрочем, он всё-таки признавал факт моего существования и устремлял в мою сторону свои интересы, а их у него, как оказалось, было много. Диплом академика его шефу – это одно, очень важное и даже необходимое; и ещё было очень важное: моя рекомендация для него самого в Союз писателей. Не больше и не меньше! Он хотел официального признания профессионализма в его поэтических делах. Разложил на столе четыре прекрасно изданных сборника стихов и всё говорил, говорил о том, как нравятся его стихи читателям, какие восторженные отзывы идут к нему со всех сторон. Но почему-то не хотел давать мне эти сборники, а просил записать их названия, даты выпуска и показывал издалека, боясь, как бы я не взял их в руки и не прочел хотя бы один из его стихов. И ещё у него были знакомые учёные, писатели, деятели культуры, которых тоже надо бы принять – одних в академию, а других рекомендовать в Союз писателей.
Все свои просьбы, советы, предложения он проговаривал громко, с пафосом, при этом вставал с кресла и ходил по кабинету. Я заметил, как ярко блестели чёрным глянцем его туфли, какие острые и длинные были у них носы, – такая мода только что нарождалась, – и как эффектно он откидывал полы своего пиджака и каким умелым движением пальцев руки поправлял галстук…
«Да нет, – думал я в отчаяние, – нового хозяина глупой России понять не так просто, он во всём похож на обыкновенного человека, – и даже на русского! – но он, конечно же, и не русский, и не обыкновенный. А вот кто он и что он – понять не каждый сумеет. Его душа, для нас чужая, нашему пониманию не поддаётся. Мы, русские, очевидно потому и выбираем их всех в депутаты, сажаем в кресло начальников. Мы всё пытаемся объединиться с этими субъектами; мы всё надеемся, верим… Так уж мы устроены, русские люди!.. Много раз мы пытались соединиться в единое общество, «спасти животишки», но что же из этого выходит?.. Ещё Достоевский, наш пророк, в своей знаменитой пушкинской речи указывал нам, что сущность русской идеи заключается в добровольном подчинении себя себе, в смирении гордости праздного человека, в овладении собой: «Не вне тебя правда, а в тебе самом… Не в вещах правда, не вне тебя, и не за морем где-нибудь, а прежде всего в своём собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнёшь великое дело и других свободными сделаешь».
Ныне пришло время, когда нам кажется, что мы слишком себя усмирили. Но это только кажется. Смирение – неотъемлемая черта силы и величия. Гений Пушкина провидел эту черту русского народа и первым нашёл «твёрдую дорогу, нашёл великий и вожделенный исход для нас, русских, и указал на него. Этот исход был народность, преклонение перед правдой народа русского». Пушкин первый объявил, что русский человек не раб и никогда им не был, несмотря на многовековое крепостное право.
Нам остаётся добавить, что в мире много находилось людей, которые думали иначе. В наше время такие люди сгрудились и в Думе, и в Кремле, и в министерствах. Русские люди смотрят на них и пытаются понять, что же это за такие существа, которые так распалили свой аппетит на наше добро и на нашу землю?.. Пока ещё русские люди мало чего понимают. Да вот и я сижу в кабинете важного чиновника, пытаюсь его разглядеть со всех сторон, но он, как угорь, от меня ускользает».
Скоро сгинет в какой-то гостинице его шеф, вылетит из кресла и его помощник, но… ещё не распознавший своего потрошителя русский народ выберет на их место таких же молодцов.
Умеет маскироваться наш противник. В этом искусстве ему не откажешь.
Хорош и наш русский человек! Долго он чешется и никак не может изловить зловредное насекомое, заползшее к нему под рубашку.
Ну, ладно: чешись, Ваня, чешись, пока в кровь не изодрал свою душу и кожу.
Ещё недавно мне день казался длинным и я многое успевал сделать, а сегодня и неделя кажется короче дня. К старости полёт времени ускоряется, и оно летит с какой-то устрашающей быстротой. Иногда создаётся впечатление, будто бы дьявол хватает вас за шиворот и пытается забросить на небо. Два или три, а может, уж и четыре года прошло с тех пор, когда мне предложили поработать в академии. Я поработал. Теперь уже не тридцать человек в нашем коллективе, а сто. И изрядно устал, мне надоело тянуть две лямки: писать книги и работать в коллективе. И подробности академической жизни мне выписывать не хочется. Не хочется сотворять вторые «Записки Пиквикского клуба». Тут нужен талант Диккенса или на худой конец Жванецкого, чтобы наполнять житейские пустячки большим смыслом и юмором. Я не умею. Да и время наше не для смеха. Это Винокуры и Хазановы со своим кулинарным техникумом, словно черти, выпрыгивают из банки и скачут по сцене, стучат копытами, оглушают зрителя истошным хохотом. Им, как видно, в радость наше чумное время. Но я человек русский, и в этом горечь моего положения.
В некотором роде жизнь моя приняла то направление, которое было и в Москве в пору моей работы в «Известиях», а уж потом и в издательстве «Современник», с той лишь разницей, что эта моя новая служба не обязывала меня отдавать ей каждый день с утра и до вечера и торчать по целому дню в учреждении. Подбор новых членов, оформление документов брали на себя мои помощники, а телефонные звонки, – их было очень много, – взяла на себя Люция Павловна. Правда, от писания романов меня сильно отвлекала Москва; туда я ездил по шесть-восемь раз в год, выступал на конгрессах и «пробивал» новых членов. Каждого из них надо было представить, отстоять на большом президиуме, а затем на общем собрании. И все-таки, я продолжал писать свои книги. Обдумывал ходы, сюжеты, эпизоды очередного романа. Поднимался в четыре часа ночи и писал свою норму, а она у меня была прежней: две-три машинописных страницы. Люша взяла на себя редактуру, корректуру и окончательную компьютерную подготовку. Взяла она на себя и все хлопоты по делам издательским и типографским. Я даже не знал всех сотрудников в издательстве, работавших над моим романом, и тем более типографских. Замечу тут кстати: компьютер почти вдвое упрощает и ускоряет работу над созданием книги. И, может быть, потому я каждый свой роман писал примерно год, а затем через два-три месяца книга в красивом и дорогом оформлении уже попадала к читателю.
«Помогал» мне и Удельный парк, в тени деревьев которого я каждый день в любую погоду уединялся и думал, думал. Проживший сорок лет в Москве и привыкший к столичной сутолоке, я наслаждался прогулками по парку. Не знаю, есть ли ещё такие парки в Петербурге, но в Москве я таких красивых и лесоподобных парков не знал. Тут наряду с окультуренными уголками, площадками для детских игр, всевозможными аттракционами можно встретить и уголок совершенно дикой, не затоптанной человеком природы. Тут и обширный пруд, где летом плавают дикие утки, и два стадиона, и база отдыха для спортсменов. Я хоть и не часто, но регулярно посещаю церковь Дмитрия Салунского. Послушаю проповедь, постою у иконы моего любимого святого Николая Чудотворца и возвращаюсь домой по тропинкам, где мне хорошо думается.
Есть у меня и приятели по Удельному парку. Я никогда не звоню им, не приглашаю гулять, но как-то так получается, что нередко с ними встречаюсь на аллеях, близких к нашему дому. Один из них Кирилл Иванович, другой Семёныч. Кирилл Иванович ходит прямо, голову несёт высоко и хотя не смотрит на идущих ему навстречу людей, но каждого видит. Однажды он подошёл ко мне, по-старинному снял кепку, сказал:
– Мы, кажется, живём с вами в одном доме и вроде бы в соседних подъездах?
– Да, я вас видел во дворе нашего дома, но не имею чести быть с вами знакомым.
Мы познакомились. Он шёл со мной рядом и скоро сказал:
– Я слышал, что в нашем городе открылась Международная славянская академия. Не знаете ли вы, где она находится?
Я назвал адрес и сказал номер телефона учёного секретаря. Однако распространяться на эту тему мне не хотелось.
Мы подошли к моему подъезду, и я сказал, что тороплюсь, и простился со своим новым знакомым.
На следующий день, возвращаясь с прогулки, я снова встретил Кирилла Ивановича. На этот раз с ним был и другой человек, которого я знал давно и который немало меня озадачивал, – Семёныч. Это он в день моего приёма в академию вслед уходящему с нашего собрания митрополиту Иоанну громко проговорил: «Вы у нас Патриарх русской церкви!..»
Семёныч не был членом академии, и никто из нашего коллектива не мог толком сказать, что он за человек, каково его положение в учёном мире, и только говорили, что он преподавал в Ленинградском университете и будто бы имел звание профессора, но толком никто ничего не знал, а я и не добирался узнавать ничего о нём потому, что не хотел бы его видеть в нашем коллективе. Была между тем и одна неловкость, связанная с ним: он регулярно посещал собрания академии, и даже приходил на заседания президиума. Демократический дух нашего сообщества был на такой высоте, что никто и не осмеливался спросить, а почему собственно он посещает все наши собрания?
Прошло уж года два с тех пор, как я впервые увидел его в Удельном парке, и едва показался в его поле зрения, как Семёныч тотчас же с распростёртыми руками кинулся ко мне навстречу. Я тогда вынужден был выбирать такие маршруты, где бы он меня не достал, но он стал поджидать меня на подходе к дому. Вот и на этот раз они встречали меня вместе с моим новым знакомым. Семёныч, держа за руку Кирилла Ивановича, говорил:
– Я рад, что вы живёте в одном доме, а мы с Кириллом знакомы тридцать лет. Он тоже физик и знает, что я являюсь основателем трёх наук, – стоял, можно сказать, возле их колыбели. А Кириллыч!.. Это же готовый член Славянской академии. И не какой-нибудь там член-корр, а полный академик. Он же двадцать два года возглавлял институт, правда закрытый, и я не могу его называть, но вот вам кадр, и я готов за него поручиться. Кириллыч теперь на пенсии, и он охотно будет работать в академии.
Тут самое время рассказать немного подробнее о самом Семёныче. Иногда, гуляя с ним по парку, я попадал в самые щекотливые положения. Зимой, к примеру, стоят на аллее пять человек, – с виду пенсионеры, лица восточные – не то армяне, не то евреи. Двое с палочкой. Семёныч, выступив вперёд, возглашает:
– Привет, ребята! Что нахохлились, носы повесили?
«Ребята» поворачиваются к нам, смотрят с недоумением. Семёныч недолго испытывает их любопытство. Тронув палку одного пенсионера, тряхнул своей чёрной, как лопата, бородой:
– Молодой, а с палкой. Да я в твои годы на лыжах тут летал, как ветер.
Кто-то спрашивает:
– А сейчас чего же… не летаешь?..
– Возраст. Я уж по годкам-то скоро Насафануила догоню.
– Сколько же тебе?
– Две восьмёрки недавно исполнилось.
Потом наклоняется ко всем сразу, тихо, доверительно говорит:
– Нам с вами домой нужно, домой, братцы. А то поздно будет.
– Наш дом рядом, – говорит тот из них, что помоложе. Мы вот тут, на краю парка живём.
– Я говорю: домой. Туда, значит, к себе на Родину. Я же вам русским языком сказал.
Разговор принимал неприятный оборот, и я, простившись со стариками, направляюсь к дому. Семёныч догоняет меня и спрашивает:
– Вы, конечно, догадались, что это за публика?
– Да, я не однажды видел их, но не хотел бы вышучивать таким образом.
– Пусть знают: возмездие грядёт! Каждый из них получит по заслугам.
На это я ничего не сказал, а Семёныч затем долго не повторял подобных шуточек.
Однажды я встретил их с Кириллом Ивановичем во дворе нашего дома и услышал издалека громкий разговор. Кирилл Иванович был чем-то взволнован, говорил и размахивал руками.
– Да что вы ко мне пристали с этой вывеской? Полезайте сами под крышу и сдирайте её. Мне она не мешает!
– Позвольте! – вскинулся Семёныч. – Как это не мешает, если она портит весь фасад дома. Люди идут и смотрят: рука указывает пальцем в сторону двора и – аршинными буквами надпись «Фотомастерская». И идут к вам, идут, а мастерской нет. Как же можно терпеть такой непорядок?..
Кирилл Иванович всплескивает руками и поворачивается то вправо, то влево. Лицо его красное, глаза гневно сверкают.
– Послушайте! Отстаньте вы от меня с этой вывеской! Вам она мешает, вы и сдирайте. А мне она не мешает. Пусть хоть сто лет висит!..
Теперь всплескивает руками Семёныч.
– Да мне-то зачем эта вывеска? Я здесь не живу, а вы живёте. Вам и отвечать за порядок в доме и вокруг дома. Я недавно был в Германии. Так там во дворах и близ подъездов соринки не увидишь. А тут вы что развели?..
Кирилл Иванович плюнул и метнулся прочь к своему подъезду. Семёныч вслед ему рассмеялся и, повернувшись ко мне, заключил:
– Я с ним уж второй раз провожу беседу об этой вывеске. Пусть он мне ещё встретится, я его доконаю.
– Да зачем же вы его мучаете?
– Зачем?.. О-о, я знаю, зачем, но расскажу вам как-нибудь в другой раз. А в академию, если он попросится, вы его не берите. Скверный мужичонко!
Я простился и пошёл к своему подъезду.
Семёныч скоро и со мной соорудил каверзный эпизод. Он будто бы по моему поручению позвонил знаменитому математику академику Владимиру Ивановичу Зубову и предложил ему стать членом нашей академии. И, как мне вскоре доложили, Владимир Иванович будто бы ему сказал: «Я бы пошёл в вашу академию, но только в качестве её президента». Я много лет знал Владимира Ивановича, бывал у него дома, а он, будучи на сессии Академии наук СССР, заезжал ко мне на дачу. Сбитый с толку забавным казусом, позвонил Владимиру Ивановичу, сказал, что давно хотел пригласить вас в академию, но кто-то сделал это за меня. И будто вы изъявили желание не только стать членом нашей академии, но и возглавить её. Я этому обрадовался и видеть вас нашим президентом очень бы хотел. Владимир Иванович рассмеялся и проговорил своим приятным дружелюбным баритоном: «Дорогой Иван Владимирович! Да что вы такое говорите? Я рад, что именно вы избраны на эту должность, хотел поздравить вас, да, видимо, забыл. Я, конечно же, рад буду стать членом Славянской академии, если на то будет ваша поддержка. А сказал я так Семёнычу, потому что знаю, какой это несерьёзный человек, и знаю также, что он не является членом вашего коллектива. Простите меня за шутку».
Я был обрадован таким оборотом дел, решил, что мы примем Владимира Ивановича по квоте академика, я поработаю ещё с полгода, а там попрошусь в отставку и предложу его на своё место.
Зубов как нельзя лучше представлял тип учёных, которых мы приглашали в свой коллектив.
Я бы не исполнил своего долга перед родным русским народом, да и перед всеми другими народами недавно разрушенной Российской империи, если бы не растворил хотя бы узенькой щели, через которую можно заглянуть в то драматическое время, когда над нашей страной сгущались чёрные тучи приближавшейся исторической трагедии – обвала Российской империи. Лишь на краю пропасти, у которой оказалась Россия, главный сторож Нашего Дома Крючков сиплым голосом пролепетал: нас разрушают «агенты влияния». И трусливо отполз в кусты, спрятался от суда народа. Но «агенты влияния» уже были в Кремле, и на Старой площади в ЦК коммунистической партии. Они крепко вцепились в рычаги правления и потащили нас в пропасть. На тот период приходилась полоса моей активной журналистской, писательской и издательской деятельности; я видел много больше, чем рабочие и крестьяне, и теперь обязан поведать моим современникам и будущим поколениям русских людей о своих наблюдениях. Да, «агенты влияния», люди, старавшиеся утвердить у нас прозападные ценности, – по большей части это были евреи, полуевреи и связанные с ними кровным родством, а таких было много, на триста миллионов населения страны миллионов тридцать-сорок, – вся эта тайная, невидимая простым глазом рать не сразу забежала во все властные структуры; они, как тараканы, клопы и блохи, поодиночке и небольшими стайками заползали во все управляющие кабинеты и создавали ту, известную физикам и химикам критическую массу, при которой происходит взрыв. Они разогревали котёл, где скоро закипят этнические войны, о которых поэт напишет:
На этнической войне снайпер не стреляет,
На этнической войне пули не свистят…
На этнической войне фронта нет и тыла,
На этнической войне враг внутри страны.
Об этом теперь создано много книг; я и сам посвящаю все свои писания исследованию этого процесса, стараюсь показать борьбу сторон, силу врага и слабость наших рядов. Не стану тут повторяться, но теперь из глубины колодца, в который нас погрузила история, я всматриваюсь в небо, где сияют звёзды и ещё не погасла для русского народа надежда, и вижу многое из того, что не успел или не сумел ещё сказать в своих книгах. А сказать, ох, как надо! Ведь мне без одного дня восемьдесят. Ведь сверстники мои, свидетели разыгравшейся в нашей судьбе трагедии, уходят. Снаряды всё ближе ложатся и в моём квадрате. Надо рассказать, надо прокричать не однажды уже слышанное нашими предками: «Люди, будьте бдительны!..»
Итак, повторяю: тараканы, клопы и блохи заползали к нам под рубашку не сразу. Мы давно слышали шелест их лапок, растекавшийся по всему телу чесоточный зуд и ловили их по одному, прижимали к ногтю, но разглядеть всю рать паразитов не могли.
Капитан, стоявший у руля государства, Сталин, увидел их раньше других, давал им щелчки по носу и лишь в конце своей жизни замахнулся кулаком, хотел ударить, но… не сумел. Не хватило ему мудрости и силы, хотя как раз в то время и кричали о нём на всех углах: и мудрый, и великий, и такой уж полководец, что равного ему во всём свете и не было. Но и такой вот полководец – не сумел.
Я как раз в то памятное для всего человечества время работал собственным корреспондентом газеты «Сталинский сокол» при штабе Московского округа Военно-воздушных сил, которым командовал генерал-лейтенант Василий Иосифович Сталин, сын вождя. И хотя по малости своего чина общался с ним редко, но кое-что видел.
Пёстрые картинки того времени я изобразил в книге «Оккупация». Заметьте, «Оккупация». Я не оговорился, не прилепил на обложку книги бездумное слово. Именно, оккупация. Ни больше и ни меньше. Оккупация. И это сразу после войны! Какая же оккупация, если мы только что отбросили эту самую оккупацию и оставили на полях сражений двадцать миллионов ребят?.. И, все-таки, повторю ещё раз: оккупация! Одну, немецкую, отбросили, а другая, американо-еврейская, уж брала в кольцо великую Российскую империю. Американский дипломат, наблюдая в 1945 году Парад Победы на Красной площади, заметил: «Ликуют! А того не понимают, что война с ними только начинается». И Сталин видел начало этой новой войны. Видел, конечно, не мог не видеть, но по какому-то наваждению творил невероятное: Жукова отправил в ссылку командовать игрушечным Одесским военным округом, Рокоссовского шуганул ещё дальше в Польшу, куда-то запрятал Кузнецова, расстрелял умнейшего из своих приближённых и убеждённо русского человека Вознесенского. А с кем же остался? Пляшущий еврейский танец под музыку еврейки-жёнушки хитрец со славянской физиономией Молотов, маршал с лакейской душонкой – и тоже под еврейским каблучком – Ворошилов, старичок с козлиной бородкой Калинин – и он, женатый на иудейке, тоже приплясывал еврейскую ламбаду, а дальше уж и вовсе хоть плюнь: Берия, Мехлис, Каганович, Микоян… Ни одного русского человека! Заметьте: ни одного! Ведь не назовёшь же русским русского, женатого на еврейке! И с этой-то рок-бандой да на «агентов влияния»!.. Чем не суворовский ход: Кагановича бросить на Мехлиса!








