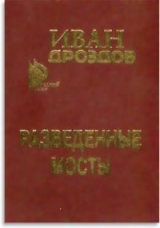
Текст книги "Разведенные мосты"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
В такие-то вот времена обыкновенно народ и обращает взоры к своей родимой отечественной интеллигенции и как бы спрашивает её: где же вы были, господа хорошие, как вы позволили, куда вы нас завели?.. Заметьте: не правителей спрашивает, а интеллигенцию. С чиновником всё обстоит просто: дали ему по шапке и дело с концом, а вот интеллигенция!.. Она за всё в ответе.
И в самом деле: народ выделил из своей среды самых дельных, способных; послал в города учиться, не жалел ни денег, ни труда своего, а они – проглядели, вовремя не забили тревогу.
Самый просвещённый, элитный слой нации, на создание которого тратятся столетия, можно сравнить с фронтовой разведкой, которая должна видеть врага, разгадывать все его коварные замыслы и поднимать народ на борьбу. И так от века, такова у неё задача. Она ведь голова нации, глаза и уши родного племени.
Пишу я всё это, а сам думаю: ну, это ты такой высокий смысл вкладываешь в слово интеллигенция, а другие-то люди по-иному на неё смотрят. Бывает же и такое услышишь: интеллигентик вшивый! А то очкариком назовут, червяком книжным. Вон тут сколько уничижения! Иной услышит такую аттестацию, перекрестится и скажет: слава Богу! Я-то никогда не был интеллигентом, и уж, верно, не буду им.
Что же это за зверь такой – интеллигенция?.. В особенности наша, доморощенная, российская?.. Почему это именно её на всех крутых поворотах истории так клянут неистово?
Судьбе угодно было сунуть меня ещё и в самую гущу интеллигентства, в коллектив, где одни профессора, да ещё и неординарные, а идущие впереди своего клана, ведущие за собой школы учёных или деятелей культуры, – как бы это сказать поточнее, командный состав профессорских войск. Пять лет я варился в их котле, тёрся бок о бок с этими людьми. Ну, а если я литератор, если мне и сам Бог велел наблюдать, изучать, а затем изображать словами, тут уж крути не крути, а рассказать читателям о своих наблюдениях надо.
Забегая вперёд, скажу: народ наш, академический, мне понравился; чем больше я узнавал своих коллег, тем большим уважением к ним проникался. Люди тут не просто достойные, а такие, которых по праву можно назвать элитой русского народа, душой, головой и сердцем нации. Ну, а тем, кто привык во всех грехах обвинять русскую интеллигенцию, мог бы сказать: она, интеллигенция, тащит свой народ к вершинам прогресса, а если уж на пути к прогрессу что-нибудь случается, то не мешало бы народу, прежде всего, на себя посмотреть и поразмыслить на досуге, где он промахнулся и что он не так сделал.
Интеллигенция, как я понимаю, от слова интеллект, то есть умный, развитой, учёный. Другой же, как мы уже сказали, с ходу честить её начинает. У одного в голосе восторг и уважение – ну, как бы чудо какое перед ним, а другой небрежно обронит и даже рукой махнёт: дескать, а-а… знаем мы их, видали. Даже Маркс какой-то там профессорский кретинизм отметил. А третий будет слушать и думать, и затем собственный суд произнесёт.
Ну а я что могу сказать? Не стану заглядывать в словари; там есть толкования всех слов и понятий, особенно если раскроешь толстые книги о словах многомудрого казака Луганского Владимира Ивановича Даля. Не стану потому, что с течением времени слова наполняются новым содержанием и нередко превращаются в свою изначальную противоположность. Призову на помощь опыт своей жизни. Теперь я тоже состою в сословии интеллигентов, но я в этом сословии не родился. Судьба протащила меня через много сословий, и я теперь могу сопоставлять и сравнивать.
Тут я, наконец, сообщу факты из своей биографии, о которых я не любил распространяться. Теперь же, когда заговорил о природе интеллигенции, я подробно расскажу и о том, как и какими путями я пришёл в эту почтенную компанию.
Где-то я уже говорил, что в школе не учился, но как и почему это произошло в моей жизни, никому не рассказывал. И не потому, что в этом есть какая-то для меня неловкость, момент неприличия или какой-то вины. Нет, конечно, ничего предосудительного в этом я не вижу. С писателями это часто бывает: пробел в знаниях, в учёбе, а то и совсем не ходил в школу или почти не ходил. К примеру, Семен Подъячев. Простым хлеборобом был и для учёбы времени не оставалось. «Записки из работного дома», повесть «Зло» писал в нетопленой крестьянской избе. Сидел за столом под иконами в полушубке, а рядом телёнок стоял и угол его полушубка жевал, а он писал. И как писал-то! Максим Горький, прочитав его произведения, сказал: нельзя считать себя культурным человеком, не зная Подъячева. Да и сам Максим Горький, как мы знаем, университетов не кончал, а всего лишь шестигодичную церковную школу едва одолел. И много подобных примеров в истории есть. Великий физик Фарадей был и совсем неграмотным; на пальцах объяснял открытые им законы электричества, и наш великий хлебороб Терентий Мальцев не переступал порога школы, а между тем стал почетным академиком Сельскохозяйственной академии. Да и Василий Иванович Чапаев «академиев не проходил». Много примеров наберём в истории. Одно только меня смущало: никто из них не скрывал своего малограмотейства, а что до меня, так я трусливо умалчивал этот факт своей биографии. Сейчас же расскажу подробно о своих университетах, освобожу от греха свою душу, тем более что мой путь в писатели и академики характерен был для времени, в которое я жил и пока что, слава Богу, живу.
Тут надо признаться, что я и вообще-то склонен преувеличивать значение своих промахов и проступков, особенно в случаях, когда они продиктованы не самыми высокими побуждениями, и это беспокойное свойство ещё более обострилось у меня с тех пор, когда мои книги заметила церковь и милостиво обласкала меня своим вниманием. Я больше стал бояться, как бы нечаянно не совершить грех, стал больше думать о Боге, о той вечной жизни, которая ждёт каждого из нас. И хоть мой духовник старец Адриан сказал, что мне не обязательно соблюдать все обряды, но и всё равно: я стал чаще посещать церкви, зажигаю свечи за упокой и за здравие близких мне людей, и хоть не часто, но причащаюсь. А когда встречусь со старцем Адрианом или с отцом Владимиром, священником Рождественского храма, то и поделюсь с ними тайнами своего сердца, послушаю их мудрые советы. Служители церкви уполномочены самим Богом на делание добра – им и доверяешь, к ним тянешься душой.
Стал вспоминать, в какой из книг я рассказывал о своей жизни в голодные тридцатые годы, – да, рассказывал, и поведал немало, но все свои злоключения я «подарил» героям своих книг, всюду угадывается моя собственная жизнь, но лишь угадывается, а системно и толком я о своих «университетах», о партизанских наскоках на науку не рассказал, а надо это сделать, надо наконец «во всём признаться» и тем как бы поставить свою душу на место.
Итак – биография. Не учился в школе. Почему не учился? Как такое могло случиться, если с моего поколения началась в России эпоха всеобщей грамотности? Да, мои сверстники, голопузая ребятня побежала в школу, и я, едва мне исполнилось семь лет, с волнением переступил её порог и проучился две-три недели, но в конце сентября наступили холода, и я по причине отсутствия одежды прервал своё образование.
Не дремал и враг; много он расставил мин на пути моего поколения, много жертв от нас потребовал. Военные историки подсчитали: Великая Отечественная война из сотни моих сверстников – ребят, рождённых в 21-м, 22-м, 23-м и 24-м годах – из сотни лишь три счастливца в живых оставила. А сколько людей покосили голод, репрессии, раскулачивание!
В начале тридцатых годов прошлого столетия по русской деревне прошёлся каток реформ, – их делали большевички в кожаных тужурках, из той же неуёмной породы, что и Грефы, Кохи, Жириновские, Хакамады и прочие Явлинские да Гайдары, что и теперь стоглавым огненным змеем налетели на Россию. В сусеках нашего дома под метёлку вымели муку, зерно и крупу, со двора свели корову, овец и свиней. Орудовали отряды милиции; им помогали головорезы из породы бездельников. Помню, как мы, младшая часть семьи, – а семья состояла из двенадцати человек, – залезли на полати, свесили оттуда русоволосые, синеглазые головки, смотрели и ничего не понимали. Мама билась на полу в истерике, отец сидел за столом, опустив на грудь голову.
Деревня наша Слепцовка, бывшая некогда собственностью писателя Слепцова, стронулась с места, по единственной улице неспешно двигались повозки с домашним скарбом, с малыми детишками. Взрослые плелись сзади. Уезжали. Куда?.. Неизвестно. Куда глаза глядят, туда и ехали. То была осень 1932 года. Наступал 1933-й, страшный и голодный.
Наш отец Владимир Иванович отправлял взрослых ребят на заработки. Старших сынов Дмитрия и Сергея посылал в Тамбов к мастеру валяльщику валенок. Семнадцатилетней сестре моей Анне и пятнадцатилетнему брату Фёдору сказал:
– Поезжайте в Сталинград на строительство Тракторного завода. И Ванятку с собой возьмите – город не даст ему пропасть.
Мне едва исполнилось восемь лет. Страшно было представить, что поеду в большой город со звучным и грозным именем Сталинград.
Приведу здесь начальные строки моего романа «Ледяная купель». Там этот драматический эпизод нашего отъезда из деревни. По сюжету романа персонажи другие, но сам отъезд описан именно таким, каким он мне и запомнился:
«Буланая измождённая лошадь с трудом тянула санный возок по весеннему бездорожью.
– Ну-у, пошла! – взмахивал кнутом Фёдор, рослый парень лет двадцати. Привалившись спиной к стенке возка, сидел Артём – младший брат Фёдора… По обочине дороги шёл их отец Владимир Иванович Бунтарёв. Нескорым и нетвёрдым шагом следуя за санями, он временами останавливался и смахивал с побелевшего лица крупные капли пота. Владимиру Ивановичу нездоровилось, в глубокой печальной думе опустил он голову.
Фёдор поворачивался, говорил:
– Ступай домой.
Младший тоже советовал:
– Иди домой, пап. Мать печку истопила, отлежись. А мы, чай, не маленькие, одни доедем. Вон вётлы дубовские показались, скоро и деревня выглянет».
А скоро мы и в Сталинград приехали. Поселили нас в барак: мы с Фёдором в мужской половине, Анна – в женской. И всё бы ничего, нам пока хлеба не давали, но вскоре карточки выдать обещали, Фёдор учеником электрика работал, Анна на кирпичном заводе, а меня в школу собирали. Но тут беда приключилась: Фёдора током сильно ударило, в больницу он попал, а я к Анне перешёл. Но в женском бараке мне жить не разрешили, комендант сказал: «Убирайся!» Схватил за шиворот и вытолкал на улицу.
Жил с ребятами в пещере на крутом берегу Волги.
Вот отрывок из романа: «Оккупация»:
«Кто-то из кармана достал несколько картофелин, кто-то чистил морковку, свёклу – и вот уже котелок висит над костром, и снег, набитый до краёв, превращается в воду, и всё варится, парится, а я облюбовал себе свободный уголок пещеры, – тут сено, клочок соломы и лоскут вонючей дерюжины. Я устраиваюсь поудобнее и – засыпаю.
Я хорошо помню, как в те первые часы моей жизни в пещере Бум-Бум, ставшей мне прибежищем на четыре года, я уснул крепко и увидел во сне родную деревню, и родимый дом, и отец сидит в красном углу под образами, а мама тянет ко мне руки и явственно слышу её голос: «Иди ко мне. Ну, Ванятка, сыночек мой. Ты теперь дома и никуда больше не поедешь. Иди ко мне на ручки».
И ещё помню, как проснулся я в пещере, увидел, что нет у меня ни дома, ни отца, ни мамы… Страшно испугался и заплакал. И плакал я долго, безутешно – ребята смотрели на меня, и – никто ничего не говорил».
Голод в 1933 году по всей Российской империи прошёлся, но особенно жестокий он на Украине был и по берегам Волги катился вниз по течению к бывшей хазарской столице Астрахани. На крутом глинистом обрыве правого берега, из которого глину для строительства домов брали, в уютной пещере с видом на Волгу поселилась дружная ватага бездомных ребят, в которой я был самым младшим. У нас и свой атаман объявился – парень лет пятнадцати в красной бескозырке с надписью на чёрной ленте «Ермак». Так мы его и называли «Ермак».
Жизнь-то она и такая бывает! Вместо избы тёплой небо звёздное над головой, простор от горизонта до горизонта. Воля! Нет тебе ни работы, ни школы, и никаких других забот. Когда хочешь ложись, когда хочешь вставай. Одно только маленькое неудобство: есть нечего. Воду пригоршней из Волги черпали, а вот с едой как-то сразу не заладилось. Большие парни, – тоже из бездомных, – нам говорили: плохо это, конечно, когда есть нечего, но вы привыкайте. Еда не для всех приготовлена. Птичкам разным тоже еду не дают, а ничего, живут же. И вы будете жить. Кто-то и помрёт от голода, его в Волгу бросите, а другие выживут.
Четыре года я без еды прожил и – ничего. Что-то и ел, конечно; Бог без попечения никого не оставляет; когда случай какой подвернётся, а когда удача – выжил. И теперь всему миру свидетельствовать могу: человек не только без крыши, но и без одежды, и даже подолгу без еды жить может.
И вот ведь что важно, и о чём бы я хотел сказать: беспризорный люд – это тоже сословие. В тридцатых годах прошлого века в этом мире миллионы оказались. Господа демократы, Жириновские всякие – большие мастера вымаривать и выстуживать русского человека, а он, русский человек, всё живёт и живёт. Но я вот зачем эту свою жизнь вспомнил: много я в том мире хороших людей встретил – и честных, и добрых, и по-своему умных. А иногда встречались и такие, которым и сейчас подражать хочется. Вот ведь оно в чём дело: дух интеллигентства даже и там был!
Есть у меня роман автобиографический «Ледяная купель». Там я о гибели своего атамана рассказал. Вот как это было:
«Но тут над самой головой Артёма раздался строгий и зычный голос Одесского Ивана:
– Ермак! Дай мне камушек, который ты позычил у отца Дионисия.
По снежному насту неспешно и тяжело хрустели шаги. В правой руке Ивана был пистолет. Ермак растерянно пятился назад. Он сжался стальной пружиной, выдвинул вперёд растопыренные пальцы – сторожко шагал назад, не спуская глаз с надвигавшегося врага. А враг шёл, тяжело ступая по свежевыпавшему снегу, и, казалось, ничто не может отвратить беды. Артём оглянулся: двое раненых умывали лица волжской ледяной водой, третий, опустив в растерянности финку, стоял в стороне, Копчик и Чиляк сидели в укрытии.
И вновь зычный голос:
– Отдай Розу!
Ермак кинул взгляд назад, видно, ждал подкрепления. Перебрал пальцами: между ними сверкнули лезвия бритв. Ещё взгляд назад. И вдруг встал, распрямился. Скрипуче-пронзительно раздался его голос:
– Хорошо, хорошо!.. Ты подходи ко мне ближе, я покажу тебе, как бушует щерное море!..
Иван выстрелил. Ермак вздрогнул, выбросил вперёд руки, и с ладоней, одна за другой, скользнули узенькие полоски металла – некогда грозное оружие атамана. Неверными шагами он подошёл к камню, возле которого минуту назад одолел своих врагов, обхватил его, сполз на колени. Повернул голову к подходившему Ивану, и Артём явственно увидел, как по щекам Ермака покатились слезинки – может быть, сердце его, закалённое в жестоких схватках с судьбой, смирилось перед лицом смерти. Иван вновь вытянул руку с пистолетом, хотел добить Ермака, но Артём, стоявший рядом, казалось, помимо воли своей, движимый импульсом мгновенно вспыхнувшей жалости и обиды, вырвал пистолет у Ивана, кинул в Волгу. Иван опешил, отступил назад, смотрел на Артёма, страшно поводя белками глаз. И будто бы вспомнив что-то, метнулся к Ермаку, выхватил из грудного кармана бумажник. Но в то же мгновение Артём рванул бумажник из рук Ивана. Тот совсем опешил, даже присел от неожиданности. А Артём, сжавшись стальной пружиной, не ведая, что творит, шёл с кулаками на одесского атамана.
– Нечестно, дядя, бьёшься, – выдыхал Артём хрипло. – С наганом-то каждый…
Иван, приняв его за сумасшедшего, пятился к барже и жестом руки подзывал кого-то. Не сразу понял Артём, что драться с ним атаман боится, зовёт на помощь другого. Но Артём шёл всё быстрее. И тогда Иван выхватил из кармана финку. Артём закипел, затрясся.
– Нечестно, дядя!..
Атаман остановился, далеко вперёд вытянул руку с финкой.
«Боже мой! Как он здоров! Он и без финки любого молодца в землю вгонит».
Думал так Артём про себя, но шагу прибавлял. Тяжело висели кулаки по бокам, свинцом наливались мышцы. Урки ближе подошли к ним, дивятся с тайной завистью и восхищённо смотрят на безоружного смельчака, рискнувшего сразиться с атаманом, потому что ни в городе Одессе, ни в Ростове, ни в Волжске не было и не могло быть урки, решившегося бросить вызов Ивану, и по всем неписаным законам воровского мира такого не предполагалось; потому-то и стояли урки в позе каменных изваяний, и ждали, заворожённые, развязки необыкновенного эпизода.
– Нечестно так… с ножом-то… – чуть слышно говорил Артём, и уже неземной, нечеловеческой силой полнилась его грудь. Он, кажется, слышал потрескивания суставов в пальцах рук, в ушах гудел звон колоколов. Наверное, вот так же дед Михайло шёл на противный ряд в кулачном бою, и от его удара никто уж подняться не мог. Вспомнил наставления бабушки: «В гневе наш род страшен – помнил бы ты это, внучек».
Лицо бандюги перекошено злобой, финка поднята высоко, блестит.
Коршуном бросился бандит – Артём ловко захватил руку с финкой, другой рукой, что было сил, толкнул под дых. Ойкнул бандит – финка скользнула к ногам, повалился в снег. Потом встал, сделал несколько шагов к берегу, упал на льдину. И в тот же момент льдина раскололась на две части, и та часть, на которой кровью исходил Артёмов противник, оторвалась от берега, закружилась, смешалась с другими льдинами, устремилась в чёрное бурлящее разводье.
Постоял Артём на берегу – не помнит сколько. Машинально финку поднял, в руках повертел. И, ни на кого не взглянув, побрёл по берегу – в сторону Тракторного завода.
– Артё-о-ом!..
Повернулся: Филин сын к нему идёт. Вынул Бунтарёв Ермаков бумажник, сунул в него газету с заметкой о Розе, бросил следователю. И хотел идти, но повернулся, сказал чужим голосом:
– От меня отстаньте. На завод пойду… работать.
Филин, словно истуканчик, кивал головой, а сам крепко прижимал к груди бумажник. Он, верно, не знал о заметке в газете, верил: тут она, Жёлтая роза.
Артём двинулся по берегу на север в сторону рабочих посёлков.
Впереди, на фоне синего неба, летели к облакам трубы Тракторного завода».
Эпизод этот списан почти с натуры. Многое позабылось из той поры моего детства, но вот бой деревенского парня с главой одесских уркачей и сегодня в мельчайших подробностях стоит перед глазами. Не учён был грамоте Артём, никто не прививал ему правила поведения в жизни, а вон какой высоты подвиг совершает он в отместку за смерть своего товарища! И когда я затем на фронте буду командовать взводом артиллеристов, а потом и батареей, Артёмово благородство как бы само собой вело по дорогам войны, помогало держаться, стоять и побеждать.
Прожил я в беспризорном мире четыре года. Тут была моя и школа, и наука жизни, – и, может быть, самое главное: тут я получил знаний куда больше, чем за то же время получили мои благополучные сверстники в школе. Случилось так, что однажды, стоя «на васаре», то есть на часах во время ограбления взрослыми «уркачами» квартиры, я увидел, как из окна вылетели два мешка с книгами. Уркачи потом убежали, и книги им не потребовались. Мы затащили мешки в лодку и поплыли вниз по Волге к пещере Бум-Бум. Ребята, мои друзья, тоже книги брать не захотели, и я за ночь перетаскал их к себе в уголок, сделал из них постель и затем вытаскивал по одной и читал. Хорошо, что моя сестра Нюра научила меня читать, и теперь, я хотя и медленно, и по складам, но читал. Иные книги читал по два, а то и по три раза. В своей короткой биографии «О себе» я так напишу об этом: «Сначала я разглядывал картинки, потом прочитал страницу-другую, и затянули меня фантазии великих мечтателей, бурный водоворот страстей человеческих».
Там же, в этой биографии, я расскажу:
«В 1937-м году я пришёл на Тракторный завод, и, назвавшись четырнадцатилетним, попросился на работу. При этом, кажется, сказал: «Если не хотите, чтобы я воровал». Работники отдела кадров, очевидно, не хотели этого и послали меня учеником токаря в депо».
Потом где-то на столбе плакат увидел: «Молодёжь – в авиацию!» И поехал в Грозненскую авиашколу. На экзаменах сочинение написал на четвёрку: помогла начитанность, а вот математика…
И я собрался уж возвращаться в Сталинград, но армянин Будагов сказал: «Напиши за меня сочинение, а я сдам за тебя математику». В образе армянина ко мне подошла судьба. Вернись я в Сталинград – и через два года попал бы в ополчение, откуда живым никто не пришёл. Я же кончил авиашколу, и жизнь моя покатилась по другой дороге, тоже нелёгкой, но счастье всю войну мне улыбалось. В битве за Будапешт все два с половиной месяца я был в самом пекле и закончил её в звании старшего лейтенанта и в должности командира фронтовой зенитной батареи. Фронтовая газета напечатала обо мне очерк «Самый молодой комбат фронта». И тут, в Будапеште, и окончилась для меня Великая Отечественная война.
Потом была дивизионная газета, потом Военно-политическая академия, а уж за ней московская центральная газета «Сталинский сокол», а уж затем демобилизация из армии в звании капитана, Литературный институт имени Горького, за ним «Известия», издательство «Современник», а уж потом и всё остальное – вплоть до нынешнего дня.
Неровно, толчками, а иногда срываясь на ухабах в овраги и даже в пропасти, катила на вороных моя жизнь, но всегда как-то выносило, и я мог, оглянувшись назад, сказать: «Слава Богу! И на этот раз пронесло»!..
И шёл дальше.
Случалось, возникало вдруг препятствие почти непреодолимое, гора поднебесная или пропасть бездонная. Не обойти, не объехать. Ну вот к примеру: удалось пройти в авиашколу без аттестата зрелости – а как же усваивать учебную программу? Как постигать науки, сплошь основанные на математике? Ведь даже проценты не умею выводить, дробей не знаю!..
Загляну-ка я в свой армейский фронтовой роман «Баронесса Настя». Не очень это хорошо заниматься плагиатом, но ведь заимствую не у кого-нибудь, а у себя же. Думаю, меня простит читатель.
Вот как изобразил я ту ситуацию в своей жизни:
«… утром следующего дня Пряхина вызвали в УЛО – Учебно-лётный отдел. Тучный, с двумя подбородками майор, начальник УЛО, не торопился задавать вопросы. Пряхин стоял на ковре в положении «смирно», а майор, смачивая языком палец, листал страницы личного дела курсанта. Не спеша и будто бы нехотя говорил:
– Тут, понимаешь ли, история вышла: столбик ты потревожил, верхушку сшиб. Стоял-стоял столбик посреди полигона, а ты его… клюк по башке! А-а? Теперь вот приказ об этом факте составляй. Доску мраморную, а на ней фамилию твою… Точно ты Северный полюс открыл… Но позволь, а где же твой аттестат зрелости?
– Нету аттестата, товарищ майор.
– Как нету?
– А так. Не пришлось мне… в школе учиться.
Майор выпучил на курсанта серые круглые глаза.
– Чушь собачья! А как же ты к нам в школу попал? Какой идиот твоё дело принимал?
– Вы принимали, товарищ майор.
Глаза потемнели, сузились.
– Ну, да, принимал, но ведь без документа… Друг мой!
– Есть документ. Вон он… Из университета.
– Погоди, погоди… Чтой-то я в толк не возьму. В школе не учился, а в университете… Ах, вон оно что! Университет марксизма-ленинизма… при заводском дворце культуры.
Майор закрыл папку с личным делом курсанта. Вышел из-за стола. Ходил вокруг Пряхина, разглядывал его. Потом взял за руку.
– Пойдём.
На двери, обитой коричневой кожей, надпись: «Начальник авиашколы А. П. Фёдоров». Майор сказал Пряхину: «Жди тут», а сам вошёл в кабинет. И находился там долго. А когда вышел, не взглянул на курсанта, а лишь кивнул ему:
– Заходи.
Пряхин вошёл, стоял у двери ни жив ни мёртв. Чувствовал, как холодеют пальцы, становятся ватными ноги. Комбриг говорил по телефону, а сам с любопытством разглядывал курсанта. И глаза его ничего не выражали. И он вообще, казалось, не придавал никакого значения факту существования Пряхина.
Комбригу было лет сорок пять. В тёмных густых волосах светились первые ласточки седины. Гимнастёрка на нём дымчатого цвета, на груди орден Красной Звезды и два ордена Красного Знамени. Он был в Испании, сбил шесть фашистских самолётов, а ещё раньше, во время Первой мировой войны, летал на французских «Фарманах». Обо всём этом курсантам рассказывал комиссар эскадрильи.
Но вот комбриг положил телефонную трубку и продолжал молча и без всякого зла смотреть на курсанта.
– Тебя как зовут? – спросил комбриг.
– Владимиром.
– Сколько тебе лет?
– Девятнадцать.
– Вона-а… Поди ведь, прибавил себе два года.
– Прибавил, – глухо пробубнил Пряхин. И склонил на грудь голову. – На завод не брали.
– Ну-да, там берут с четырнадцати. Ты и сказал…
– Да, товарищ комбриг, сказал.
– А родители твои…
– Отец помер, а у мамы и без меня шестеро. В деревне голод…
– М-да-а… Голод. Тут уж не до учёбы.
Комбриг вышел из-за стола и подошёл к окну, стоял спиной к Пряхину. И руки сложил сзади, пальцы в одном кулаке сжал.
Вдруг повернулся, спросил:
– Как же ты экзамены сдавал?
Пряхин пришёл в себя, осмелел чуток.
– Книг много читал, все слова запомнил…
– Ну, так уж и все?
– Почитай, все! Сочинение написал на хорошо, а как математику сдавать – не знал. Тут меня армянин выручил: ты, говорит, за меня сочинение напиши, я за тебя – математику сдам.
Комбриг и на этот раз не рассердился, а снова повернулся к окну. И, не поворачиваясь, спросил:
– А сейчас-то как учишься?
– Ребята помогают… Миша Воронцов, Павлик Пивень и Саша Кондратенко. Вечерами весь курс математики прошёл.
С трепетом ожидал решения своей судьбы. А в голове теснились мысли: «Надо же было угодить в этот проклятый столбик!»
Комбриг не спеша закрыл папку с личным делом Пряхина. Долго и туго завязывал тесёмки. Затем поднялся. Подошёл к парню. Тронул за плечо, тихо и будто бы не своим голосом, проговорил:
– Иди, Володя, учись дальше. На таких-то, как ты… Россия-матушка стоит.
Легонько толкнул Пряхина к выходу. И потом долго стоял комбриг посреди кабинета. Вспоминал он свою так быстро пролетевшую молодость. Отошли в прошлое испанские бои, а картины воздушных схваток рисуются, как живые. Вот эскадрилья франкистов валится из-за тучи на его одинокий краснозвёздный ястребок.
– «Иван, Иван, – кричат по радио, – мы немного будем тебя убивайт!» – «Ах, вы, сатанинское отродье! Убивайт захотели!»
Круто идёт в набор высоты и камнем несётся на головной самолёт врага. Пулемётная очередь!.. Получай подарочек от Ивана! И тут же атака на второй, третий…
Развеял по небу он один тогда эскадрилью самолётов. А всё потому, что дерзок, что смел он был до безрассудства. И этот вот курсантик… Какой-то дерзкой и неистребимой силой повеяло на старого бойца от этого битого-битого судьбой, но не забитого русского паренька».
Так поступил комбриг Фёдоров. Это был жест боевого лётчика, воинского начальника, поступок высокого смысла и благородства, подлинно интеллигентский поступок.
Много я в своей жизни встречал интеллигентных людей, но встречались и такие люди, которые по образу жизни и характеру своей деятельности вроде бы и интеллигенты, а поступки совершают дурные и даже безобразные. Вот они-то и составляют ту часть интеллигенции, о которой говорят: «Русская интеллигенция всегда предаёт свой народ». И поскольку такое мнение часто повторяется, стало расхожим, мне бы хотелось рассказать ту правду о русской интеллигенции, которую я наблюдал в жизни, среди которой я жил. И слава Богу, что я могу сказать: огульное обвинение русской интеллигенции в предательстве своего народа несправедливо, – и, более того, является злонамеренной клеветой, родившейся в стане наших извечных недоброжелателей.
Заглянем вовнутрь механизма, который изготовляет людское мнение. Вскоре после смерти Сталина я был направлен в Румынию к новому месту службы и некоторое время жил в Бухаресте. Ходил по улицам, изучал город, о котором говорили, что он похож на Париж. Зашёл в большой универсальный магазин и услышал там русскую речь. Говорили с каким-то местечковым еврейским акцентом, и говорили громко, крикливо – так, будто в магазине, кроме наших русских людей, никого не было. И бегали от прилавка к прилавку, суетились, будто что-то случилось и люди испугались. Я стоял возле прилавка с группой англичан-туристов. Я недавно учился в академии, усиленно изучал там английский язык и кое-что мог понять из разговора туристов. Они возмущались русскими, называли их дикарями, а то и свиньями. Я был оскорблён в своих патриотических чувствах и пошёл к группе людей, которая так шумела. И тут не увидел и одного русского лица. Это были чернявые кудрявые люди с типично еврейскими или армянскими носами. Подошёл к одному пожилому мужчине:
– Вы русские?
– А вы что, не видите? Мы туристы из Одессы.
– Но зачем же так шуметь?
– А вы что, полицейский или кто?
– Я не полицейский, а как вы можете заметить, русский офицер, капитан авиации.
– Хорошо, вы тогда идите к своей авиации, а мы будем кое-что покупать.
– Но я тоже русский и мне совестно.
– Что совестно? Что вы такое говорите?.. Ему совестно! А что мы такого делаем? Нам уже и нельзя купить подарок и повезти домой?..
Мужчина так раскричался, так закипел… Я махнул рукой и направился к выходу. Проходя мимо англичан, сказал им:
– Они никакие не русские. Они только говорят по-русски.
Впрочем, кажется, я не убедил жителя Альбиона; он вернётся к себе на Родину и будет до конца жизни рассказывать детям, а затем и внукам своим о русских, которые не умеют себя вести в общественных местах.
Тут в нашем городе я был свидетелем одного характерного эпизода. В Эрмитаже увидел группу туристов из соседней Финляндии, долго стоявшую у картины Малевича «Чёрный квадрат». Пояснения давал сам директор музея. Он назвал полотно художника великим творением, или гениальным, или как-то в этом роде. Тогда один финн ему сказал:
– Вы это говорите в шутку или серьёзно? Что же тут гениального, если это – квадрат. Его бы и я нарисовал. И даже ребёнок из детского сада…
Директор обиделся и повёл туристов к другой картине.
И на этот раз могут сказать: вот они, русские. Дурачат людей всего света. И ведь не кто-нибудь, а директор музея, вроде бы интеллигентный человек.
А того и не возьмут в толк, что и Малевич, автор картины, и сам директор – не русские люди, и наоборот: всё русское им не нравится, они нашу культуру, наше искусство не воспринимают и из чувства ненависти ко всему русскому одни лепят чёрные квадраты, другие их расхваливают.
Наконец, вот сейчас власть в нашей стране захватили демократы, а они в подавляющем большинстве нерусские. И нерусские также олигархи, каким-то таинственным образом захватившие наши деньги. Тут мне могут возразить: это не так, это клевета. Но послушаем тогда Эдуарда Тополя, еврея по национальности. Я уже где-то его цитировал и вынужден снова к нему обращаться: «Впервые за 1000 лет со времени поселения евреев в России мы получили реальную власть в России».








