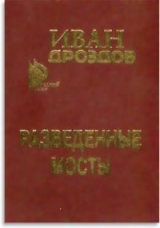
Текст книги "Разведенные мосты"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
Посредине секретарь ЦК коммунистической партии Потапов. Фамилия-то!.. Потапов!.. Однако что же он такое говорит?.. Ага, очередные птенцы Зюганова вываливаются из гнезда. И те же слова у них, та же лихость, с которой они поносят своего лидера: забронзовел, заболел комчванством, никого не слушает… Так же поносил отца родного и «красный губернатор» сладенький и улыбчивый Аман Тулеев, а вслед за ним и спикер думы Селезнёв, и отважный прокурор Светлана Горячёва, а потом уж и «любимец партии» Глазьев… Метят в Зюганова, а попадают в компартию. И так уж загнали её в угол, а теперь доколачивают.
Ну, так что, Геннадий Андреевич?.. Ваши детки, вы их растили, холили, лелеяли. Теперь-то уж многим понятно, даже и рядовым коммунистам ваше нежелание слышать и даже знать слова «русский», «еврей», «националист», «сионист»… Горячие это слова, многое они могут сказать сердцу патриота нашей Родины. Но нет, для вас они не существуют, эти слова, вам и дела нет до судьбы сотен тысяч русских, побежавших из своего родного города Грозного и не находящих пристанища на земле отцов своих – в России. Нет дела и до миллионов русских, живущих в бывших республиках Советского Союза и ныне терпящих там нужду и унижения, вы как бы нечаянно позабыли и о том, что государство-то наше создано русским народом и, следовательно, в руководстве партией, возглавляемой вами, должны быть в основном русские люди, а не двуликие удальцы типа Селезнёва. И как же любовно взращивали вы и заботливо прятали от глаз людских Потапова и этих… двух, сидящих с ним рядом и поливающих вас, а больше партию, из грязного брандспойта ловко подобранной, хорошо сплетённой клеветой. А может, и тут мы имеем дело с отлично отрежиссированным спектаклем?.. Больно уж часто повторяются эти нокаутные удары по партии, очень уж быстро опускают её ваши «соратники», хороня вместе с партией и дорогую для всего российского народа идею социализма!
А теперь скажите, Геннадий Андреевич: вы видели хоть одного предателя в стане демократов? А если их там нет, то скажите: а почему это в среде руководства вашей партии их, дезертиров и предателей, так много?.. Вы, конечно, знаете: недаром же вы доктор философских наук, лидер оппозиции и так далее. Уж, разумеется, знаете, да только не скажете. Ну, так я вам скажу: демократы прочно держатся на позиции еврейского национализма, а у вас – интернационализм. Интернационализм вас губит да боязнь русского духа. Ну, а если это так, то мне, вступившему в партию коммунистов в боях на Сталинградском направлении, с вашей новой партией не по пути.
Но рано радуетесь, господа кремлёвские режиссёры и все, кто залез в глубокие щели компартии и разваливает её изнутри. Стоит вам окончательно обвалить партию коммунистов, как из-за её спины покажется ненавистная вам физиономия русского националиста; на пространствах бывшей российской империи, на шестой части света, останутся две силы: национализм еврейский со своими претензиями на завоевание мира и национализм русский, который будет защищать Родину, Россию. Вот тогда-то политики всех мастей, учинившие нам разруху, задраят все щели своих роскошных квартир и дач и с ужасом будут ловить каждый далёкий и близкий выстрел разгорающейся битвы за Россию. Тогда уже это будет не стрельба одних только шустеров да сванидзе ядовитыми словами да сатанинскими ухмылочками – на поле боя выйдут люди русские, и стар и млад, и даже женщины, и дети.
Вы, Геннадий Андреевич, только в книжках читали о битвах Великой Отечественной войны, а мне привелось со своей фронтовой зенитной батареей палить по самолётам и танкам на подступах к Сталинграду, драться под Курском и затем почти три месяца «жариться» под огнём всех систем оружия в самом центре битвы за Будапешт.
Не дай Бог внукам вашим пройти по дорогам новой войны, уже не информационной, которая по рецептам американских кукловодов идёт ныне и в которой мы терпим, хотя и временные, но поражения, а в войне грядущей, уже горячей – со стрельбой из калашей и гранатомётов, а может, и с применением танков и артиллерии. Иные предрекают и войну ядерную, но я верю в Бога и надеюсь, что Он не допустит уничтожения всего живого на земле. Не затем же Он создавал такую прекрасную планету, как наша, и устроил на ней такую разнообразную и совершенную жизнь.
Вижу, как при этих словах вы морщите своё и без того вечно недовольное чем-то лицо, цедите сквозь зубы: националист! А ведь состоял в партии коммунистов. Да, состоял! И с великой верой в её будущее вступил в её ряды. И с этой верой долго потом шёл по дорогам жизни. Откуда мне было знать, что в центральном её штабе на Старой площади, как летучие мыши, шелестели крылышками потаповы, что пройдут годы и туда же по зову будущего главного перестройщика Яковлева приползёте и вы и вместе с сонмом других яковлевых и потаповых будете, как кроты, подпиливать несущие балки величайшей в мире империи, – нет, ничего не знал этого я, офицер, вернувшийся с войны, и лишь потом, учась в Литературном институте имени М. Горького, а затем работая в «Известиях», стал присматриваться к лицам сидельцев на Старой площади и с тревогой в сердце убеждался, что там много, очень много, и становилось всё больше потаповых – молодцов с русскими фамилиями, но обликом как две капли воды похожих на Бурбулиса и Гайдара и на тех, которых тащил за собой в пломбированном вагоне «величайший вождь мирового пролетариата» Владимир Ульянов-Ильин-Бланк-Ленин. Уже тогда я понимал: ждать от этих ленинцев ничего хорошего не приходится. Из мировой истории было известно: там, где их стая сгущалась у трона, быть беде доверчивому народу. Беда эта, как теперь стало известно, превзошла все самые страшные ожидания.
И тут я снова слышу истошный крик Зюганова и зюгановцев – тех, кто ещё не успел отбежать от него в стан предателей:
– Националист!
Спешу успокоить вас, господа:
– Да, националист, а как же вы хотели? У вас учимся. Вы-то уж – вон какие националисты! Только не какие-то там эстонские, туркменские да татарские, а еврейские! Вам бы впору похвалить меня за догадливость, а вы знай своё: валите с больной головы на здоровую. Это зря говорят: история нас ничему не учит. Учит. Да ещё как учит!.. Вот и меня к примеру возьмите: жил-жил восемьдесят лет дураком, а теперь вдруг прозрел и даже других поучать вознамерился.
Я не историк, не изучал специально судьбы народов, движение идей и общественных психологий. Но теперь, размышляя над всем, что у нас происходит, прихожу и к выводу, несколько обнадёживающему: евреи, во второй раз в двадцатом веке, разрушив российскую империю, сыграли злую шутку и над собой. Деньги-то они у нас забрали – то верно. И заводы разрушили – и это верно. Но денежные знаки коварное свойство имеют: сегодня они всесильны, а завтра вдруг в фантики превращаются: дунул их с ладони, они и полетели. И никто их собирать не станет, потому как их болезнь поразила, дефолтом называется. А то и ещё пострашнее хвороба к ним прицепится – экономический кризис. Бывали такие и у нас в России, и не однажды случались. Вчера коробка спичек две копейки стоила, а завтра её и за миллион рублей не купишь. То же и с хлебом: вроде бы недавно, при советской власти было, за булку восемнадцать копеек платили – сегодня она тринадцать рублей стоит. Великий экономист Лившиц, укоренившийся на телеэкране, скажет: вам зато и пенсию в десять раз увеличили. Смотрит на вас этот Лившиц, – а он же всегда самый умный человек на свете! – и будто бы не понимает, что пенсию-то увеличили в десять раз, а хлеб подорожал почти в сто раз. Я иногда тоже смотрю на этих лившицев, галдящих на экране телевизора, и понять пытаюсь: они, что же, нас за круглых дураков держат или как? Скорее всего, так и есть, у них на лице написано: вы, мол, русские глупые, а потому слушайте, что мы вам скажем. А мы и действительно многого не понимаем. Да в этом и нет ничего удивительного. За многие-то годы большевистского правления уж привыкнуть должны к такому к себе отношению. О нас, должно быть, и во всём мире так полагают. У нас, кстати, и сказка есть об Иванушке-дурачке, а вот чтобы Лившица в глупости обвинить?.. Уж в это-то никто на свете не поверит. У них и Маркс есть, и Эйнштейн самый великий на земле учёный, а если к этой славной плеяде прибавить ещё и Малевича с его «Чёрным квадратом», – тут уж всякому антисемиту и сказать будет нечего. Сиди себе смирнёхонько у голубого ящика и слушай Лившица. Он тебе все карты мировой экономики по порядку разложит…
В сентябре 2002 года в моей жизни произошло самое памятное и, может быть, самое важное событие: к нам явились супруги Люленовы и принесли дары Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря: золочёный храмовый крест с распятием Христа, красочную книгу о монастыре с автографом архимандрита Адриана: «На молитвенную память Иоанну и Лукии от а. Адриана» и икону из его личной коллекции, на которой во весь рост изображён Святитель Филиппе, митрополит Московский.
Вручая мне подарки, супруга Чавдар-Люленова, болгарского поэта, Елена Анатольевна, сказала: «Многие монахи этого монастыря имеют ваши книги – и вот они шлют вам эти дары и приглашают посетить их в удобное для вас время».
И ещё добавила:
– Храмовый крест изготовили монахи, которым заказана Икона Победы к шестидесятилетию со дня окончания Великой Отечественной войны.
В назначенный день я отправился в монастырь. За рулём сидит молодая женщина – блондинка с белыми волнистыми волосами, с большими глазами цвета вечернего неба, расцвеченного лучами солнца, только что утонувшего за чертой горизонта. Я уже знал: её зовут Дарьей Ивановной и она по просьбе архимандрита Адриана повезёт меня в Печеры.
Пока ехали по городу, молчали и я лишь изредка поглядывал на спутницу, так ловко управлявшую автомобилем. А когда выехали за город, она заговорила:
– Я так рада, что наконец попаду к отцу Адриану.
И, повернувшись ко мне:
– Надеюсь, вы возьмёте меня с собой, когда игумен Мефодий поведёт вас к святому старцу?
– Игумен Мефодий?.. Я слышал это имя.
– О-о-о!.. Это такая умница! И он же художник, и мастер-ювелир. Это под его началом изготовляли для вас храмовый крест. Кстати, всё, что монахи делают в своих мастерских, является достоянием не только частных лиц или отдельных церквей, но и всей нашей Питерской епархии.
– Спасибо, что вы об этом мне сказали. У меня недавно был сотрудник музея и говорил примерно то же. Я, пожалуй, сдам такую красоту для всеобщего обозрения, только с одним условием: чтобы под крестом написали, что именно мне братья-монахи прислали этот крест в подарок.
Я никогда не был в Псково-Печерском монастыре, но, разумеется, много слышал о нём и даже читал книгу. Монастырю 552 года, он пережил много нашествий врагов, но никогда не был разграблен, и в его библиотеке хранится богатейшее собрание книг, в том числе старинных, рукописных. Там есть книги, подаренные Петром Первым, Елизаветой Петровной, Екатериной Второй и другими русскими царями.
Я спросил у Дарьи:
– Вы, как я понимаю, бывали там, в монастыре?
– Да, конечно. Я бываю там часто, и меня знают многие монахи, но попасть к отцу Адриану не сподобилась. К нему идут паломники, он всегда занят.
– Ну, если он просил вас привезти меня, значит, он вас знает?
– Не он просил, а игумен Мефодий. Святой старец мирских дел не знает и время своё посвящает только страждущим.
– А игумен Мефодий – он, как я понимаю, начальник монастыря?
– В монастыре три игумена, а настоятель там архимандрит Тихон. Структура управления монастырём непростая; я юрист и то не во всём разобралась. Да, признаться, и нет у меня желания знать все тонкости жизни этой великой обители. Мне бы попасть к святому старцу, испросить у него благословения.
Дарья Ивановна оказалась словоохотливой, и скоро я узнал, что в деловом мире Петербурга она человек известный, работает в арбитражном суде и получает за свои труды хорошие деньги. Прямо она об этом не говорила, но сказала, что есть у неё братец, она его не любит, но купила ему четырёхкомнатную квартиру. И маме своей купила квартиру, и дочке, хотя её дочка ещё не вошла в самостоятельный возраст, а учится в девятом классе.
Мы проезжали Псков, и она показала улицу, на которой недавно купила квартиру; её она закрыла на замки и держит в резерве, «на всякий случай».
Городок Печеры расположен на границе Псковской области и Эстонии – чист, опрятен и весь пропитан духом монастыря, крупнейшего в России, известного во всём православном мире жившими там прежде и живущими теперь высокими подвижниками веры, мудрецами, стоявшими близко к Престолу Господнему. Сейчас там живут архимандрит Иоанн Крестьянкин, он по старости лет «ушёл в затвор» и никого не принимает, и архимандрит Адриан, к которому я еду.
На городской площади перед главным входом в монастырь стояло много автобусов, толпились люди. Стайки паломников были видны и на прилегающих к площади улицах.
– Вон, видите, сколько тут людей; они приехали из разных городов России, прибалтийских стран и даже из Германии, Франции, Голландии. И все – к отцу Адриану.
– Но кто же наблюдает очередь, кто поддерживает порядок? – спрашиваю я спутницу.
– Ну, с этим тут строго и порядок образцовый.
– И сколько времени уделяет святой отец каждому человеку?
– По-разному. Но в среднем не больше минуты. Подошедший к нему встаёт на колени и целует руку старцу. А отец Адриан выслушает жалобу, погладит страждущего по голове, прочтёт короткую молитву. И отпускает.
Я хотел спросить: мне тоже соблюдать такую процедуру, но вовремя удержался, решил действовать по обстановке.
Признаться, меня охватило волнение, я чувствовал смущение ума и сердца. Жизнь журналиста, которую я прожил в молодые годы, помогла мне приобрести уверенность в отношениях с людьми разного калибра – от рядового рабочего до министра. Встречался я и с учёными, знаменитыми артистами. Наконец, нынешнее положение писателя, руководителя академического коллектива, закрепило в моём характере простоту и безыскусственность поведения, но на этот раз я волновался, как малыш, идущий впервые в школу.
Однако спутница моя, Дарья Ивановна, не смущалась; уверено вела меня по лабиринту монастырских дорог, подвела к «братскому» корпусу, где было особенно много людей. Здесь скорым шагом к ней подошёл мужчина лет тридцати, стал обнимать её и целовать. Она со словами «Ну, хватит, Вася, хватит. Ты меня всю обмуслякал» мягко от него отстранилась. Вынула из сумки деньги, подала ему несколько бумажек. Он обрадовался и побежал прочь, а Дарья Ивановна сказала:
– Был бесноватым. Отец Адриан изгнал из него беса.
– Как же это он сделал?
– Мать подвела к нему Васю. Сыночек кричал и бился в судорогах. Святой отец привлёк его к своей груди, стал на ухо говорить: «Успокойся, малыш, успокойся. Вот так – тише, тише… Кричать ты больше не будешь. И не надо никого бояться. Поцелуй крест, и мы изгоним из тебя беса…»
Говорил и ещё какие-то слова. И мальчик поверил, что беса из него изгнали и кричать он теперь не будет. И вот… Вы видите. Нормальный человек!.. Он потом матери сказал: «Буду жить здесь, в монастыре». И живёт. Боялся, значит, возвращаться домой. Остался тут навсегда.
Дарья Ивановна взяла меня за руку и вела по коридору к монахам, стоявшим двумя рядами у стен, к иным наклонялась, называла мою фамилию. И скоро обо мне уже знали все братья, некоторые тянули ко мне руки, а иные касались головы и на мгновение привлекали к себе. Позже я узнаю: они все мои читатели, а к читателям я всегда отношусь как к своим друзьям. В последнее же время, когда для патриотов борьба за Россию наполнилась особым смыслом, в книгах каждого честного писателя всё явственнее проступают жизненные взгляды автора, политические симпатии – читатели и в письмах, и в устных беседах говорят, насколько наши взгляды совпадают, и тут уже у литератора появляются не только друзья, но и союзники по борьбе, боевые соратники. Читатели для писателя становятся как бы родными.
Чем ближе подходили мы к помещению, в котором жил отец Адриан, тем плотнее становились стайки людей и больше было монахов; я любовался ими: статные, молодые, глаза сияют добротой и сердечностью. Монастырь мужской, монахи тут чёрные, как правило, имеют по два высших образования: светское и духовное. Они полностью посвящают себя служению Богу, берут на себя обет безбрачия. Из них будет формироваться высшее духовенство, иерархи Православной церкви.
Навстречу нам вышел игумен Мефодий; этот был особенно хорош собой, и приветлив, улыбчив. Он как бы забыл о своём важном сане и откровенно радовался встрече с нами. Повёл меня к отцу Адриану.
И вот мы в приёмной архимандрита. Меня встречает отец Адриан. На нём одежды, шитые золотом, борода белая, широкая, густая. Глаза светятся молодо и так, будто он встретил давно знакомого, ожидаемого человека. Я подхожу к нему, называю себя: «Раб Божий Иван». И покорно склоняюсь. Он обнимает меня за плечи, целует в голову, говорит:
– Хорошо, что вы приехали. Мы ждали вас. Многие наши братья – ваши читатели. Сейчас много печатается книг, но таких, в которых бы мы находили отзвуки своего сердца, таких книг мало.
Я спешу признаться:
– В Бога я верую и церковь посещаю, но каюсь: не все обряды исполняю.
Это обстоятельство всегда меня тревожило, я чувствовал вину перед церковью и Богом и спешу признаться в этом Владыке. И он в ответ произносит слова, которые ставят на место мою душу. Он говорит:
– Вам и не надо исполнять все наши обряды, вы и так ближе всех нас к Богу. Он-то, наш Господь Превеликий, судит о нас не по словам, а по делам.
Потом из внутренних покоев появляется прислужник и несёт на руках расшитое бисером и золотой вязью длинное и широкое полотно. Архимандрит берёт его и накрывает меня с головой. Читает молитву.
Потом мне скажут: это была епитрахиль, оставленная ему по завещанию митрополитом Петербургским и Ладожским Иоанном. Накрыв меня ею и прочитав молитву, отец Адриан отпустил мне все мои прежние прегрешения и благословил на благие деяния в будущем.
Мы сели в кресла, стоявшие у небольшого столика, и началась беседа, которая во многих добрых делах меня укрепила и многие смущающие душу вопросы прояснила. Содержание нашей беседы и других бесед при наших встречах с отцом Адрианом я намерен изложить в особой статье. Тут же скажу: архимандрит Адриан стал мне духовником, то есть отцом, душу и сердце врачующим, при разных затруднениях и сомнениях наставляющим, в минуты слабости укрепляющим.
Счастлив человек, имеющий хотя бы одного друга, но трижды счастлив тот, кому протянул руку дружбы и поверяет свои откровения такой Великий Святильник, каковым является в Православном мире старец Адриан.
Дарью Ивановну тоже принял святой Отец, и она по дороге домой мне сказала, что это была счастливейшая минута её жизни.
С тех пор я стал регулярно посещать монастырь; не часто, конечно, путь-то неблизкий, но пройдёт два-три месяца – и сердце снова позовёт меня в эту святую обитель. Обыкновенно везёт меня туда Дарья Ивановна, но однажды ко мне подъехал человек, которого я встретил в домике для гостей Рождественского храма, Юрий Михайлович Косенко. Помнится, он тогда высказал критическое замечание в адрес одного из моих романов, и это замечание поразило меня точностью и оригинальностью подхода; я поблагодарил его, и на том мы расстались. Сейчас он вышел из машины и встречал меня дружеской приятной улыбкой.
Настроение у него было веселым, он говорил:
– Вы привыкли ездить в Печеры на «Мерседесе» и с очаровательной Дарьей Ивановной, а тут вдруг такая проза: старенький «жигулёнок» и водитель со своей постной физиономией.
Я вспомнил, как в Рождествено его радушно принимали батюшка Владимир и матушка Людмила. Они знали его давно; он мимо храма ездил к себе на дачу и каждый раз заезжал к ним. Работал Юрий Михайлович водителем, был высококлассный автомобилист – и водитель, и механик – ходил на автобусах в дальние рейсы, возил туристов, в том числе и иностранных. Я уже тогда, при первой встрече, заметил, как он верно судит о современном моменте, как осведомлён о делах нашего города.
– А что Дарья Ивановна? – обратился я к Юрию Михайловичу. – Я давно ей не звонил, да и она про меня забыла.
– Слава Богу, ничего не случилось; видимо, занята по работе. У неё ведь работёнка – не позавидуешь.
– Да, она мне кое-что говорила; судебные дела, тяжбы, жалобы, претензии. Дело-то у неё вроде бы и не очень женское.
Потом мы долго ехали молча; видимо, Юрий Михайлович ждал каких-нибудь моих рассказов о Дарье Ивановне, о том, что я о ней знаю и думаю, но я молчал. За время наших нескольких поездок в Печеры, – а мы обыкновенно жили там по семь-десять дней, – я успел составить своё мнение, но, конечно же, ни с кем это своё мнение не обсуждал. Она рассказывала о своих арбитражных делах, о том, как в закипавших конфликтах ей приходилось принимать непростые решения, и в результате одни предприятия банкротили, людей выбрасывали на улицу, иногда по несколько тысяч человек, в другой раз предприятие переходило в руки иностранца, и тот распоряжался и заводом, и судьбами людей. Я без особого труда мог заключить, откуда её квартиры, разные дорогие покупки, и этот сверкающий «Мерседес», на котором так удобно было ехать. Больше того: я понимал и смуту, творившуюся в её душе, жаркие молитвы, которые она посылала к небу. Видимо, каждый раз, когда при её содействии рушилось очередное предприятие или новый хозяин завода, фабрики, – чаще всего, иностранец, – перепродавал свою собственность, или на месте завода строил высотный дом, ресторан, супермаркет, – каждый раз при этом сотни людей, а то и тысячи теряли зарплату, становились безработными. И понятное дело: сердце не каменное, особенно женское сердце. Дарья Ивановна принималась класть новые поклоны Богу.
Видел я всё это, и сам страдал от сознания её душевных мук. Сижу вот рядом с ней, пользуюсь её услугами, но помочь-то ей ничем не могу. А однажды сжалился над ней и сказал:
– Дарья Ивановна! Вижу, как тяжело на сердце лежит у вас какая-то дума; может быть, вы терзаетесь сознанием, что не сумели защитить людей, или что-нибудь другое. Но, видно, уж дело у вас такое: тут как ни старайся, а кого-нибудь зашибешь и обездолишь. Но я убеждён: во всяком деле вы стараетесь меньше причинить зла людям, значит, есть у вас сострадание, а это чувство, угодное Богу. И ещё вам следует помнить: на вашем месте мог бы сидеть и другой человек, и тогда урон от него людям выходил бы несравненно больший.
До сих пор не знаю: справедливо ли было успокаивать её, но я попытался это сделать; такова природа русского человека: он и дьявола пожалеть готов, если дьявол сидит перед ним в образе такой вот милой и будто бы ни в чём не повинной женщины.
А однажды Юрий Михайлович, с которым мы в очередной раз ехали в Печеры, рассказал, как Дарью Ивановну у подъезда её дома подстерегли два парня, вытащили из машины, бросили на землю и замахнулись ломом. Она метнулась в сторону и взмолилась: «Что вам надо? Я всё отдам, но только не убивайте!..» Парень протянул руку: «Ключи от машины!» Дарья Ивановна бросила ему ключи, и парни уехали. Заявлять в милицию она не стала.
Потом я узнал, что Дарья Ивановна удалилась в какой-то женский монастырь. Келью для неё пока не подготовили, она спит в коридоре и безропотно выполняет все самые чёрные работы.
Печальный финал этой женщины послужил для Юрия Михайловича поводом сделать глубокомысленное суждение:
– Преступная власть плодит себе подобных, а того не ведает, что народ наш на всякое преступление, даже самое хитрое, придумал нехитрую пословицу: «Сколько верёвочка ни вейся, конца не миновать». Жаль, что депутаты разные и министры наши понять не могут, что пословица эта их тоже касается.
Некоторое время мы ехали молча, а потом мой спутник добавил:
– Слышит моё сердце, что старец святой Адриан никогда бы не принял эту даму, не явись она к нему вместе с вами.
– Он что же, знал чего-нибудь о ней?
– Ему и знать не надо; он одним своим чутьём человека насквозь видит.
Скажу тут кстати: много у меня приятелей здесь в городе на Неве появилось, есть среди них и милые сердцу друзья, но, пожалуй, самый близкий теперь у меня товарищ – этот нечиновный, никакими званиями и наградами не отмеченный человек рабоче-крестьянского сословия. Мне с ним всегда интересно, и каждый раз я с удовольствием с ним встречаюсь.
Ну, а жизнь наша мирская продолжалась; теперь уже, правда, без Дарьи Ивановны, без её роскошного блестящего «Мерседеса».
Однажды мне позвонил Николай Николаевич Скатов, директор Института русской литературы, известного у нас под именем Пушкинский дом, изъявил желание встретиться. Я пригласил его к себе. Он приехал, и у нас с ним сразу же завязалась дружеская беседа. Мы были знакомы заочно, но встречаться нам не приходилось, и я сразу мог оценить доверие, которое он мне выказывал. Говорил о том, как печатаются при новой власти его книги, какие творческие планы он вынашивает в это смутное для России время, как часто ему приходится бывать в Москве по делам института и как помогают ему высокие государственные мужи из тех, кто ещё недавно жил в Ленинграде и которых он хорошо знал.
Как человек интеллигентный, деликатный, он ничего не говорил об истинной цели своего визита, но я знал, что он хотел бы стать членом нашего коллектива по квоте полного академика. Передо мной был тот самый характерный и даже типический случай в положении русского учёного во все годы советской власти, когда в русскую академию наук сбежались и сцепились в плотное кольцо люди нерусские, главным образом евреи, и там уж для русского учёного возводились такие запруды, преодолеть которые становилось невозможно. Многие учёные, создававшие научные школы, а то и целые направления, не удостаивались чести быть академиком. Даже Дмитрий Менделеев, совершивший великое открытие, не был принят в Российскую академию наук. Создалась ситуация, подобная той, которая была при Ломоносове, когда в Российской академии все ключевые посты заняли немцы и величайший из русских учёных с горькой иронией заявил: я хотел бы стать немцем.
Появление общественных академий в наше перестроечное время было, ко всему прочему, еще и реакцией на ту вопиющую несправедливость, которая и во все времена русской истории имела место, но в советское время приняла поистине уродливые формы: членом Русской академии мог без труда стать посредственный деятель от науки, но в то же время гигант вроде Менделеева туда, как в ушко игольное, проникнуть не мог. В общественных академиях сама научная общественность как бы исправляла это нелепое положение.
Выбрав подходящий момент в нашей беседе, я как бы между прочим сказал, что у нас в президиуме давно высказывалось мнение пригласить его к нам в академию. Он на это заметил: да я бы и сам к вам пришёл, но от кого-то слышал, что у вас громоздкий и трудный механизм приёма новых членов, может быть, даже более трудный, чем в Российской академии наук. Я на это сказал:
– Да, это верно, но, я надеюсь, мы найдём двух рекомендателей, а третью напишу я сам.
На том и порешили. И расстались до новой скорой встречи. Я сел за компьютер и написал рекомендацию:
«В отечественном литературоведении немного найдётся учёных, которые бы с завидным постоянством были преданы классикам русской литературы и с такой бы последовательностью объясняли глубинные процессы отечественной словесности, как это делает доктор филологических наук, профессор Николай Николаевич Скатов. Одно только перечисление его книг говорит нам об этом.
1. Поэты Некрасовской школы (Л., 1968).
2. Некрасов. Современники и продолжатели (Л., 1973).
3. Поэзия Алексея Кольцова (М., 1985).
4. Пушкин (Роман-газета) (1994).
И много других книг, монографий, статей учёного.
Книги Скатова самобытны, оригинальны по форме, содержат всесторонний анализ проблематики писателей, каждый из которых явил эпоху в художественном развитии нашего народа. По книгам Скатова учатся студенты, они служат компасом, помогающим читателям ориентироваться в море художественной литературы.
Глубина и самобытность анализа фундаментальных явлений русской литературы выдвинули Николая Николаевича Скатова в разряд самых выдающихся отечественных литературоведов. Много раз его представляли к званию академика Российской академии наук, но находились люди, которые возводили препятствия на пути учёного-патриота. Следует тут учесть и многочисленных противников, которых приобрёл Н. Н. Скатов на посту директора Института русской литературы (Пушкинский дом).
Возглавляемый им вот уже десять лет институт высоко держит уровень научных изысканий по тематике отечественной словесности.
Рекомендую избрать Николая Николаевича Скатова членом Международной славянской академии по квоте академика.
10 декабря 1996 года.
И. Дроздов
Академик МСА»
Прирастал наш коллектив людьми чиновными, крупными административными начальниками. Были приняты в академию профессор А. В. Воронцов, ставший потом вице-губернатором Ленинградской области, начальник Военно-морской академии адмирал В. Н. Поникоровский, художественный руководитель театра Игорь Горбачёв, митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн, директор Института биологии профессор Вадим Петрович Галанцев, народная артистка России Елена Григорьевна Драпеко стала депутатом Государственной Думы. Они хотя и не регулярно, но посещали собрания, однако в силу занятости на своей основной службе в секциях по интересам не работали. Кто-то из членов президиума однажды поднял вопрос об отношении к пассивным товарищам; дескать, зачем они нужны академии и не стоит ли нам в порядке проявления своего характера исключить одного-другого из коллектива? Мне пришлось выступить с пространным заявлением, дабы погасить чрезмерную ретивость в насаждении казарменных порядков. И уж совсем неуместным было предложение исключить кого-то из академии. Во-первых, академик – величина постоянная, он, как почётный гражданин города, избирается навечно; а во-вторых, почти все члены нашего коллектива имели свои кафедры, лаборатории, а иные и институты, и оценивались они, прежде всего, по результатам своего труда. Академиком у нас становился тот, кто вёл за собой целое направление в науке, имел множество книг, учеников и последователей. Членство такого товарища в коллективе создавало честь академии, и мы должны гордиться тем, что они у нас есть.
Остаётся категория нравственная: как относиться к товарищам, не проявляющим активности в общественных делах? Особенно остро этот вопрос встаёт во времена смутные, тревожные, когда в государстве вздыбили шерсть силы враждебные, разрушительные. Такое время мы переживаем теперь, в эпоху гнусного предательства коммунистических вождей, которым мы доверили управление государством.








