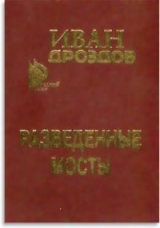
Текст книги "Разведенные мосты"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц)
Не сразу открыли нам металлическую решетчатую дверцу калитки. Молодой здоровенный мужчина в пятнистой форме российского омоновца, с физиономией, не очень похожей на грузинскую, но и не русской, молча и сурово ощупывал нас подозрительным взглядом. Ничего не спрашивал, но и не торопился пропускать. Вано с раздражением проговорил на своём абхазском языке:
– Нас приглашали.
Парень ответил на том же языке, но уже потеплевшим тоном:
– Да, мне известно, но у нас правило: мы должны знать, кто к нам идёт.
Вано сказал ему ещё несколько слов, и, видимо, нелюбезных, и только после этого мы пошли в дом. На ходу мой друг негромко сказал:
– Хозяин тут грузин, но у него в охране служат абхазы. Он им хорошо платит, а они ему хорошо служат. Старая история. Видно, и всюду так.
У входа в дом нас встретил хозяин Шалва Бараташвили. Он был чем-то встревожен, суетился, говорил:
– Проходите… Вот сюда, здесь посидите, а мы постараемся побыстрее освободиться.
И, наклоняясь к Вано:
– Сегодня тяжелый день. Много посетителей. И вон там, видишь: сидит дама, супруга Серго Жвания.
Фамилию хозяин произнёс почти с трепетом.
Ждать пришлось долго. Наконец, вышла женщина лет тридцати пяти в белом халате и резиновых перчатках, которые она снимала на ходу и бросила в раковину. Тщательно мыла руки, потом подошла к нам и почтительно поклонилась.
– Извините. Вынужденно задержалась.
Назвала своё имя. Я тоже представился. Провожала нас в столовую.
– Случаются клиентки, которых непременно надо принимать. И без промедлений.
И показала на идущего с нами её мужа:
– Таковы распоряжения. Вот от него.
За столом она кивнула женщине, очевидно домработнице: дескать, ты свободна.
Обратилась ко мне:
– Мне сказали, вы из Москвы. Я всегда рада видеть земляков. Вот так пообщаюсь – и будто бы побывала дома. Через два-три дня я еду в Москву на «Волге». Если пожелаете составить мне компанию, я буду рада.
Показала на Вано:
– Вот он, наш друг из Тбилиси, тоже со мной поедет.
И повернулась к мужу:
– Ну, ты как? Все дела уладил? В Москве я должна быть через неделю. Профессор Чезаре Гальдони сделает всего три операции. Мы с ним говорили по телефону. Я буду ему ассистировать.
Нам объяснила:
– Этот итальянец разработал метод лечения тяжелого заболевания. Я хочу у него поучиться.
Супруг пытался возразить:
– Нино, ты уверена, что гостю из Москвы и нашему другу Вано так уж важны твои медицинские интересы?
Нино воскликнула:
– А других интересов у меня нет. Так что же ты мне прикажешь? Сидеть и помалкивать?
– Может быть, и так. Женщине очень идёт молчание. Ты знаешь восточную мудрость: много говорит тот, кому нечего сказать.
– По мне так это и не мудрость, а глупость. Я бы сказала иначе: молчи больше и прослывёшь умным. А если уж хочешь, чтобы я сказала тебе откровенно: я люблю поговорить, когда у меня есть настроение и когда мне есть что рассказать людям. Особенно же, если мне Бог послал интересных собеседников. К нам же впервые пришел в дом писатель, да ещё мой земляк. И потому молчи и не мешай нам беседовать.
Пришла очередь и мне вступить в разговор:
– Я хотя и претендую рассказывать людям что-нибудь полезное и интересное, но это лишь в письменной форме. А те, кто много пишет, как правило, не умеют интересно рассказывать. Что же до меня, то я ещё и теряюсь в обществе незнакомых дам.
– Так мы были незнакомы десять минут назад. Теперь познакомились, и я хотела бы узнать, что вы написали, что пишете теперь… Заранее извиняюсь за своё невежество: я ваших книг не читала, я и вообще очень мало читаю. У меня хватает времени только на сон и на работу. Если вы хотите видеть человека, который не любит свою профессию, то вот он перед вами. Мне бы надо стать зубным врачом или офтальмологом, а я выбрала… женские болезни. Не знала, что это так неинтересно. И на этом поприще почти невозможно добиться успеха. Женщины капризны. По себе знаю. Вот он, – она показала на мужа, – вам подтвердит. В своё время он имел глупость на мне жениться, а теперь не знает, как выпутаться из этой истории.
– Нино, перестань скор-моношить!
– Он хотел сказать: скоморошничать. Ему русские слова плохо даются. Грузины и вообще любопытный народ: они не любят родного языка, но и наш русский знают вполовину, а то и в одну четверть. Вон видите, как он перекрутил наше древнее русское словцо. И вообще, я раньше не знала, что это народ, который пьёт, гуляет и много пляшет. У них потому нет больших учёных, ничего они не открывают, не изобретают – и композиторов, и писателей у них теперь нет. Раньше был один Шота Руставели, а теперь нет. Я думала: Расул Гамзатов их человек, а тут узнала: и он живёт от них далеко, где-то за горами, и по национальности аварец. У них, аварцев, будто бы и языка своего нет, а поэт объявился. Вот чудеса! Ну, а в Грузии… кое-кто, конечно, есть, но – мало. Один только певец Кикабидзе. Да ещё певица есть неплохая – Нани Брегвадзе. Но и они больше известны в Москве, чем здесь в Грузии.
Опять её перебил супруг:
– Нино! Хватит ско…
– Ну, ну, повтори: ско-мо-рош-ничать.
Шалва покраснел и опустил голову над тарелкой. Бесцеремонность жены его возмущала, но что-то его удерживало от резких выпадов. Я уже понимал, что он в отношениях с супругой очень осторожен; очевидно, боялся её неудовольствия, особенно в то время, когда она уезжала в Москву. А она, как я потом узнал, в Москву ездила часто, и там у неё укреплялся авторитет в медицинском мире. Она ассистировала известным профессорам, получала от них приглашения работать в их клиниках, а теперь вот ей предлагали поработать год-другой в Италии, Америке и даже в далёкой стране Австралии.
Тут самый раз сказать мне о впечатлении, которое она производила на собеседников, – на меня, в частности. Слушая её ироничные, шутливые речи, я думал о том, как она смело говорит мужу, его товарищу и мне, наконец, о вещах, которые во всяком обществе почитаются чуть ли не запретными: о национальности, способностях народа, к тому же не своего родного, а чужого, очень далёкого и для многих нас мало понятного. Говорила резко; отказывала грузинам и в талантах, и во многих других достоинствах. И это всё при муже, который то краснел, то бледнел и не знал, как урезонить супругу. Я внимательно вглядывался в её лицо, не находил в ней никаких выдающихся черт, но в то же время незаметно для себя проникался всё большим желанием смотреть на неё, слушать и наблюдать жесты, исполненные какого-то особо тонкого изящества. Наблюдая, как она раскладывает по тарелкам еду, разливает вино и подаёт нам бокалы, я вдруг начинал понимать природу её профессионального врачебного искусства. По пути к ним в дом Вано обронил: «Её врачебное искусство на грани волшебства. Она необычайно быстро, точно и без малейших осложнений производит сложнейшие операции». И ещё он сказал о её муже: «Это виртуозный делец: только через него можно попасть на приём к Нине. К его рукам прилипают огромные взятки».
Нину не назовёшь красавицей, но это, как я начинал понимать, тот самый редкий экземпляр женщины, обаяние которой раскрывается по мере общения с ней. Она завораживала. И постепенно вы открываете в её лице, её фигуре то одну замечательную сторону, то другую. Вы вдруг видите, как прекрасна её головка, как ловко лежит причёска, но особенно прекрасны её тёмно-серые и очень большие и круглые, как у начинающей взрослеть девочки, глаза. И чем больше я открывал в ней достоинств, тем чаще взглядывал на её супруга, стройного красавца с тонким носом и чёрными усиками. О его уме сказать ничего не могу, потому что за всё время нашего обеда, – а пробыли мы за столом два часа, – он произнёс лишь несколько слов.
Прощаясь, условились с хозяйкой встретиться в день и час отъезда.
После обеда мы с Вано ещё долго, до самого вечера, гуляли по городу. Говорили только о чете Бараташвили.
– Вот вам ещё один грузин, и вы видели, как он устроился у нас в Абхазии. Вначале он со своей русской супругой жил в доме родителей, – вон там, на центральной улице города. Но скоро оценил быстро растущий авторитет своей жены, её умение производить такие сложные операции, которые и в Тбилиси не делались. Вместе с главным врачом больницы, тоже грузином, они разработали порядок, по которому должна жить и трудиться Нина. Операции она делала в больнице, а приём особо важных и состоятельных пациенток проводила дома. Вскоре купили и особняк, обставили его дорогой мебелью. Взятки они делили между собой, и размера их никто не знал, но надо думать, эти взятки пухли по мере того, как возрастала слава русского доктора. Думаю, о взятках мало чего знала и сама Нина. Впрочем, она, конечно, не могла не догадываться о деньгах, которыми оперировал нигде не работавший её муженёк. От своих университетских коллег я слышал, что к русской докторше можно было попасть только через её мужа, а уж что до операции, тут надо было выложить немалую сумму. Одним словом, два ловких грузина наладили чёткий механизм эксплуатации этакой дойной коровы и качания денег из карманов моих простодушных земляков. А чтобы их клиенты молчали, они каждой женщине, прошедшей у них лечение, говорили: пока у вас всё хорошо, но каждый год вы должны приходить к нам на обследование. Доктор Нина будет вас наблюдать и в случае чего даст нужные рецепты.
Я слушал нового друга и не выражал готовности согласиться со всем, что он мне говорил. Есть национальности, с которыми судьба меня не сводила на жизненных дорогах, – я их не знал и, наверное, легче бы поверил в рассказы об особенностях их характера, но с грузинами я встречался часто. Были они и в эскадрилье, где я служил, и затем на батарее, которой я командовал. Ничего плохого я за ними не замечал, а что до характера – мне был по душе их весёлый нрав, готовность во всём помочь и хранить верность в дружбе. Грузины мне нравились, как, впрочем, и армяне, и представители всех кавказских народов, кроме чеченцев, среди которых проходила моя служба в Грозненской авиационной школе. Чеченцы уже в начале войны подняли мятеж, и нас, курсантов, только что окончивших школу и ещё не успевших получить офицерское звание, ночью повезли в горы на подавление мятежа. Но это уж тема особая, и теперь, когда я пишу эти строки, а в Чечне погибают русские парни, у меня нет охоты вспоминать события той поры.
Мой спутник, не находя отклика в моей душе, заметил:
– То, что я вам рассказал, это не плод моих недобрых размышлений; вы, русские люди, скоро увидите, какая пропасть пролегла между нами, – и ширится эта пропасть, и углубляется с давних времён. Думается мне, что теперь уж скоро абхазы предъявят свой счёт грузинам, и боюсь, как бы нам не пришлось попросить их убраться с нашей земли и устраивать свою жизнь дома. Там бы, в Тбилиси, Шалве вряд ли удалось наладить такой механизм околпачивания своих земляков. Взяточничество и там, конечно, процветает, оно и у вас в России есть, но, все-таки, своих родных братьев дурить труднее. Да тут и обыкновенное людское чувство присутствует: своих-то жалко бывает. А нас-то ему чего жалеть! Мы – чужие.
Ближе к вечеру мы расстались, и я поехал домой к Бидзине. А через три дня, забросив через плечо походную сумку, я благодарил гостеприимных хозяев и уезжал в Очамчир. Здесь мы с Вано в назначенный час подошли к калитке дома русской докторши, и она повезла нас в Москву.
Глава вторая
Москва встретила нас хорошей погодой; яркое весеннее солнце высоко летело по голубому небу, земля зеленела, набираясь тепла от щедрого светила. Был воскресный день, москвичи распахивали окна квартир, развешивали на балконах ковры, одеяла, одежду. Я попросил Нину высадить меня у метро Профсоюзной, они же поехали по своим адресам. А я некоторое время стоял у входа в метро, оглядывал такие знакомые места, где мы прожили более тридцати лет, а затем переехали в северный район столицы, в уголок, где было тихо и движение машин не тревожило по утрам сон Надежды, у которой уж развивалась гипертония и ей необходима была тишина. Новая квартира уступала по площади и удобствам прежней, но была такой же уютной и нам скоро понравилась.
Вошёл в квартиру, и сонм воспоминаний снова нахлынул на меня. Пройдя в большую комнату, сел на диван и задумался. Курортного отдыха и ярких воспоминаний как не бывало. Я сидел, опустив голову, и не мог ни о чём думать, как только о Надежде, о том, что её нет и я никогда не услышу её шагов, её голоса – и обречён жить без неё, без её повседневных забот, помощи и поддержки в литературных делах и во всей жизни.
Но вот я решительно поднялся и громко себе сказал:
– Хватит ныть! Надежду не вернёшь, ты должен жить один, и жизнь твоя будет такой же продуктивной, насыщенной делами, какой она была прежде.
Растворил окна и так же, как многие москвичи, стал развешивать одежду. Потом мокрой тряпкой, как это делала Надежда, протирал подоконники, шкафы, письменный стол. Пылесосом прошелся по всей квартире. А там, где не доставал пылесос, чистил щеткой.
Работал час, может быть, два.
Зазвонил телефон – частыми звонками, междугородний. Звонила женщина; голос знакомый, но не мог припомнить, кто со мной говорит.
– Я только что узнала: умерла Надежда Николаевна. Я очень огорчена и глубоко вам сочувствую. Мы с Надеждой Николаевной встречались лишь два раза, но я её полюбила и была счастлива, что знаю не только вас, но и вашу супругу. Какая ужасная потеря! Примите мои соболезнования.
Я вспомнил: это была Люция Павловна, вдова Геннадия Андреевича Шичко, о котором я писал очерк по заказу журнала «Наш современник». Поблагодарил её за тёплые слова участия и в свою очередь вспомнил встречи с Геннадием Андреевичем и с нею и сказал, что и меня потрясла потеря Геннадия Андреевича, который ушёл из жизни так же рано, как и Надежда.
Её муж умер полтора года назад, я тогда написал письмо Люции Павловне, и мы несколько раз говорили по телефону. Она осталась одна в Ленинграде и тоже, как и я, с большим трудом осваивалась со своим новым положением. Сейчас она мне говорила:
– Не надо впадать в уныние, нужно быстрее привыкать к новой жизни, и лучшим средством в этой адаптации служит труд, активная общественная деятельность. Я успела заметить, что вы человек сильный, много пишете, бываете на собраниях, – я верю, что вы быстро справитесь с постигшим вас таким большим горем.
Еще сказала, что когда я буду в Ленинграде, чтобы звонил ей и заходил в гости.
Звонок этот явился для меня большой и приятной неожиданностью. Я вдруг подумал, что на белом свете есть женщины, такие же одинокие, как и я, а я человек ещё не старый и, может быть, встречу новую подругу жизни, налажу новую жизнь. Правда, едва эта мысль влетела в голову, как я тотчас же и подумал о Надежде: хорошо ли это по отношению к её памяти? Наконец, если и придётся решать этот вопрос, то не так скоро, должно пройти какое-то время, улечься боль сердца.
Вспомнил, как мы с академиком Угловым впервые появились в квартире Шичко. У меня этот эпизод описан в очерке, а затем и в книге о Геннадии Шичко. Приведу это место:
«Вечером следующего дня отправились к Геннадию Андреевичу… Открывшая нам дверь хозяйка Люция Павловна мало походила на жену фронтовика, человека нашего поколения: ей с виду было лет тридцать – тридцать пять. Из-за неё выглядывал хозяин, и облик его рядом с цветущей женой только усиливал моё недоумение. «Ну, братцы-ленинградцы, – думал я о нём и об Углове, – женятся на молодых и красивых».
Потом выяснилось: Люция Павловна не так уж и молода, но случается встретить такой счастливый тип русской женщины, которая выглядит едва ли не вполовину своих лет. Между прочим, любопытно бы знать, какие свойства характера, какой образ жизни помогают иным людям – чаще всего женщинам – сохранять столь долго своё девическое обаяние, а иной раз с возрастом, с расцветом сил, выглядеть ещё краше?..
Люция Павловна, как возможная кандидатура на будущую супругу, долго в моих мыслях не задержалась. С её внешностью и общественным положением, – а она, по слухам, была директором какого-то музея, – оставаться в одиночестве ей долго не дадут. Со времени смерти её мужа прошло полтора года; у неё, конечно же, объявились в мужском мире симпатии, а может быть, она и была уже во втором браке. Однако же именно она дала мне импульс для размышлений об устройстве новой жизни.
Как-то я заговорил со своей дочерью Светланой:
– А как ты представляешь моё будущее?.. Не привлекает ли тебя перспектива заиметь нечто вроде мачехи?..
– Я всё время думаю об этом. И причём это не нужно далеко откладывать. Возраст у тебя почтенный, и тут каждый месяц дорог. Стоит промешкать – и ты сильно упадёшь в цене.
– Твой разговор хотя и носит несколько коммерческий характер, но он мне нравится. Но, может быть, ты уже и взяла на прицел какую-нибудь красотку?
– А вот с этим сложнее. На мушке-то я держу многих, но нет такой, которая бы меня полностью устраивала.
– Тебя устраивала?
– Да, меня. Тут, видишь ли, должна быть гармония интересов; то есть, чтобы тебе подходила, но и меня устраивала. Что до тебя, тут всё обстоит проще; ваш брат, мужик, существо неразборчивое: вам подавай красивые глазки, бюст и всё такое прочее, а вот для меня важен характер. В дом надо завести существо тихое, смирное и чтоб без затей. А таких мало. Таких на горизонте я не вижу. Совсем не вижу. Вот что плохо.
– Ну, ладно. Значит, мне остаётся ждать, пока ты подыщешь существо смирное, почти бессловесное. Москва велика; полагаю, что среди наших многочисленных знакомых отыщется и такое. Вон, к примеру, твоя тезка, вдова моего друга Кобзева. Она и женщина умная, и характер у неё хорош, а что до внешности – красавицей была, да и сейчас…
– Нет! – решительно заявила моя дочь. – Светлана не подходит. У неё дача, большая квартира, машина… Она тебя так нагрузит, что ты забудешь про свои романы, и про нас забудешь. Там у неё сын, сноха… Куча забот! Нет, такой обоз не нужен. Ты его не потянешь, надорвёшься.
Я называю имя знаменитой пианистки. Недавно она мне позвонила и сказала:
– Я потеряла шестнадцатую долю. У меня в суставах завёлся артроз. Мне теперь в сольных концертах не выступать. Собираюсь на пенсию.
Этот наш разговор я передал Светлане.
– Не подходит! – заявила дочь. – Эта уж и совсем не подходит.
– Но почему?
– Отец! Ты что, гибкость ума потерял? Она тебя заездит. Принеси то, сходи туда, сюда; и кофе со сливками будешь подавать ей в постель. Она же привыкла ко всеобщему поклонению, к аплодисментам. Ей и цветы, и по театрам её води. А откуда деньги?.. Печатать тебя перестали. Ты сядешь на пенсию. И она на пенсии. Ну, как вы жить будете?..
– А как же с другой?.. Тоже ведь на одну пенсию.
– Другая будет сидеть тихо. Я же сказала: смирная нужна. А этой луну на тарелочке подавай.
В этом роде мы долго обсуждали планы моей будущей жизни. И когда мне надоело выслушивать такие проникновенные характеристики всех знакомых нам одиноких женщин, я сказал:
– Тогда ищи мне глухонемую.
– Глухонемая тоже может иметь свой характер. И ещё какой!
Моя дочь была всегда деликатной и остроумной женщиной; может быть, и на этот раз она весь наш разговор вела в ироничной шутовской манере, но в одном она меня убедила: подругу жизни я должен выбирать с учётом её многочисленных условий и пристрастий.
Вскоре раздался новый звонок из Ленинграда; на этот раз звонил Фёдор Григорьевич Углов, приглашал пожить у него на даче, вместе встретить майские праздники.
Обыкновенно мне предоставляли две комнаты на втором этаже, где через стенку был овальный кабинет Фёдора Григорьевича.
На просторном письменном столе разложил почти готовую к печати рукопись романа о войне «Баронесса Настя». Фёдор Григорьевич утром на «Волге» уезжал в город на работу, с ним, как правило, уезжала и его супруга Эмилия Викторовна с сыном Гришей. Старший её сын от первого брака Володя и мать Эмилии Тамара Фёдоровна и ещё домашняя работница, а с ними и я оставались на даче, и я имел много времени для размышлений. После завтрака направлялся к Финскому заливу, спускался по склону и думал, думал.
Писать роман я начал давно, и он уже был готов, но, как и всякую свою рукопись, я подолгу и тщательно отделывал, иные главы почти заново переписывал, уточнял расположение сцен, эпизодов, много внимания уделял логическим связям, сюжету и композиции.
Замечу тут кстати, что писать на заезженную, избитую тему всегда трудно. О войне написано много книг, в том числе и литераторами, которые сами на войне не были, – и книги есть хорошие, интересные. Изданы тома публицистики, среди авторов которой лучшие писатели страны – Алексей Толстой, Леонид Леонов, Михаил Шолохов, Михаил Бубеннов… Изданы и переизданы их рассказы, повести, романы. Кажется, уж и не надо больше писать. Как бы ты ни напрягал свою фантазию, ни крутил так и этак известные тебе факты из времён войны, все равно не избежать повторов, штампов, уже известных ситуаций. Так что же?.. Не надо писать о войне? Может, бросить эту мысль и сосредоточить усилия на других темах? Но я же участник войны и прошёл её почти от начала до конца! Хорош же ты будешь, говорил я себе, если о самом главном событии в жизни страны и в своей собственной жизни не скажешь своего слова. Ты прошёл через неё, она прошла через тебя – имеешь ли ты право не рассказать людям о самом большом в мировой истории столкновении стран и народов?..
Так передо мной возникла проблема, которая долгое время казалась неразрешимой.
Тут невольно встает и вопрос: стоит ли так подробно рассказывать читателю о своих чисто писательских проблемах, нужно ли студенту, рабочему или хлеборобу вникать в нашу писательскую лабораторию?..
И я вспоминаю письма читателей, статьи критиков и литературоведов о моих книгах – и почти все без исключения выговаривают жажду знать секреты литературного ремесла, одни из простого любопытства, другие и сами подумывают что-нибудь написать.
Всякое искусство даже и в наш век расцвета умственного прогресса остаётся для большинства людей великой тайной, а литература, как мать всех искусств, окутана почти мистическим волшебством, кажется уделом смелых первопроходцев. В самом деле: цель-то какая! Наставлять уму-разуму человечество!..
Даст Бог, у меня найдутся силы продолжать этот труд, и тогда я попытаюсь показать читателю некоторые секреты нашего ремесла, а теперь повторю лишь поговорку, которую я сам придумал и нередко повторяю своим близким, особенно же внукам: роман написать – не поле перейти. И ещё скажу: достало у меня отваги взяться-таки за роман о войне, и я его написал, и он был напечатан в Ленинграде в 1997 году. А ныне, как мне сообщили из Америки, а теперь вот ещё, два часа назад, позвонил из Австралии мой читатель Павел Николаевич Скобелкин и тоже подтвердил: роман «Баронесса Настя» вместе с восемью другими моими романами какие-то добрые люди поместили в Интернет. Две книги «Последний Иван» и «Унесённые водкой» (последняя – о пьянстве русских писателей) расположили в таком сайте, где их можно полностью прочесть и перенести на дискету, а затем и размножить любым тиражом. Плохо, конечно, что всё это делается без ведома автора, но теперь сетовать не на кого, время настало такое, а кроме того, не на что и обижаться. Книги, как гуси-лебеди, летят по свету; книги – наши дети, и это хорошо, когда они обретают крылья.
Но это всё происходит сегодня, шестнадцать лет спустя, а тогда на даче академика Углова я разложил главы этого романа на столе и сидел над ними, терзаемый муками творчества, сомнениями, которые всегда сопутствуют рождению книги, даже и такой, которая потом ни в какие сайты не попадёт, а хоть чем-нибудь да будет полезна читателю.
Через два-три дня я позвонил Люции Павловне Шичко и между нами произошёл такой разговор:
– Позвольте доложить: я приехал в Питер и живу на даче Углова.
– Я рада приветствовать вас в нашем городе. Вы надолго к нам?
– Поживу, пока не надоем хозяевам, а когда почувствую, что уже надоел, перееду из Комарово в город и поселюсь в гостинице «Юность». Если вы помните, я жил там, когда работал над очерком о Геннадии Андреевиче. Хочу и на этот раз пожить в вашем городе подольше. Буду ходить по музеям, дворцам, бродить по улицам, переулкам, глазеть на дома, где жили русские писатели, критики, знаменитые люди. Надеюсь вновь побывать во всех местах, связанных с нашим великим Пушкиным. Тут, на берегах Невы, мне хорошо работается. Прошу извинить за выспренность речи, но я действительно так думаю и даже готов согласиться с утверждением некоторых моих товарищей – историков литературы, что здесь у вас какая-то особо животворная космическая аура. Недаром же Питер всегда был нашей литературной столицей.
– Да, это верно, но только до революции, а после семнадцатого года, мне кажется, и литературная столица перекочевала туда к вам, в Москву. По крайней мере, мы так считаем.
Потом Люция Павловна спросила о моём настроении, о том, как я привыкаю к одиночеству. Немного рассказала о своей жизни, о том, что на работе она забывается, а когда приходит домой, то тоже ищет себе работу. Сделала небольшой ремонт в квартире, поставила на двери новые красивые ручки, заменила замки. Одиночество её не томит, она не умеет скучать. И как бы между прочим повторила своё приглашение:
– Если будет желание, позвоните мне, заходите в гости.
Разговор получился сухой, казённый; мне показалось, что и приглашает она меня ради вежливости, из чувства такта. Я положил трубку и почувствовал, как под сердцем заскребло недовольство собой, с досадой подумал: «Не сумел и поговорить как следует. «Буду бродить по улицам… тут у вас аура…» – На лбу и на шее даже выступила испарина. – Что она подумает?.. Она же умная женщина. Скажет: писатель, а болтает о каких-то пустяках».
И почти физически ощутил её нежелание видеть меня, отсутствие ко мне всякого интереса.
Впервые подумал о своём возрасте, о том, как выгляжу, как, должно быть, неприятен мой вид, особенно для таких женщин, как Люция Павловна. Она хорошо обеспечена, директор музея, всегда на людях, окружена вниманием мужчин.
Вспомнил её внешность: хороша собой, даже как будто бы и очень хороша. И лет ей немного; кто-то о ней сказал: «До пенсии ей ещё далеко».
Вот в таких невесёлых думах я встретил вечер. Ко мне вошёл Григорий, младший сын Угловых. Когда-то я над ним много подшучивал. Он был маленький, но уже сыграл свою роль в Мариинском театре: что-то там делал с группой таких же, как он, ребят по ходу действия. Однажды пригласил меня на спектакль «Медный всадник». После представления мы ехали на машине в Комарово и я ему говорил:
– Что же ты мне не сказал, что наводнение на сцене будет ненастоящим. А вот у нас в Москве я был на «Медном всаднике» в Большом театре, так там такие волны расходились – чуть и всех зрителей не затопило.
Гриша с видом знатока объяснял:
– Нет, Иван Владимирович, и там вода была не настоящей. Это вам так показалось. Там тоже под сценой машину установили и она давала воздух, а синее полотно раздувалось. Так везде бывает, и за границей тоже.
Объяснял он серьёзно. Раз уж он сам играл в театре, так, конечно же, и знает.
Я возражал:
– Но если там под сценой дует, ты бы мне так и сказал. Деньги-то за билет я платил настоящие, а наводнение, выходит, поддельное было. Это непорядок.
Гриша взмахивал руками и пожимал плечами: как же я такой большой, а не понимаю простых вещей! Но я не стал его долго мучить; обхватил за голову и признался, что разыгрываю его, и просил прощения.
Теперь он вырос, учится в консерватории и готовится стать дирижёром.
Повзрослевшим голосом, почти басом Григорий позвал меня на ужин.
Столовая в доме Угловых, она же и гостиная, находится в первом этаже, красиво и уютно обставлена. От большого окна, выходящего на главную улицу посёлка, и до середины комнаты тянется стол персон на тридцать, в другом конце комнаты у входа на кухню искусно выложенный камин из серо-голубого кольского мрамора, к нему придвинут диван, два кресла. Угловы любят сидеть у камина, который в прохладные дни всегда горит, озаряя красным весёлым светом лица хозяев и гостей. А гости тут всегда, когда бы к ним ни приехал. За столом мне указано место рядом с Фёдором Григорьевичем справа от него. Как я потом узнал, это самое почётное место. Кстати замечу, что Угловы часто бывали в Москве и с 1970 года до моего переезда на постоянное жительство в Ленинград они останавливались у нас на квартире, а в выходные дни мы жили на даче. Конечно же, и у нас им оказывался такой же тёплый сердечный приём.
Когда за столом было много людей, хозяйка дома Эмилия Викторовна была почти всё время на ногах, руководила весёлым застольем. Она была всегда по-новому красиво одета; моей жене как-то сказала: «Люблю наряжаться». Слово наряжаться выговаривала на свой родной украинский манер. И выходило это у неё очень мило. Она и вообще сотворена природой в южноукраинском стиле: роста чуть выше среднего, прямая, ладная, с лицом, на котором лучисто светились крупные серые глаза и которое обрамляли тёмные густые волосы. Не знаю, какого она года рождения, но в том далёком семидесятом году, когда я с ними познакомился, она выглядела лет на тридцать, хотя первый её сын Владимир учился, кажется, в восьмом классе.
Фёдор Григорьевич и тогда, в год нашего знакомства, и теперь в году восемьдесят восьмом, о котором я веду речь, был бодр, весел и занимал всех забавными рассказами из своей богатой событиями и приключениями жизни. Помню, как он именно в этот раз рассказал эпизод, когда будучи студентом он плыл по Лене на небольшом баркасе и почувствовал, что экипаж, состоящий из трёх человек замышляет по отношению к нему что-то недоброе. У него в кармане была небольшая сумма денег, и они, очевидно, решили переложить их в свой карман, а со студентом поступить так, как в то время в тех краях и в подобных обстоятельствах часто поступали: выбросить за борт. И тогда находчивый студент-медик, уже кое-что соображавший в психологии людей, стал читать морякам поэму Лермонтова «Хаджи абрек». В этой печальной повести много жестокостей и смертей. И в том месте, где беззащитная женщина в слезах умоляет горца пощадить её, один из матросов всхлипнул, сказал:
– Хватит, студент! Не могу больше слушать. Считай, что этот поэт Пушкин тебе жизнь подарил. Мы ведь хотели и с тобой поступить, как этот абрек с пленной горянкой, туда тебя, за борт, бросить. А теперь живи на здоровье. И почаще читай эти стихи людям.
– Ну, спасибо, ребята. Я молодой и жить хочу. А только стихи эти написал не Пушкин, а Лермонтов.
– А это всё равно. Слыхали мы, что поэт у нас один, Пушкиным его зовут, ну, а если ещё и этот есть – хорошо. Выходит, и он хорошие стихи писать умеет. Только если ты его увидишь, скажи от нас, чтобы стихи не только печальные писал, а и весёлые. Душа человека радости просит, а тут такие страхи.








