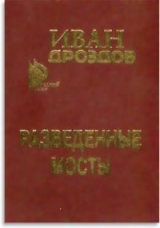
Текст книги "Разведенные мосты"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
– Рукопись это дитя, но как бы ещё не родившееся. Если суждено ей родиться, она будет книгой.
– Мудрено, но, разумеется, верно.
Люша подсела к столу, взяла первую рукопись. Она называлась «Геннадий Шичко и его метод».
– Ты уже написал о Геннадии книгу? Но в журнале очерк о нём назывался интересно: «Тайны трезвого человека», а тут заголовок сухой, брошюрный.
– Да, брошюрный. Но то был очерк, а это – книга. И я писал её с надеждой, что она станет учебником для отрезвителей, работающих по методу Шичко. Тут всё должно быть просто и ясно.
– Пожалуй, ты прав. Но эта-то книга проходная. В ней, надеюсь, нет никакой политики.
– В Москве её напечатать не удалось. Нашлось много противников отрезвления нашего народа. Стеной встали, и рукопись мне вернули.
– Ну, эту рукопись я возьму на себя. Подниму всех знакомых и незнакомых людей. Тут недавно принято решение о создании музея Геннадия Шичко. Директором уже назначен Владимир Бурлицкий. В прошлом он и сам был пьяница и отрезвился по методу Геннадия. Он читал твой очерк «Тайны трезвого человека»; я уверена, что он приведёт в движение свои еврейские рычаги и напечатает книгу.
Она отложила рукопись в сторону и подвинула к себе другую папку. В ней рукопись романа «Баронесса Настя».
– О! Как интересно названа. О чём же она?..
– Это роман о войне.
– О войне? – проговорила Люша угасшим голосом. – Но почему баронесса, и почему Настя?..
– А почему ты спрашиваешь таким упавшим голосом? Наверное, полагаешь, что если уж о войне, то это неинтересно? Съеденная тема, о войне уж книг не покупают?
– По-моему, да. Книг на эту тему написано много. А, кстати: почему всё-таки баронесса-то?..
– Есть книги, выросшие из газетной заметки. К примеру, история студента Раскольникова. Ну, вот – и эта. Я прочитал в газете заметку о русской девушке, хорошо знавшей немецкий язык и засланной в тыл врага. Там она стала баронессой и прожила всю жизнь. Заметка была короткой, но у меня в голове она, как искра, высекла сюжет и вот… получился роман.
– Ну, и… почему же его не напечатали?
– Я показал тут масонов, немецкого еврея-банкира, институт, где готовят молодых евреек в жёны выдающимся людям. Ну и прочее такое, чего у нас не любят. Толкался в разные издательства – не берут.
– Ладно! – заключила Люша наш разговор. – Мы будем всё это читать, а уж там посмотрим. Признаться, я не верю, что из того, что ты написал, нельзя ничего печатать. Нельзя печатать у нас, поеду в другие страны. Буду искать издателей.
На этом Люша свои вопросы закончила. Видимо, опасалась переборщить и заехать в такую глубину, где разговор наш мог стать для меня неприятным. Я оценил её деликатность и со своей стороны не стал расспрашивать, а как это она, сохраняя за собой службу во Дворце культуры, собирается ещё, подобно нашим диссидентам, побывать за границей и устроить в частных издательствах мои рукописи. Не знал я, что она уже тогда для себя решила оставить работу и посвятить все свои силы на издание моих произведений. Не знал и того, что у неё были деньги для поездок за границу. Всё это мне откроется потом, и в недалёком же будущем одна за другой станут появляться на свет мои книги, обретая крылья и множа ряды моих читателей.
Но это, повторяю, всё произойдёт потом, а пока же мы потихоньку налаживали свою жизнь в Питере, не забывая и Москву, в которую ездили часто, и жили там подолгу, особенно после того, как Люша оставила свою службу во Дворце культуры.
Летом тысяча девятьсот восемьдесят восьмого года мы испытали прелести цыганской жизни: бывали то в московской квартире, то на даче под Москвой, поехали в Болград и месяца два жили в доме Люшиных родителей. Потом ездили на Дон в станицу Качалинскую, где жила моя сестра Мария и там же, поблизости от неё, был у нас небольшой домик. Впечатления от этих поездок я оставил в толстых дневниковых тетрадях и в повести «Канадская лебеда», где поведал печальную историю некогда знаменитой на Дону казацкой станицы Качалинской, рассказал о том, как из тысячи домов в ней осталось двести, а из десяти тысяч жителей – триста или четыреста человек, преимущественно стариков и старушек.
Собирал материал для повести о Болграде, но написать эту повесть не удосужился. В память врезались многие эпизоды из жизни этого небольшого городка, приютившегося у лимана в устье Дуная на юге одессчины. Город по рассказам и легендам благоустраивал царский генерал Инзов; приезжал он сюда и с Александром Пушкиным. Поэт в то время находился в ссылке и жил в доме генерал-губернатора. Старики рассказывали, как Инзов глубоко уважал поэта, бывшего тогда ещё юношей, и при всяком случае приглашал его в свои поездки по краю. Из уст в уста передавалось, как однажды высокие гости и чиновники, обедавшие в доме генерала, удивились терпению хозяина, не начинавшего обед без опоздавшего к столу юного поэта. Кто-то сказал:
– Ваше превосходительство, стоит ли нам так долго ждать какого-то молодого человека?
Генерал на это возразил:
– Вы говорите: какого-то, а я вам скажу: если наши потомки когда-нибудь и вспомнят о нас с вами, то только потому, что мы имели честь обедать в обществе этого молодого человека.
И еще меня поразил собор, стоявший в центре города. Он был несоразмерно велик для маленького городка. И я сказал об этом Люшину отцу Павлу Петровичу. Он мне поведал, что царю доложили о проекте храма, намеченного к строительству в столице Сербии Белграде, и то ли в названии города вместо «е» поставили букву «о», то ли царь прочёл бумагу наспех, и в результате появилась его резолюция: «Построить собор в городе Болграде». Обращаться за разъяснением Указа никто из чиновников не посмел, и в небольшом поселении начали строить этот великолепный храм.
Был у меня любопытный разговор с редактором городской газеты. Меня удивило, что в городе на земле украинской выходила единственная газета и печаталась она на русском языке. Я пришёл к редактору и разыграл возмущённого читателя.
– Как же так? – сказал я, стоя у порога кабинета. – Город украинский, а газета выходит на русском языке?
Редактор с минуту разглядывал меня: что это за фрукт к нему явился, а потом спокойно сказал:
– Если я выпущу газету на украинском языке, сотрудникам зарплату не из чего будет платить. Газету покупать не станут.
И потом добавил:
– Для газеты и без того настали худые времена: из бюджета города нам перестали давать дотацию. Я недавно почти вдвое сократил штат. Пришлось уволить и собственную дочь, а у неё, между прочим, трое детей.
На улицах Болграда я редко слышал украинскую речь. В городе, кроме русских и украинцев, жили люди и других национальностей: болгары, гагаузы и даже греки.
Я этот разговор всегда вспоминаю, когда слышу речи о том, что на Украине теснят русский язык и многие политиканы, особенно из «западенцев», отказывают русскому языку в праве быть вторым государственным. Язык – живой организм, он не терпит над собой насилия. И если кто-то запрещает говорить на одном языке, а требует отдавать предпочтение другому, это так же нелепо, как заставлять человека ходить не так, как все, а как-нибудь, иначе, к примеру вприпрыжку или приплясывая.
Осенью мы возвратились в Москву. И тут, прибирая квартиру, Люша сказала:
– Мы должны решить, где будем жить: в Москве или в Ленинграде?
Я задумался. Вопрос этот меня не занимал. Дочь моя Светлана имела квартиру хотя и небольшую, но двухкомнатную, хорошую и в хорошем месте. По меркам того времени семья её была устроена, она с мужем занимала большую комнату, дети – маленькую. Им было хорошо, и помощь вроде бы не требовалась. А кроме того, квартира в Москве была моей гаванью, наградой за труды на ниве журналистики и писательства; я как-то и не мыслил лишиться московской квартиры и очутиться в Питере, в квартире, нажитой не мною, и в обстановке предметов мебели и вещей, не мною приобретённых. На Украине таких мужиков, живущих в доме жены, называют примаками. Мне бы не хотелось прилепить к себе такое нелестное звание. Сказал:
– Я в Москве живу сорок лет, тут моя дочь, внуки, много друзей. И вообще… как-то не мыслю себя в другом городе.
– И я живу в Ленинграде больше тридцати лет, а к тому же и квартира у меня хорошая, окнами и балконом на парк выходит. Как же бросить такую квартиру?
Помолчав, добавила:
– В Питере Пушкин жил, у нас, как я слышала, писатели, как грибы, растут, вроде бы климат для них хороший.
– Уж это так, Петербург всегда был литературной столицей. Но я-то уж вроде бы и отписался, не хочется рукописи плодить и в стол складывать.
– А эту песню ты оставь, она мне не нравится. Сейчас такое время приходит, что не писать нельзя. Россию в омут тянут, её спасать надо. В окна к нам война стучится, а писатель во время войны сродни полководцу. Неужто спокойно смотреть будешь, как Россию на куски рвут. А что раздирать её на части станут, это уж сейчас и невооружённым глазом видно. Серенький человек с метиной на лбу, взобравшийся на русский трон, уж загалдел о новом мышлении, о каких-то реформах. Тебе, конечно, виднее, что там творится в Кремле, но и мы, рядовая русская интеллигенция, слышим запах жареного.
Я сидел за письменным столом, Люша на диване – думали. О трудных временах, валившихся на Россию, теперь говорили все. Уже разрешился трагикомический эпизод с опереточным переворотом, участники так называемого ГКЧП отыграли короткую роль цирковых клоунов, – из Беловежской пущи прилетела оглушительная весть о распаде величайшей в мире империи – Советского Союза. На глазах у изумлённого мира три пьяных полудурка чуть навалились плечом – и государство, собираемое русским народом долгих десять столетий, обвалилось как карточный домик. Теперь надо ждать хищников со всего света, – и клекот стервятников уж раздавался из-за океана. Русский народ с тревогой смотрел в сторону Америки, Англии и всех стран Запада, но не было у нас Сталина, Жукова, армии и флота. Шерсть вздыбила погань, которую мы ещё вчера презрительно называли диссидентами. Ружья у них кривые, стреляют из-за угла – с таким врагом русские люди воевать не умели. И каждый задавал себе вопрос: что-то теперь будет?..
Люша вдруг сказала:
– А чего её держать, московскую квартиру? Нам что, жить негде? У тебя дача есть, оставим её за собой, а квартиру отдадим Светлане. Пусть она свою и твою заменит на одну, большую. Это будет разумно и благородно. Они молодые, и дети у них подрастают – пусть живут просторно и с удобствами.
Это был красивый жест Люции Павловны; я оценил его и тут же согласился.
– Пожалуй, ты права, мы так и поступим. А в случае какого катаклизма будем жить на даче, а не то и на Дон уедем. Там перец красный растёт, помидоры с детскую голову, тыквы размером с автомобильное колесо. Наконец, я рыбу ловить буду.
Мы тут же позвонили Светлане, сказали ей, чтобы искала подходящий вариант на обмен квартир. И стали собираться в Ленинград.
В городе на Неве у меня и раньше водились приятели и были, как мне кажется, даже друзья, но как-то так вышло, что с самого начала участие в моей судьбе принимали люди незнакомые. И что уж совсем странно, первым давшим толчок всем моим литературным делам в питерский период жизни, оказался человек, на помощь которого я меньше всего полагался; это был Владимир Абрамович Бурлицкий. Мы пришли во дворец культуры, поднялись на этаж, где были отведены несколько комнат под музей Геннадия Андреевича Шичко. С радостью увидели много готовых стендов, застеклённых витрин, полок и полочек, в коридорах и комнатах трудились пять-шесть рабочих. У двери в кабинет директора раньше была одна вывеска, теперь появились две: одна большая – «Главный режиссёр», и вторая поменьше: «Директор музея». Встретил нас Бурлицкий. Пожимая нам руки, торжественно заявил:
– Выбил две штатные должности: Люция Павловна будет главным консультантом, а вы, – небрежно кивнул в мою сторону, – научным работником. Зарплата небольшая, но всё же при деле.
Лет ему было под сорок; здоровый, крепкий мужчина, правда, не в меру упитанный, даже можно сказать: слишком упитанный. В его голосе и в каждом слове звучала уверенность. Два года назад он был в сплошном загуле, не просыхал от пьянства и уж забросил все свои обязанности и даже, кажется, не знал, в чём они состоят и за что ему платят деньги. Его держала директор дворца Ольга Фёдоровна Сырцова, одинокая женщина его лет, не скрывавшая ни от кого к нему симпатий. Где-то она услышала, что в городе, и даже в их районе, проводит занятия по отрезвлению алкоголиков известный учёный-биолог Геннадий Андреевич Шичко. Узнала она так же, что учёный не имеет для своих занятий хорошего помещения, и позвонила ему. С радостью, звеневшей в голосе, говорила:
– Помещение мы вам дадим, и хорошее, и закрепим за вами в постоянное пользование, но только вы отрезвите нашего художественного руководителя.
Геннадий Андреевич привёл в действие все средства своего волшебного метода и в течение недели превратил Бурлицкого не только в абсолютного трезвенника, но и в борца за трезвость. Для Шичко они с директором выделили самую просторную аудиторию, обставили её хорошей мебелью, и Бурлицкий стал налаживать широкую рекламу «волшебника» из Института экспериментальной медицины. О работе Шичко с алкоголиками стали писать в газетах, сообщили по радио, а затем слух об успехах питерского биолога докатился и до Москвы. Меня пригласил редактор журнала «Наш современник» Сергей Васильевич Викулов и попросил написать очерк об учёном. Так и появился мой очерк «Тайны трезвого человека».
Бурлицкий мне говорил:
– Ваш очерк я читал. Для человека с высоким интеллектом не надо и занятий, а нужно лишь прочесть ваш очерк. Меня он как обухом по голове ударил: я зашатался и… отринул бутылку. Я бы на вашем месте книгу о Шичко написал.
Люша сказала:
– А он написал такую книгу.
– Написал? И что же? Где она?
– Пока её не удалось напечатать.
– Не удалось? Как же так: журнал напечатал, а книгу не печатают. Да книгу такую весь народ ждёт. Её в школах изучать должны.
И – ко мне:
– Давайте рукопись!
Рукопись я ему принёс, и он её долго читал, но движения никакого не было. Потом у нас в музее, который уж начинал принимать первых посетителей, собрались трезвенники из многих городов России и союзных республик. У Бурлицкого нашлось десять экземпляров журналов с моим очерком о Шичко. Кому-то он подарил, а другим продал. Давали по десять рублей за экземпляр, и это в то время, когда деньги держались ещё на прежнем советском уровне, журналы стоили по шестьдесят-семьдесят копеек. Когда трезвенники уехали, Бурлицкий нам сказал:
– Если за журнал мне давали по десятке, то сколько же можно заработать на вашей книге?..
И с того дня он все свои силы стал посвящать изданию книги о Шичко. Бурлицкий нашёл деньги, часть нужной суммы дала ему Люша. И через полгода книга была издана тиражом в пятьдесят тысяч экземпляров, неслыханным для нашего времени. Пятнадцать тысяч экземпляров Бурлицкий отдал нам в счёт авторского гонорара, остальные тридцать пять тысяч стал продавать по десять рублей за книгу. И книга пошла, и денежки потекли, – часть на обустройство музея, а часть брал себе за труды Бурлицкий. Деньги засветились у него в глазах. Он теперь стал шумным, приветливым и сильно одушевился на поприще главного режиссёра. Надобно сказать, что тут он и раньше проявлял большие таланты, но теперь его инициативы стали бить фонтаном. Он успевал вникнуть и обогатить каждую постановку, которые во множестве готовились во дворце культуры. Директриса Ольга Фёдоровна была всегда рядом и не уставала восхищаться универсализмом его знаний и талантов. Вот это был человек, о котором можно сказать: он знает всё и умеет всё. У нас сейчас такие люди сидят в Думе и в министерствах. Они, как ветер, врываются в кабинеты, хватают лежащие на столе деловые бумаги и подписывают их почти не глядя. Не знают, что в этих бумагах, зачем они, но… подписывают. И нет никаких сбоев, ошибок – Россия всё равно куда-то идёт, куда-то катится, и будто бы даже быстро идёт, быстро катится. Если бы подвернулся случай и в кресло какого-нибудь министерства понадобился человек – лучшей кандидатуры, чем Бурлицкий, не нашли бы. Впрочем, Бурлицкий был рождён для искусства. Тут он нашёл философский принцип, который всех поражал, бил по глазам. Принцип этот заключался в одном слове: недоумение. От каждого сценического коллектива, а их во дворце культуры было много, он требовал только одной способности: внушения зрителям недоумения. На репетициях он говорил: «Что особенно ценится в женщине? Что?.. Недоумение. Тайна. Скрытая в ней непонятность. Ну, а искусство?.. Тут тоже, как в женщине, всё должно быть непонятным. Итак, начали. Ну, пошли, пошли…»
И если Бурлицкий показывает танец, он идёт мелкими шажками и руки выдвигает вперёд медленно, толчками, то одну, то другую. И в такт шажкам напевает мотивчик – на манер того, что пел и сопровождал движением своего грузного тела артист Ульянов в спектакле про Тевье Молочника по рассказу Шолом-Алейхема.
Случается, артисты возражают, как, например, недавно заартачились плясуны цыганского ансамбля. Бурлицкий в таких случаях не настаивает, не спорит. Тихонечко говорит: «Да, вам не нравится моя режиссура – тогда и не надо. Ничего не надо. Вы приехали, и вы будете ехать туда, откуда приехали. Всё просто, как хвост морковки. Сцену получат другие. И зрителя, и рекламу, и всё прочее… тоже получат другие. Эти другие у нас есть. Вон там, за дверью – очередь. Это артисты. Они хотят есть и будут делать то, что я им скажу. Нам нужен танец, а не два притопа и один прихлоп. Не знаю, что вы понимаете в искусстве, а я вам скажу: у каждого времени своё искусство. Наше время требует загадок. Танец должен вызывать недоумение. А?.. Вам это понятно?.. Люди ждут невероятного, жаждут чуда, они за это платят деньги. Только за это!
И главный цыган сказал: «Ладно. Будет вам чудо».
На словах он согласился с Бурлицким, а на сцене его ансамбль исполнил то, что они исполняли всегда, то есть свой цыганский танец. Бурлицкий хотел было не заплатить артистам заработанные ими деньги, но главный цыган показал ему внушительный кулак и сказал: «А за такие вещи мы угощаем вот этим». И повертел кулаком возле носа Бурлицкого. Это был момент, когда недоумение постигло самого режиссера, деньги он выплатил сполна. И без задержек.
Но особенно неудержим он был в советах по вокалу. Как только заслышит голос в каком-то классе, он стремительно в него врывается и поднимает руку:
– Не то, не то – кто вас учил выкатывать такие рулады? Вот слушайте, слушайте! Запоминайте каждый звук!..
Становится в свою излюбленную позу: голову закидывает вверх, губами производит энергичные движения, и носом как-то особенно поводит, и начинает тихо-тихо, и затем исподволь звук форсирует, и ведёт его с каким-то дрожанием на манер итальянских певцов – всё волнами, волнами, и затем резко обрывает. И пучит глаза, будто кого-то сильно хочет напугать.
– Ну?.. – спросил его недавно залетевший на гастроли из какого-то волжского города руководитель группы «Абба-Убба», здоровенный, как медведь, игрок на ложках.
– Что – ну? Я же вам показал.
– А что вы показали? Зачем показали? Мы же поём танцуя, как это делала Сара Бернар, а вы… извините.
– Я и даю вам Сару Бернар.
– Какая же это Сара, если вы, извините, что-то прохрипели невнятное.
– Прохрипел? Это я-то прохрипел? Да если мой голос сравнить с вашими ложками!..
«Абба-Убба» схватил Бурлицкого за нос и так дёрнул, что сорвал клок кожи и будто бы даже свернул набок крючковатый кончик. Игрок на ложках тоже был еврей, но силой значительно превосходил Бурлицкого; режиссёр отскочил от соплеменника и поспешил укрыться за дверью. Впрочем, эпизод этот не имел никаких последствий; русские люди давно заметили: милые бранятся – только тешатся. Концерт во дворце культуры состоялся, и молодёжь, валившая валом на «Аббу-Уббу», так яростно хлопала и орала, что мелодия, сопровождавшая танец Сары Бернар, совсем потерялась и даже стучавшего во всю силу ложками главаря рок-группы никто не услышал.
Мы с Люшей стали получать заказы на книгу. Как я и задумывал, она приобретала значение учебника для алкоголиков и тех, кто их отрезвлял. Музей закрыли не сразу, о нём скоро узнали в городах и республиках Советского Союза, и он уж становился центром пятой волны трезвеннического движения. Но однажды в музей пришёл сияющий от счастья Бурлицкий. Сел в кресло директора и, окатывая нас торжествующим взором своих чёрных выпуклых глаз, проговорил:
– Можете меня поздравить: я – миллионер!
– Как это – миллионер?
– А так: меня пригласили в банк и сказали: «Берите в кредит миллион рублей», я спросил: «В кредит? А как я их буду отдавать?» – «Не надо ничего отдавать. Вы нам напишете бумагу, что хотите купить кафе или чайную, а через месяц напишете другую бумагу: ваша чайная прогорела. И миллион мы вам спишем». Я таращил глаза, изображая ничего не понимающего идиота. И тогда банкир мне пояснил: «Не надо ломать Ваньку, ты Бурлицкий и к тому же Абрамыч; скоро все абрамычи станут миллионерами, а уж потом мы подберёмся и к миллиардам. Бери деньги и иди домой».
Я спросил:
– Ну, и что же? Как теперь все курсы и кружки дворца культуры? Вы же главный режиссёр? Наконец, наш музей?
– Музей?.. Какой музей? Ах, да – музей Шичко. А так… Был музей, хороший музей, нужный, и была у нас с вами книга – и книга хорошая, нужная, но теперь…
Он вышел за дверь, оглядел экспонаты, плакаты. И снова вошёл в кабинет.
– Теперь здесь будет кафе. Я нанял двух парней, близнецы-братья, арендовал грузовик, и они поедут в совхоз за продуктами, а внизу мы поставим большие холодильники и будем там хранить мясо, мороженое и всё такое прочее. Мы теперь будем веселиться: пей-гуляй и никаких тебе начальников.
– Но ведь есть решение о создании музея.
– Решение? Какое решение?
– Выборгского исполкома советской власти.
– Да, такое решение было. Но где теперь Выборгский исполком, где советская власть? А?..
В глазах недавнего пьяницы и главного режиссёра всех мыслимых в мире искусств я читал торжество победившей в нашей стране демократии. К нам снова вернулся капитализм, а строй этот любит деньги и любит таких молодцов, как Бурлицкий. Он и за тысячу-то рублей готов был продать все музеи мира, а уж если ему в карман сыпанули миллион!..
Вернувшийся в Россию капитализм валился на нас снежной лавиной, которая случается в горах и сметает на своём пути всё живое и неживое. Люди из других стран, особенно из тех, где никогда не жили при социализме, могут сказать: «И что же тут такого? Мы живём при капитализме и – ничего, с голоду не помираем, у нас и магазины ломятся от товаров, и на улицах спокойно. Чего уж он вас так напугал, капитализм-то?..»
Люди, рассуждающие так, забыли, верно, что речь-то идёт о России, а она, Россия, не похожа ни на какие другие страны, в ней все события не происходят, а сваливаются на голову и оглушают, да так, что и понять нельзя, как это всё могло получиться. Ну, представим хотя бы такой факт: в стране, разметнувшейся на десять тысяч верст в длину и на пять тысяч в ширину, почти все заводы остановились. Люди перестали получать зарплату. Республики, которых было у нас тринадцать или пятнадцать, отпали, и там появились князьки, баи и ханы. Власть, дотоле правившая Россией, разбежалась по домам, а в царские палаты Кремля въехал самозванец и с похмелья прокричал: «Берите суверенитета кто сколько может». И Россию, как сладкий пирог, стали растаскивать по кускам.
Ну, а что уж тут пошло и поехало… – ни в сказке сказать, ни пером описать. Это надо только видеть. Моему поколению, повидавшему многое, ещё пришлось увидеть и такое.
Однажды в местной газете промелькнула информация: на канале Грибоедова в доме 170 открылось частное издательство. Каждый автор за собственные деньги может напечатать своё произведение. Люша всполошилась: «Я тебе говорила: у меня есть деньги. А теперь вот ещё пошли заказы и на книгу о Шичко. Какую ты хочешь издать рукопись? Пойдём в частное издательство».
Я решил, что самой невинной будет первая часть романа «Ледяная купель». Дал ей название «Желтая роза», и мы пошли на канал Грибоедова.
Издательство разместилось в трёх комнатах на первом этаже старинного особняка. Я шёл за Люшей без всякого воодушевления; наверняка, думал я, и тут обосновались мои вечные противники; они-то уж и в первой части романа увидят кукиш в свой адрес.
В комнате с надписью «Главный редактор» сидел мужчина лет сорока, встретивший нас приветливым взглядом, и даже вышел из-за стола и пожал нам руки. Назвал свою фамилию: Стукалин Евгений Васильевич.
– Стукалин? – удивился я. – А вы, случайно, не родственник тому Стукалину, нашему, московскому.
– Он мой брат, – обрадовал меня Евгений Васильевич. Обрадовал потому, что Стукалин Борис Иванович был министром по печати и три-четыре года тому назад предлагал мне стать директором издательства «Книга». Это был очень образованный, культурный человек. Судьба теперь свела меня с его братом, и во мне мгновенно зажглась надежда на благоприятный исход дела. А Стукалин, взглянув на рукопись, поднял на меня глаза:
– К сожалению, мы с вами не встречались, но я, конечно же, вас знаю.
Я сказал:
– Я вас тоже знаю. Вы были директором Ленинградского отделения Детгиза, и ваш главный редактор Ильин писал мне в Москву, предлагал издать для детей мои военные рассказы.
– Мы этот вопрос обсуждали с ним, и по моей просьбе он послал вам письмо.
И добавил:
– Я рад, что вы к нам пришли.
Не стану затягивать эпизод с изданием «Жёлтой розы». Без всяких исправлений она была направлена в старейшую типографию имени Фёдорова, и скоро её напечатали тиражом в пять тысяч. Тысячу книг у нас купил библиотечный коллектор города, остальные залегли в гараже: в магазинах отказывались выставлять её на продажу. Книготорговые боссы знали мою фамилию и дали распоряжение директорам магазинов не принимать этого автора, – и не только «Желтую розу», а и вообще «этого автора».
Демократы отменили цензуру, но они не отменяли цензоров. Наоборот, этих людей в книжной торговле стало больше, и они всё крепче забирали в свои руки потоки книг, журналов и газет. Наступило такое время: напечатать книгу вы могли, но довести её до читателя никаких возможностей не было.
Люша не унывала.
– Книга напечатана, она родилась и появилась в библиотеках. Чего же тебе ещё нужно? – пыталась она рассеять моё недовольство по поводу того, что книгу не пускали в продажу. – Я жалею, что мы не напечатали весь роман, а только половину. В другой раз я не буду тебя слушать. Давай-ка мне рукопись «Баронессы Насти».
Я знал: если уж не пустили в продажу «Желтую розу», то с Настей мои извечные недруги поступят ещё круче. Но тогда зачем же тратить на её издание последние деньги, которые у нас ещё оставались?..
Пытался возражать:
– Роман этот весь начинён взрывчатым веществом: там и Германия, и Гитлер, и гнездо масонов, – и даже показана кухня, на которой еврейские красотки готовятся в жёны выдающимся людям, в том числе и нашим, кремлёвским бонзам. Ну, представь, как всполошатся книжные торговцы, какие они возведут запруды на пути этого романа.
– Неважно! – стояла на своём Люция. – Нам надо родить роман. Ты же знаешь, как Екатерина Вторая, запрещая книгу Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», сказала: книга эта для нас пострашнее Пугачёва будет. Но книга выжила и сыграла свою роль в нашей истории, смела царский строй.
– Ну, выжила, зажгла революционные настроения, но сказать, что смела царский строй…
– Ты говоришь: зажгла, я говорю – смела, это неважно. Важно то, что она родилась и пошла крушить рабство в России. Не будем разводить дискуссий, давай рукопись, не пойдёшь ты со мной, я пойду одна.
– Но ты подумай, во сколько нам обойдётся её издание. Хватит ли у нас денег?..
– Найдём деньги. Не хватит наличных, так я шубу продам. Ну?.. Вынимай из стола свою рукопись, пойдём в издательство.
Вошли в кабинет главного редактора, но его не было на месте. Сели у двери, ждём. Дверь оставили приоткрытой, из комнаты, что напротив, – там тоже дверь приоткрыта, – раздаются голоса, смех молодых мужиков. Кто-то рассказывает: «Сразу после революции в парижской газете появилась карикатура: река, на одном берегу Джугашвили-Сталин, Микоян и Орджоникидзе, на другом – Бронштейн-Троцкий, Каганович, Урицкий. И подпись: «Славяне спорят: кому из них достанется власть над Россией».
Последние слова покрываются раскатом смеха. Нам тоже весело. Анекдот вполне соответствует духу рукописи, которую мы принесли.
Пришёл Евгений Васильевич Стукалин. Пожимает нам руки, приветливо улыбается. Заполучив от Люши рукопись и полистав её, говорит:
– Ну, это роман, дело серьёзное. Романов мы ещё не печатали. Пойдёмте к директору, будем решать вместе.
Директора мы знали, но встречались с ним два-три раза, да и то накоротке. «Жёлтая роза» шла гладко, препятствий на её пути не было и вмешательства директора не требовалось. Владислав Аркадьевич Смирнов-Денисов был в литературном мире человек заметный, ему не было и сорока, когда он стал доктором филологических наук, работал в Институте русской литературы – Пушкинском доме, как его ещё называли, пробовал себя и в прозе. Писал он рассказы и небольшие повести, но я их не читал, но надеялся, что мне его книги попадутся и я их ещё прочитаю.
Буду до конца откровенен: я и не очень стремился читать произведения директора, надеясь тем самым избавить себя от необходимости говорить о них своё мнение. А ещё и опасался, что однажды он мне скажет: «А я стучался в издательство «Современник», когда вы там были главным редактором, но получил от ворот – поворот». А пуще того боялся, что однажды он мне то ли шутя, то ли серьёзно скажет: пытался зайти к вам, но секретарша мне говорила: занят да занят. К счастью, никогда впоследствии при нашем многолетнем и счастливом для меня общении с этим замечательным человеком подобных разговоров не возникало.
Итак, зашли к директору. Сразу же скажу: это был красивый человек; красивый какой-то своеобразной мужской обстоятельной красотой. Несколько лет спустя он покажет мне свой портрет, писанный известным питерским художником, и скажет: похож на какого-то испанского гранда, но ничего не поделаешь: таким меня увидел художник. И в самом деле: несколько вытянутое лицо, усы, бородка и умные выразительные глаза, в которых читалась затаённая грустная дума. Может быть, он предчувствовал свою скорую, внезапную и совершенно нелепую кончину, может быть, и что-нибудь другое, но теперь, когда его нет и я уже не стеснён опасением, что он будет читать мои аттестации и может подумать, что я льщу ему, – свободный от этого, смущающего душу обстоятельства, могу сказать: человек этот был не только самых высоких внутренних достоинств, но ещё и порядочный во всех мелочах своего внешнего поведения.








