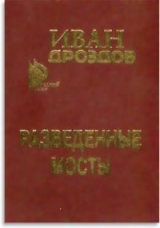
Текст книги "Разведенные мосты"
Автор книги: Иван Дроздов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
– Мои близкие зовут меня Люшей.
– Во! Это мне нравится. Я тоже так буду вас называть. А меня… Тут в посёлке зовут Светкой. Это потому, что я очень молодая.
И – ко мне:
– Правда, отец?
– Куда уж моложе. Скоро бабушкой станешь.
– Вот они, родители. Непременно ушатом холодной воды плеснут.
Но тут, словно в подтверждение моих слов, по лестнице со второго этажа спускался мой старший внук Денис. Он нас не слышал и нёс на руках свою юную супругу Аллу. Вынес её на балкон, спустился в сад и там окунул в бочку с холодной водой. Она визжала, бегала возле бочки, а стоявшие на крыльце соседнего дома старушки с умилением наблюдали за этой сценой. Два-три часа спустя они узнали и новость: Иван Владимирович привёз из Питера жену. И то ли по причине плохого зрения, то ли от вдруг воспалившейся фантазии кто-то из них пустил слух, что жену свою я таскаю по саду на руках. И слух этот на удивление оказался стойким и скоро распространился среди братьев-писателей. Они меня вышучивали, а я пытался развеять нелепую утку, но затем махнул рукой и только говорил:
– Ну, если вы меня считаете таким сильным – Бог с вами, несите и в Москву весть о моём могуществе.
Но в Москву эта нелепость, и, тем более, в Петербург, не докатилась.
Потом мы завтракали. Народу у нас на даче, как и всегда, было много: со Светланой приезжала подруга, с Денисом, старшим внуком, два а то четыре друга; уже с утра в открытую калитку затекали слоняющиеся от стойкого нежелания сидеть за письменным столом братья-писатели; а тут ещё и такая новость: Дроздов женился!..
Длинный и широкий обеденный стол был облеплен весёлым народом, – я украдкой поглядывал на Люшу, искал на её лице следы растерянности и удивления. Но, к счастью, она была весёлой, много говорила и, кажется, с первого же захода сумела всем понравиться. Позже я замечу, что некоторые мои друзья, приходившие к нам в Москве на квартиру и здесь на даче, втайне меня осуждали, а может, и завидовали, находя Люцию много моложе её действительного возраста. И их жёны, до срока постаревшие и знавшие и любившие покойную Надежду, как я мог заметить по их постным лицам, не были в восторге от моего выбора.
Ну, а в те минуты, когда Денис понёс свою супругу к бочке с водой, из своей спальни вышли мои внуки, рожденные дочерью во втором браке: трёхлетний Иван и полуторагодовалый Пётр. Стояли рядком, как пингвины. И не сводили глаз с Люции Павловны. Светлана им сказала:
– Это ваша бабушка, её зовут Люша. Подойдите к ней и поздоровайтесь.
Люция Павловна обнимала их, целовала. Потом вынула из сумки подарки, стала с ними говорить.
Не стану подробно описывать нашу жизнь на даче, а затем и в Москве, но некоторые детали этой жизни всё-таки отмечу. Любопытно, как дети быстро приняли свою новую бабушку. На следующее утро я вижу, как в мою спальню, один за другим, заходят Иван и Пётр. По обыкновению они со мной здороваются, но у меня не задерживаются, а, как и раньше при жизни Надежды, проходят в её спальню и там, хотя и не так смело, как прежде, но забираются в постель бабушки, и Пётр перелазает через Люшу и укладывается у стенки, а Иван пристраивается с другой стороны, и скоро оба они обнимают новую бабушку, предъявляя тем самым на неё свои права. Люция Павловна, не имевшая своих детей, как потом она мне рассказывала, была до слёз тронута таким непосредственным проявлением детской любви. И с тех пор и до сего дня её отношения с Иваном и Петром остаются самыми тёплыми и сердечными.
После завтрака я пошёл по усадьбе и нашёл два больших белых гриба. Не стал их срывать, а Люша подозвала Петю и сказала ему, что вон там, у забора, могут расти грибы. Пётр пошёл к забору и увидел гриб. Сорвал его и побежал показывать маме. А Люша сказала, что там могут быть и ещё грибы. Петя сорвал и второй гриб, подбежавший Иван стал просить брата, чтобы он сказал маме, что грибы они нашли вместе. Пётр охотно пошёл на эту невинную ложь. Я эти сцены наблюдал и не знаю, кто больше радовался: дети или сам режиссер этого маленького спектакля.
Потом мы приехали в Москву. Здесь Люша предложила мне проехать по местам моих работ и взять справки о зарплате. Тут у нас вышла размолвка: я не хотел являться к начальникам учреждений, в которых работал. Она сказала:
– Хорошо. Не хочешь и не надо. Я сама зайду в бухгалтерию и потребую необходимые документы.
Поехали в бухгалтерии «Известий», «Правды», издательства «Современник». Документы нам выдали, и на следующий же день в отделе социального обеспечения мне начислили новую пенсию – 219 рублей, почти в два раза большую, чем я получал. Так я познакомился с первой замечательной чертой характера моей супруги: её деловитостью и умением постоять за себя, за свои интересы.
Попросила меня рассказать ей о моих рукописях, о том, что я намереваюсь с ними делать. Я посмотрел на неё пристально; очевидно, она прочитала в моих глазах сочувствие и снисхождение. Поняла моё настроение. Сказала:
– Ты, похоже, махнул на них рукой и не надеешься их напечатать?
– Ты правильно прочитала мои мысли.
– Хорошо. Тогда скажи: какая рукопись у тебя самая нейтральная, где бы ты не совал под нос властям фигу?
– Такая рукопись у меня есть: «Судьба чемпиона».
Она взяла эту рукопись и стала её читать. Читала и днём, и ночью, а прочитав, покачала головой, сказала:
– Ну, нет, ты свою фигу держать в кармане не умеешь. Однако в этой рукописи уже то хорошо, что ты не ворошишь еврейский муравейник. Кажется, тут ты их, как и все наши советские писатели, и совсем не заметил. Однако же тему поднимаешь очень для них неприятную. Я знаю по опыту Геннадия Андреевича: он, бывало, куда ни сунется со своей проблемой алкоголизма, ему всюду палки в колёса ставили. Но и все-таки: назови издательство, где командуют русские люди.
– Таких издательств в Москве нет.
– Ну, так уж и нет. Ты же недавно сидел в кресле редактора. Или ты тоже не русский?
– Я русский и в кресле редактора несколько лет посидел, да только я-то, пожалуй, был единственный.
Люция Павловна не сдавалась:
– Тут у тебя и спортивная тема широко представлена. В Москве есть издательство спортивной литературы?
– Есть.
– А кто там главный редактор?
– Не знаю.
– Ну, как же ты своих коллег не знаешь? Я вот директоров ленинградских музеев почти всех знаю.
– Ага, почти. Вот и я знаю почти всех редакторов, но кто сидит в спортивном издательстве – не знаю.
– Ну, ладно. Завтра мы пойдём к нему и узнаем. Пусть он попробует не напечатать твою рукопись. Он тогда будет дело иметь со мной.
И мы условились завтра пойти в издательство спортивной литературы. Я знал о наличии такого издательства в Москве, но какие оно выпускало книги – не знал. Спортом я интересовался лишь в тех случаях, когда проводились международные соревнования.
Ну, пришли мы в издательство, поднялись на второй этаж, где находился кабинет главного редактора. Подошли к двери, она приоткрыта. Видим, за столом сидит мужчина средних лет и пьёт чай. Внешность чисто еврейская. И я, и Люша хорошо знаем не только черты лица людей этой национальности, но и их манеру говорить, характер. Редактор увидел нас, громко сказал:
– Вы видите, что я пью чай. Может же у человека быть перерыв на обед.
Люша сказала:
– Мы подождём.
И прошли в холл, сели на диван. Тут была выставка литературы, выпускаемой издательством, и мы хотели её посмотреть, но к нам вышел редактор и пригласил к себе в кабинет. С ним пошла Люша. Выложила на стол рукопись, стала рассказывать о важности проблемы алкоголизма, которую поднимает автор повести.
– А где автор, вы что, его адвокат?
Люша старалась быть спокойной, говорила, не изменяя ровного, вежливого тона.
– Я его жена.
– А он что – сидит там, в холле?
– Да, он в холле.
– Это что-то для меня ново. Ваш супруг не спортсмен, но я где-то его видел.
Редактор, конечно, меня узнал; мы не однажды встречались с ним на совещаниях в Комитете по печати, в ЦК партии, и фамилия моя была, конечно же, ему знакома, но я не пошёл к нему, зная тщету нашего визита, а он не стал настаивать на встрече со мной. Сказал, чтобы рукопись ему оставили, и он пошлёт её на рецензию. И рецензия хотя и не скоро, но все-таки к нам пришла: в ней было сказано, что рукопись автору не удалась, издательство не станет её печатать. Потом мы ждали рукопись, но она не приходила. Звонили, писали, наконец, снова явились в издательство и категорически потребовали рукопись. Оказалось, она затерялась в столе какого-то сотрудника.
Я ничего не говорил Люше, она и сама прошла тропой русского автора, вздумавшего напечатать рукопись в столичном издательстве. Как-то мне сказала:
– Неужели и у нас в Питере сидят такие же редактора?
– Да, во всех издательствах или почти во всех. А если в кресле главного редактора сидит русский человек, то рецензенты и консультанты у него на девяносто процентов евреи. Такое положение в Москве и Ленинграде держится ещё со времён царя, и от этих редакторов много страдали Чехов, Куприн и другие русские писатели.
– Ну, а как же тебя-то назначили редактором в такое важное издательство?
– Ну, это длинная история. Когда-нибудь я тебе её расскажу.
И я рассказал эту историю, и не только эту, в своей книге «Последний Иван». Но это произойдёт несколько лет спустя. И хотя в то время пришедшие к власти демократы отменили цензуру, редакторов своих они не отменяли никогда. «Последний Иван», а вслед за ним и другие мои книги, – а их, одних только романов, я написал и напечатал в Петербурге четырнадцать, – хотя все мои книги и были напечатаны при демократах и полетели они затем, как вестники нашей борьбы, в Австралию, Америку и многие другие страны, но произошло это благодаря исключительно счастливым обстоятельствам, сложившимся для меня в последние годы. И не будь у колыбели моих книг такого ангела, как Люция Павловна, не сложились бы так счастливо и эти обстоятельства. Но об этом я попытаюсь рассказать позже, а пока мы на радостях от начисления мне новой пенсии и от волнительных встреч Люши с моей дочерью и её детьми возвращались в город на Неве.
Жизнь состоит из мелочей, чаще всего пустяшных, иногда нелепых, реже забавных, но всегда неожиданных и быстро проходящих, как в летнем небе легкие облака.
Вернувшись из Москвы, мы сходили на Невский проспект. Там в те майские дни 1988 года на площади у Казанского собора, у Гостиного двора, возле памятника Екатерине Второй собирались группы художников, литераторов, туристов, русскоязычных и зарубежных, а то и просто зевак, слоняющихся по городу и приклонившихся к толпе людей из простого любопытства.
В то время над страной закипали чёрные грозовые тучи, в небе то там, то здесь сверкали молнии, а в Кремле, побуждаемый сонмом враждебных сил, бесновался меченый дьявол Горбачёв. Из тёмных щелей, как тараканы, выползали «борцы за права человека», требовали свободы, звали молодежь рушить и ломать, объявить войну погрязшим в рутине отцам и ветеранам. Позже об этом времени артист Ножкин пропоёт: «Опять Россию словно леший сглазил, опять наверх попёрла лабуда».
С Невского поехали на Мойку, посидели во дворике, походили по всем комнатам квартиры Пушкина. Затем спустились в метро и приехали на Чёрную речку, благоговейно приближались к месту дуэли, где был смертельно ранен наш великий поэт. Трудные для меня эти минуты, когда я ступаю на землю, по которой ходил Пушкин, – волнений этих минут я не могу описать, но они, эти волнения, как бы рождают меня заново, и я чувствую в себе силы, которых раньше не было.
Вечером мы вернулись домой и после ужина пошли в Удельный парк, на краю которого стоит наш дом, погулять. И тут со мной приключилась история, которая меньше всего подходила к началу нашей питерской жизни: у меня вдруг стала кружиться голова. Идём мимо площадки, где поют и танцуют люди, а меня качает из стороны в сторону. Первой мыслью моей было: инфаркт, инсульт или что-то другое. И ещё думал: ничего себе жених, помирать приехал. Смотрел на Люшу и думал: недавно похоронила мужа, а тут ещё и этого надо будет хоронить.
Кое-как прошлись до озера и обратно. Дома от чая и фруктов отказался, лег в постель. Люша взяла томик Куприна и тоже легла в кровать, стоявшую рядом. Читала вслух, а голова моя кружилась всё сильнее. Она заметила моё состояние, спросила:
– Что с тобой?
– А ничего. Поташнивает немного. На Невском мы пирожки с мясом ели, – наверное, несвежие.
Вспомнил, как однажды на даче я проснулся и вижу: потолок уплывает куда-то. Крикнул жене; она спала в соседней комнате. Вышла, и я рассказал, как у меня перед глазами всё куда-то едет. Она много не рассуждала, пошла на кухню и принесла мне литровую банку воды со слабым раствором марганцовки. Я выпил почти всю банку и постарался успокоиться. Надя посидела возле меня минут десять, потом спросила:
– Ну, как?
– А ничего. Потолок встал на место.
Она посоветовала мне поскорее уснуть и ушла к себе.
Вспомнил я всё это и воспрянул духом. Попросил у Люши того же лекарства. Она принесла мне пол-литровую банку, и я её выпил. И тоже через десять, пятнадцать минут голова встала на место.
В ту ночь я спал очень крепко, а проснулся с радостным ощущением красоты жизни и миновавшей опасности.
С тех пор никогда не покупаю на уличных лотках пирожков с мясом. С творогом – тоже.
Глава третья
Строитель ставит на земле дома, цеха заводов или другие какие объекты и может сказать: в прошлом году я построил вот этот дом, в позапрошлом – этот, и так до конца жизни строит и строит. Писатель пишет книги. Но он пишет и такие книги, которые в издательствах не решаются печатать, и они надолго залегают в столе автора. Иногда о них не знают близкие друзья и даже жена. У меня таких «трудных» рукописей на момент приезда в Петербург оказалось семь. Получилось две половины: семь рукописей удалось напечатать, – три романа и четыре повести, другие семь залегли в столе. Это и был итог моей свалившейся уже за пенсионный рубеж жизни.
Каким-то седьмым чувством, а может, и девятым, я понял: моя творческая стихия – роман. Именно на просторах эпического произведения, каковым является роман, я чувствовал себя хорошо. Долго работавший в газете и приученный беречь её площадь, здесь я чувствовал себя вольготно. Меня не стесняли размеры: пиши себе да пиши. Мало тебе четыреста страниц, пиши семьсот, лишь бы было интересно. Вот-вот – интересно! Тут и заключена главная тайна писательства. Тут и вспомнишь главный завет первого теоретика литературы француза Буало, сказавшего: все жанры хороши, кроме скучного. Стоит тебе затеять пустую говорильню, развести на бумаге словесную жижу – и дело твоё пропало: твои книги залягут в подвалы книжных хранилищ и покроются метровым слоем пыли, то есть их постигнет участь девяносто девяти писателей из ста, которых ты знал, которые прошли у тебя перед глазами. Их книги «залегли», потому что они забыли главный завет своего первосвященника: писали скучно.
Может быть, поэтому мастера по литературному цеху, мои старшие товарищи никогда не советовали мне писать романы. А мой близкий друг, романист и в своё время очень известный, Иван Михайлович Шевцов говорил:
– Иван! Не забирай лишнего в голову, не берись за дела непосильные, неподъёмные. Роман – это гора, которую пытаются сдвинуть хилыми ручонками, синяя птица… Её силятся поймать многие, но даётся она лишь тем, у кого талант.
Заходил ко мне на дачу, смотрел, как я ворошу на письменном столе страницы очередного романа, продолжал поучать:
– У тебя получаются газетные очерки, можешь ты написать и журнальный – вот их и пиши.
Больше ничего не говорил, но я слышал, что бы он ещё хотел сказать: «Роман оставь мне, и таким как я, а нас единицы. В Москве насчитаешь пять-шесть серьёзных романистов, не больше. А писательская организация в столице насчитывает шесть тысяч человек! Всего в СССР двенадцать тысяч, а в Москве – шесть.
Самое печальное для меня в этих словах было то, что в них звучала правда. Примерно то же самое говорил мне и рано умерший от вина подававший большие надежды поэт Дмитрий Блынский. Мы с ним вместе учились в Литературном институте. Как-то я, исполняя роль секретаря партийной организации, зашёл к поэтам.
Пусть меня извинит читатель, я позволю себе процитировать место из своего сочинения о пьянстве русских писателей «Унесённые водкой».
Пьяный Блынский, лежа на диване и глядя на меня, говорил:
«Только вот я понять не могу, зачем он, такой бывалый и уже семейный человек, поступил к нам в Литературный институт? Ведь на писателей не учат. Писателем надо родиться. А я не уверен, что он родился писателем…
…смотрел в потолок и чуть заметно вздрагивал всем телом, и морщил лицо, очевидно, страдая от большой дозы спиртного.
Я пододвинул к нему стул, сел рядом.
– А почему вы не уверены, что я родился писателем? А вот Ольга поверила.
– Ольга не знает теории вероятности, а я знаю. Поэты рождаются раз в десять лет. Один! Слышите? Только один экземпляр! Прозаики так же редки. И это у великого народа, да ещё не замутнённого алкоголем. Так неужели вы, трезвый человек, прошедший войну, забрали себе в голову, что вы и есть тот самый редкий экземпляр, который появляется на свет раз в десять лет?..
Из дальнего угла раздался бас Стаховского:
– Митрий, не блажи! Не морочь голову нашему секретарю. Я с ним сошёлся на узкой дорожке и могу свидетельствовать: он неплохой мужик. С ним мы поладим. А кроме того, ты не прав в корне. Давай уточним наши понятия: раз в десять лет родится большой поэт – это верно; раз в столетие могут появиться Некрасов, Кольцов, Никитин; а раз в тысячелетие народ выродит Пушкина. Но есть ещё легион литераторов, – их может быть много, сотня, другая, и они тоже нужны. Они дадут ту самую разнообразную пищу, которая называется духовной. И которая сможет противостоять вареву Сельвинских, Светловых, Багрицких. Вот он, наш секретарь, и будет бойцом того самого легиона. И я в этом легионе займу место на правом фланге. А вот ты из тех, кто рождается раз в десять лет, но из тебя и карликовый поэтишка не вылупится, потому как ты жрёшь водку и сгинешь от неё под забором. И Ваня Харабаров – вон он уснул в кресле, он тоже сгинет, потому что пьёт по-чёрному; и Коля Анциферов – вон он таращит глаза и не может понять, о чём мы говорим – он тоже сгинет. Вы все слякоть, потому что пьёте…
Взгляд своих пьяных глаз на меня уставил Анциферов и долго смотрел, морща губы, словно пытался что-то выбросить изо рта.
– Так ты, секретарь, посмотреть на нас пришёл? А ты скажи: зачем нам секретарь? Ты что, поможешь мне подборку стихов с моим портретом напечатать, вот как печатают Стаховского? Да, у него и никакие не стихи, а их печатают. Почему их печатают? А потому что он Стаховский и зовут его Беня. Он, конечно, поляк, а они думают, что еврей. И печатают. И будут печатать, как Евтуха. Потому что Евтух-то тоже не Евтушенко, а Гангнус. И вот посмотришь: он тоже будет великий, как Багрицкий, Сельвинский, Долматовский. Стихи у них так себе, плюнь и разотри, а они кричат: великий! А почему они так кричат? А потому что в газете-то у него своячок сидит, такой же еврей, как и он. Вот что важно: евреем быть! Это как Ломоносов просил царицу, чтобы сделала его немцем. Вот где собака зарыта: русские мы, а русским в России хода нет. Так за что же ты бился там, на фронте, секретарь, лоб свой под пули подставлял?.. Нам газеты нужны, журналы, а там – евреи. Сунул я свою круглую шлепоносую морду к одному, другому, а они шарахаются, словно от чумного. Они печатают Евтуха, Робота, Вознесенского. Да ещё татарочку с еврейским душком Беллу Ахмадулину. А ты, говорят, ступай отселева, от тебя овчиной пахнет. А?.. Что ты скажешь на это? Ты кого защищал там, на фронте? Их защищал? Ихнюю власть, да?.. Эх, старик! Немцев утюжил бомбами, а того не понимал, что к Москве уж другой супостат подобрался. Этот почище немца будет, он живо с нас шкуру сдерёт.
Анциферов замолчал и долго сидел, уронив голову на колени».
Вон ведь какую истину проговаривают в пьяном бессознательном состоянии молодые поэты: талант-то, равный пушкинскому, может родиться раз в тысячу лет! – да и то не у всякого народа, а лишь у великого, блещущего умом и величием духа.
Но почему же все-таки так редки литературные таланты? Певцы-то, к примеру, являются миру куда чаще. Артисты драматические – тоже. И композиторы, и учёные встречаются в любом народе, и даже в самом малом, будто бы и незаметном. Почему?..
А за ответом далеко ходить не надо. Дело всё в том, что поэт или писатель имеет дело со словом. А в слове великая сила таится. Недаром же говорят: слово есть Бог!
В обыденной жизни мы тоже имеем дело со словом, но слова эти обыденные, простые. Разговор наш хотя и бывает остроумным, печальным или смешным, но он все-таки остаётся обыденным, простым. Другое дело, если те же слова, которыми мы говорим, располагаются особенным образом, расставляются в таком порядке, когда они выражают глубокие чувства и большую силу ума. К примеру, когда мы читаем:
Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом.
Что ищет он в краю далёком?
Что кинул он в краю родном?
Шестнадцать слов, а какая картина! Сколько жизни в них и чувства! И не надо учить их, зубрить на память. Прочёл один раз и запомнил на всю жизнь. А иную чувствительную натуру они и до слёз прошибли. Иному они и скажут: тут и вся твоя жизнь на бумагу положена. Ведь и ты тоже, как тот одинокий парус, белеющий в тумане голубого моря. И не знаешь, чего ищешь на чужбине, что оставил в краю родительском?..
И может так случиться, что жизнь свою ты переиначишь, возьмёшь другое направление, пустишь по другим рельсам. И потом будешь говорить детям и внукам: а ведь всё, что я теперь имею, – и вас так же! – от Лермонтова пошло, от того, что когда-то стихи его об одиноком парусе прочёл.
Вот она, сила поэтического таланта, громадность дел, совершаемых словами!..
Слава и бесславье. Удача и неудача. Кто оценивает труд литератора? Есть ли надёжный критерий этих оценок? Вопросы, вопросы…
В девятнадцатом веке у русских писателей была критика: своя, отечественная. У руля литературного корабля стояли честные, мужественные капитаны: Белинский, Писарев, Добролюбов, Чернышевский. Были редактора: Пушкин, Некрасов, Салтыков-Щедрин… Надёжные это были учителя, умные, проницательные. Им верили. Они вели писателей по верному курсу. Редактором «Литературной газеты» некоторое время был сам Пушкин. В моё время этим редактором почти на полстолетия стал еврей Чаковский. И чем же он наполнил деятельность литературного штаба, куда он вёл русских писателей?..
Мне привелось поработать в министерстве по делам печати, я был заместителем главного редактора всех издательств России, а их было пятьдесят два. Это был котёл русской литературы, в котором выпаривали, выжаривали бедолагу русского писателя. И как он только выстоял? Как от нестерпимых мук не разлетелось на куски его сердце? Это в то время последний великан русской литературы Сергеев-Ценский сделал своё горькое признание: «Чтобы русским писателем быть, надобно отменное здоровье иметь».
Но это всё риторика, которую не любит читатель. Признаться, и я её не люблю тоже. А как же, всё-таки, представить, куда вела русскую литературу малограмотная, враждебно настроенная ко всему русскому банда Чаковского? А вела она писателей на рифы, на айсберги и с вожделением маньяка ждала, когда разобьются вдребезги и литература наша, и сами писатели. Ну, а если конкретнее. Ведь древний философ сказал: истина конкретна.
Попробую схватить за хвост эту истину и вытащить её на свет божий.
Корни наших бед издалека тянутся. Потянешь за них и вытащишь Радищева, декабристов, Герцена. Не скажу, что это были плохие люди, добра они хотели русскому народу, мостили дорогу в рай, но привела эта дорога к вратам ада. Всё у них вышло по формуле нашего недавнего незадачливого премьера: хотели как лучше, а получилось как всегда. Они за ручку привели к нам уж совсем бешеных революционеров, и не русского, а еврейского разлива. Эти не только царя, но и деток его малых перестреляли в подвале Ипатьевского дома, и всю Русь залили кровью, а уж вслед за ними и такие пришли, которые и саму Русь разрушили.
И тоже не без участия русских интеллигентов. Странная она, эта русская интеллигенция! Какими только грязными ругательствами не обложил её народ! Откуда она такая взялась? Ведь, вроде бы, своя, доморощенная. А в начале прошлого века стала вылупляться из глубин своего же собственного простого народа. Я и сам начал жизнь в деревянной люльке, подвешенной к потолку многодетной крестьянской избы. И как-то так у меня вышло, что рано протиснулся в ряды этой самой отечественной русской интеллигенции. В двадцать один год старшим лейтенантом артиллерии кончил войну, а в двадцать пять уж закончил Высшие курсы военных журналистов при Военно-политической академии имени Ленина. И стал корреспондентом газеты «Сталинский сокол», Центрального органа Военно-воздушных сил страны. И дальше поднимался всё выше: «Известия», Министерство по печати… Интеллигенция, конечно, и товарищи мои по большей части интеллигенты. Но что же я видел в своей среде? Какие страсти и страстишки кипели в нашем котле?..
Много тут было всякого. Ой, как много. Третью книгу я пишу о своей жизни, – документальные книги. Тут и все события, и факты, даже эпизоды мимолётные, и лица, и фамилии – всё в действительности существовало, ничего не выдумано, а кажется мне теперь, когда я вот сейчас заканчиваю третью книгу, что и десятой доли я о жизни своей не сказал. И будто бы правду хотел высветлить, одну только правду, а вся-то правда и не даётся в руки. Гляжу на новое поколение, на вошедших в зрелость и только ещё подрастающих людей, – нет, не готовы они для восприятия всей-то правды. Да и сам я ещё во многом сомневаюсь. Вот и просеиваешь через мелкое сито факты и события, думаешь всё время, о чём приспело говорить во весь голос, а о чём ещё следует и подождать.
Но и всё-таки: если не я, то кто же?
Знаменитый французский дипломат Талейран говорил: если бы рядовые граждане знали, какие жалкие людишки руководят ими, они бы содрогнулись.
Я сам литератор, общался в литературно-издательском мире и, естественно, могу говорить о том, что мне знакомо.
Меня поражало обилие людей, взявшихся поучать человечество, то есть писать книги, умеющих сглаживать, обходить острые углы, а если говорить попросту, мастеров из правды делать неправду. Но зачем же они это делали? Кому-то она была нужна, эта неправда, если появилось столько мастеров её делать?..
Я всходил на подмостки литературы в середине двадцатого века, то были годы разгула бесовской критики, торжества евреев, забежавших в рубку литературного корабля. Миллионными тиражами выходили газеты и журналы, и в каждой редакции литературным отделом заведовал иудей. Он-то уж знал, кого хвалить, а кого предавать анафеме.
Большую часть времени я проводил на даче, в поселке Семхоз под Сергиевым Посадом. Там жили двадцать писательских семей. Это были русские литераторы. Нас предавали анафеме. Еврейские критики красок на нас не жалели; если уж примутся топтать, то живого места на нашем теле не оставалось. Десять разгромных статей обрушили на Ивана Шевцова за его роман «Тля». Три статьи обвалила «Литературная газета» и на меня за роман «Подземный меридиан». Кусали поэта Игоря Кобзева, кидали камни в каждый поэтический сборник Владимира Фирсова, очевидно испугавшись его возвышения над поэтической шпаной из одесской школы после того, как о Фирсове отозвался с похвалой Михаил Шолохов. Но потом заметили: ругань еврейских критиков имеет и обратную сторону: привлекает к русскому литератору читателя. Умный читатель понимал: раз ругают, значит, там что-то есть. И птенцы литературных генералов Чаковского, Пастернака, Сельвинского, как мы понимали, принимают решение: если мы пока не можем русским полностью закрыть ход в издательства, то окружим их имена стеной молчания. И для нас начинается тяжёлое время подполья: мы есть, но нас вроде бы и нет. И эта тактика тайно поощрялась руководством нашей родной коммунистической партии, куда в то время всё больше наползало «агентов влияния», то есть молодцов, состоявших на службе у тайных разрушителей нашего государства.
Но вернусь к тому времени, когда я поселился в Питере.
Глядя, как я закладываю в ящики стола папки, Люша спросила:
– А эти рукописи готовы к печати?
– В общем, да. Надеюсь, придёт и для них черёд, но пока наше общество не может их переварить. Это как для меня грибы: я их люблю, но желудок протестует.
– Я, конечно, понимаю: у писателя бывают и такие рукописи. К примеру, у Пушкина есть стихотворения, которые он не мог напечатать. Драма «Борис Годунов» будто бы пять лет пролежала у него в столе. А поэма «Медный всадник» и вовсе не печаталась при жизни. И все-таки писатель должен уметь обводить вокруг пальца редакторов и цензуру. Таким искусством вроде бы обладали Иван Андреевич Крылов и Салтыков-Щедрин. Ты меня извини, но я по привычке музейного работника невольно прощупываю каждый экспонат, попавший ко мне в руки.
С ответом я не торопился. Понимал, что я для неё не только новый муженёк, но ещё и экспонат, который требует изучения и оценки. Первый её муж, как я успел его понять, собирая материал для книги о нём, был экспонат нелёгкий, и во многом так и остался неразгаданным, а тут ещё и второй выложил на стол целый ворох своих загадок. «Повезло же дамочке!» – думал я, устремляя на неё взгляд, в котором копошились и мои собственные вопросы. Я никогда не любил говорить о своих так называемых творческих планах, и особенно же о рукописях, лежащих у меня на столе, а тут о моих трудах хочет знать человек, связавший со мной жизнь, и знать он хочет не из простого любопытства, а из желания мне помочь, принять участие в моей литературной судьбе, не представляя пока ещё, как она бывает нелегка, судьба писателя.
Одним словом, Люша, сама того не подозревая, погружала пальчики в моё сердце и пока ещё не слышала моей боли, моих страданий.
Она невольно взяла на себя роль следователя, а меня поставила в положение подозреваемого в каких-то неблаговидных делах и с нетерпением ждала моих ответов.
Покойная Надежда мне таких вопросов не задавала; на каком-то подсознательном уровне она понимала мой замысел писать непроходные книги. Помнится, она лишь однажды мне сказала:
– Ты надеешься на дочь, на внуков?..
Я спросил:
– А ты не надеешься?
– Я – нет. Я даже уверена, что после нашей смерти в лучшем случае они бросят рукописи на чердак, а в худшем будут растапливать ими печь.
На этот раз, выслушав Люшины вопросы, я долго молчал. Горькие это были для нас обоих минуты. Но я понимал: отвечать надо серьёзно; ведь нам предстояла совместная жизнь. Надо было не только понимать друг друга, но и чувствовать сердцем. Для начала ответил общей фразой:








