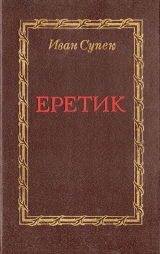
Текст книги "Еретик"
Автор книги: Иван Супек
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 23 страниц)
– Мы оберегаем святой престол, – строго поправил монах. – Твой разум проложил бы тебе дорогу.
– Куда? В чулан за кафедрой? Никогда не было полного доверия к нам, ученым. И это распространилось на меня, когда я был поставлен епископом и примасом этих развалин.
– Прежде чем требовать полного доверия, спроси себя, Марк Антоний, полностью ли ты доверился святому отцу и ордену. Не утаил ли ты что-либо для себя? Ибо это явилось началом твоего отчуждения. Тайная мысль внутри тебя вырастала в ощущение провинности. А исповедайся ты вовремя нам, тебе стало бы легче, брат мой. Святой орден должен знать обо всех раздумьях, предчувствиях, сомнениях, полный милости к исповедующимся…
Сурового пастыря охватило вдохновение, и он даже преобразился, возвещая смутьяну милость Спасителя. Глубокие морщины у него на лице разгладились, губы увлажнились, бегающие глаза засияли отеческой добротой. Мягкий баритон вдохновенно пытался сокрушить броню давнего воспитанника иезуитов, и, противостоя ему, разум Доминиса искал фактов:
– Святой престол настаивает на незыблемости некоторых догматов…
– Жизнь следует посвятить истине. Папа желает обсудить новые научные теории.
– Во-первых, нужна свобода…
– Мы предоставим вам, мыслителям, столько свободы, сколько считает необходимым церковь, дабы обеспечить развитие прогресса. Разумеется, здесь, у вас, нужна воинская дисциплина, и мы не можем согласиться с существованием в этом предмостье христианства отдельной академии. Однако если б ты знал, как откровенно спорят в Риме, при полной терпимости нашего святого ордена! Сам кардинал Беллармин желал бы обменяться с тобой мнениями, Беллармин, которого ты знаешь по Римской коллегии как человека весьма широких взглядов…
– …как человека весьма ортодоксального, – в душе Доминиса проснулся падуанский теолог, – который давно выступает против меня, противника его схоластики.
– Беллармин, в согласии с генералом ордена, искал встречи с учеными, и наверняка дискуссия между вами была бы весьма полезной, ибо могла бы внести ясность в некоторые родственные проблемы…
– Господь знает, – кольнул Доминис велеречивого гостя, – не почтил ли бы своим присутствием нашу беседу генеральный комиссарий Священной канцелярии!
– Ей-богу, – улыбнулся иезуит, – доминиканцы обвинили бы тебя, подобно твоему коллеге Галилею, в противоречии Священному писанию, но, как тебе известно, наш орден весьма сочувствует новейшему образу мыслей, и ми всячески стремимся· утвердить новые методы в наших училищах.
Доминис осторожно промолчал, не приемля оправданий иезуита, – орден действительно проявлял больше внимания к новой науке по сравнению с крайне консервативными доминиканцами, что, правда, диктовалось прежде всего лукавством, желанием вовремя притупить острие новых научных открытий; поэтому в конечном счете иезуиты приносили больше вреда, чем черно-белые псы церкви, с пеной у рта защищавшие догматику Фомы Аквинского. Легат покусывал губу, досадуя на себя за неосмотрительность. Не обладая широким образованием и будучи весьма подозрительным к новоявленным «мудрецам», он попал впросак теперь перед сплитским ученым, определив Беллармина как «проявляющего терпимость» собеседника в дискуссиях между церковью и наукой. Заброшенный в глушь прелат, должно быть, из писем знал о событиях, происходивших в столице, и, вероятно, следовало бы посвятить его в некоторые малоизвестные дела. Галилей ошибался, слишком полагаясь на либерально настроенного кардинала Маффео Барберини, который в лихую минуту предал бы ближайшего друга, памятуя только о своих интересах, поэтому иезуит благосклонно советовал любому автору стоять на стороне тех, кто воистину нечто значит, в противном случае будет очень трудно избежать Индекса запрещенных книг. Но внезапно вспыхнувшие подозрения заставили его вдруг прервать свои рекомендации.
– Почему, однако, вы, естествоиспытатели, так забегаете вперед? – с детской непосредственностью осведомился он у молчаливого хозяина.
– Стоит человеку хоть единожды познать творческий восторг исследования, – задумчиво ответил ученый, – и он не сможет оставить мир в его прежнем состоянии.
Подобное объяснение не могло удовлетворить искушенного инквизитора; надев маску отеческого всепрощения, он продолжал с напускной пылкостью и сочувствием:
– Сомнения знакомы каждому верующему. Они начинают одолевать, едва остаешься в одиночестве. Я знаю, что многое под куполом Ватикана приводит в соблазн христиан. Но стоит появиться малейшей трещинке сомнений, и тогда одиночество сокрушит тебя, особенно в такой глуши. Лишь исповедь может принести исцеление и сверх того даровать благодать. Церковь проявит понимание кающегося. Раскаявшийся грешник милее святому ордену. Лишь одному вовеки не суждено искупить своей вины – надменному праведнику! Корабли церкви плавают в столь высоких сферах, что экипажу это порой становится не под силу. Хотя, отведя душу в разгуле, преступившие закон возвращаются в лоно церкви с еще большим усердием. Иначе я не может масса людская служить святому престолу. Откройся, брат, поведай, что смутило тебя. Если ты умолчишь, осевшее на душе станет для тебя неизбывной мукой.
Взгляд его, словно ястреб, хищно кружил над письменным столом, где лежала стопа исписанных страниц; не выдержав, иезуит сделал шаг вперед. Доминис усмехнулся. Это были копии просьб и жалоб, которые он посылал в Римскую канцелярию, сетуя по поводу выплат Андреуччи, по поводу своих оспариваемых прав, по поводу невозможности принять под свою руку Дувно, ропща на секвестр, наложенный на его доходы, жалуясь на козни иезуитов, на грабежи, отлучения, испорченность нравов среди епископов, сообщая о различных преступлениях, случившихся за время его предстояния в этой епархии, где все исчадия ада правили свой шабаш. Взяв несколько листков, хозяин удовлетворил любопытство гостя.
– Когда я жаловался на невыносимые налоги, несправедливость курии, двуличие монахов…
– Ты не был услышан?
– Я был предупрежден!
– И отвергнутый, отдался своему перу?
Да, он взялся за него, как за весло подхваченной бурей лодки, надеясь с его помощью добраться до берега, где высились старинные города, существовали большие учебные заведения, выступали свободные умы; но в этом Доминис не желал признаваться навязчивому исповеднику. Легат разочарованно отошел от стола, на поверхности которого он заметил лист с печатью папской канцелярии, однако разгоревшийся охотничий инстинкт не позволял ему оставаться обманутым, и он решил, не таясь, ударить по лицемерному сочинителю:
– Твой дух легко мог бы свернуть здесь, в одиночестве, на неверную дорогу. Самое подходящее для тебя время присоединиться к философам в Римской коллегии.
Болтуны и начетчики, стервятники на апостольской наследии, вызубрившие Фому Аквинского, высокопарные схоласты, выкладывавшие свои трактаты из камешков Священного писания и «Метафизики» Аристотеля, советники Священной канцелярии, вечные спутники инквизиции и палачей, думал Марк Антоний. Присоединиться к ним, как предлагал генерал, означало утратить всякую связь с живой человеческой мыслью и новой наукой. Схоластический туман наряду с пушками и тюрьмами надену но оберегал папские действа; попугаи от богословия стремились перекричать разум. Этот и подобный Рим не принял бы автора книги «О церковном государстве».
– Сейчас я не смог бы, – Доминис отклонял опасное предложение, – последовать твоему совету.
– Не смог бы, – иезуит разыгрывал изумление, – когда святой отец призывает тебя?
– Пусть он меня простит! Мне трудно пускаться в путь. Я должен покончить со своими делами.
– Со своей книгой?
Наконец-то посланец папы выдал истинную цель своего приезда. Мысли о книге, которую писал Доминис, не покидали его. Он не сводил волчьего взгляда с автора, дабы вовремя отрезать ему путь к отступлению.
– И моя тяжба о выплате пока не решена, – Доминис пытался отвлечь его россказнями о переписке с папской канцелярией.
– Да где же она должна найти окончательное решение, как не в курии? Мы все склонны решить дело в твою пользу.
– И вернуть выплаченные деньги?
– Уповай, брат, на милость святого отца! И прихвати с собой свою рукопись! С нашей помощью ты допишешь ее в Риме, и тогда мы, соборные, восславим господа!
Автору было достаточно ясно, чем бы это обернулось, но больше лавировать он не мог. Святой орден располагал неплохой информацией.
– Я писал нечто в связи с тяжбой против этого негодяя Андреуччи… – Он надеялся внушить гостю, будто речь идет о ничтожном споре.
– Покажи!
– Если мне суждено когда-либо ее закончить, я отправлю книгу цензору Священной канцелярии!
– Напечатанную?
– Где же мне печатать ее без вашего одобрения?
Иезуита это также беспокоило, поскольку он не был абсолютно уверен в невозможности такого исхода. Запретные тексты иной раз ускользали от проверки, и, когда какой-нибудь особенно ревностный кардинал приходил в ужас, сочинение уже было распродано. Вообще читательская публика обладала особым нюхом на запрещенные книги. Так, например, «Homo novus», привезенную из Лондона, передавали из рук в руки, и римскому суду пришлось пригрозить смертной казнью, дабы предупредить шествие «Нового человека» среди верующих католиков. Такой заметный писатель, как Марк Антоний де Доминис, без труда мог найти издателя в Венеции или даже вовсе вне досягаемости папской цензуры, причем не исключено также, что он сам подумывал о создании в Сплите не только академии, но и типографии. Как бы там ни было, сейчас папскому легату показалось подозрительным упорное нежелание прелата отправиться в Рим.
– Ты хотел бы остаться здесь, брат мой?
– Я хотел бы без помех завершить начатое.
– Без помех, будучи пастырем бунтующего стада?
– Ты дважды повторил, отец, что я не создан для этого места. Возможно, и в самом деле так.
– Ты живешь в предмостье нашей церкви. В качестве первого слуги Рима тебе надлежало и надлежит укреплять веру и любовь к ее главе.
На этом и заканчивались все дискуссии Доминиса с курией: ему надлежало быть слугой, обязанным исполнять поручения церкви, он же проявил себя упрямым и неблагодарным. Мантия, которую он принял от Рима, тяготила его, а воздух вокруг был застойным, как в смрадном болоте. Ему хотелось разорвать торжественные одежды, разломать пастырский посох, растоптать сверкающую митру, но он овладел собой. Чтобы хоть на секунду избавиться от своего страшного противника, он подошел к окну. Толпившийся под окнами люд рассеялся, и на Перистиле остались лишь две небольшие кучки, одна вокруг отца Игнация, другая вокруг Дивьяиа и Капогроссо; и те и другие, очевидно, старались избежать потасовки. Прислуга архиепископа, осмелев, вытеснила вооруженных спутников легата из галереи. Удар, который первым, как обычно, нанес иезуит, приняла на себя и смягчила изменчивая, непостоянная толпа. И может быть, в этот самый напряженный момент кто-нибудь да вспоминал, что их примас был единственным, кто ободрял их, когда чума и голод разогнали из города дворян и членов капитула. Люди, видимо, заметили его в неверном свете окна, раздалось несколько возгласов в его честь. Ну вот, а он жаловался на свою общину. Был у него в городе и приверженцы, носившие в золотых медальонах на груди его изображение. Тьма обволакивала раненные временем колонны Перистиля, и величественное каменное сооружение, казалось, восстало во всей своей прежней красоте; царственная гармония придала мужества павшему духом вассалу церкви. Какую бы он ни занимал ступеньку у подножия святого престола, любой папский посланец может попирать его. Надо окончательно выбраться из пропасти, где каждый служил другому ступенькой а все вместе они были опорой римскому престолу. В свое время он восторженно принял обязательство служить интересам вышестоящих; от этого обета верности следовало теперь себя избавить.
– Я не желаю больше быть первым слугой.
– Что ты говоришь! – Тощий легат был потрясен. – Ты не хочешь служить папе?
– Я покину кафедру.
– Ты отказываешься?
– Я так решил прежде, до твоего прибытия.
– Ты решил? – переспросил иезуит, и голос его был полон изумления и ненависти. – Ты сам решил?
– Я возвращаю папе облачение.
– Ты сам возвращаешь?!
– Я ухожу.
– Куда же?
Исчезло напускное доброжелательство монаха. Лицо находившегося перед Доминисом человека теперь откровенно выражало бушевавшие в его груди чувства; и он сжимал кулаки, обуреваемый страстным желанием броситься на архиепископа и задушить его, отступника, собственными руками. Разыгрываемая комедия братства во Христе оказалась обманом, который не выдержал первой же проверки. Нижняя губа монаха отвисла, открывая острые зубы, словно устремленные к глотке противника. А глаза! В них Доминис увидел свое отражение таким изуродованным, каким исподволь рисовали его кисти шпионов в секретном отделении ордена. Святое братство возненавидело его, и пламя ненависти полыхало теперь в расширенных зрачках иезуита.
– Куда? – Судорога свела его члены, не оставляя Доминису какой-либо надежды па спасение. – Куда? Все принадлежит церкви. Даже рубашка на теле твоем не твоя.
Охваченный слепой яростью, он дернул архиепископа за мантию и стал ее срывать. Этот патер-фанатик скорее принял бы притворство и упрямство другого, но слово «прощайте» из уст отступника оказалось ему не по силам; для него неприемлема была сама мысль, что находящийся под опекой церкви может куда-то уйти по собственной воле. Ведь святой орден и курия привыкли передвигать, точно пешки, и бросать в тюрьмы папских вассалов и слуг, по, чтобы кто-нибудь уходил сам… такого не случалось, и в этом он усматривал почти личное оскорбление.
– У тебя нет ничего своего. Домик на берегу ты построил на епископские дукаты. За каждую кроху хлеба, за каждый сосуд вина, за свое ложе благодари святой орден! Ты не можешь уйти из церкви никуда и никогда, запомни! Но ты можешь быть лишен всего и отлучен! – вне себя продолжал он кричать, не выпуская Доминиса.
– Этим мне уже грозил святой отец.
Спокойный ответ привел в чувство разъяренного монаха; выпустив из пальцев ткань, он растерянно отступил. Опять злоба заставила его высказать то, что следовало тщательно скрывать под маской доброжелательства. Его вздорный, деспотический нрав еще не настолько свыкся с иезуитской изощренностью, которая вернее вела к цели. Он поспешно пытался натянуть на оскаленную волчью пасть маску любезности и, только что пригрозив хозяину отлучением, как ни в чем не бывало сладким голосом теперь обратился к нему:
– Я приехал, чтоб спасти тебя от анафемы, брат мой. Твои мысли о реформе обсудят в Римской коллегии, в курии и у нас в Священной канцелярии. То, что выдержит проверку, станет достоянием верующих. Утром я ожидаю тебя в порту. Мир людям доброй воли!
– Подожди немного, – попытался удержать его архиепископ.
– Когда призывает понтифик, – наставительно заметил иезуит, – обыкновенно поспешают выразить свои чувства и отбывают с первым же кораблем.
Серый гость направился к двери без принятого приветствия, лишь после которого по протоколу уход считался возможным. Дремлющая стража вскинулась в полутемном коридоре, а, услыхав звон оружия, на площади провозгласили славу папе и его посланцу. Сквозь толпу, готовые ко всему, пробрались ученики Доминиса. Опоясанный толстой веревкой Иван волочил за собой длинный меч а своего менее храброго товарища, Матея. Стоя на пороге, архиепископ еще раз попытался заставить своего непримиримого гостя внять его просьбе:
– Я прошу твою милость передать папе Павлу Пятому…
Иезуит, уже окруженный своими бряцающими оружием спутниками, резко обернулся и дважды произнес твердым голосом, в котором, однако, не было ни угрозы, ни приказа, но само неумолимое веление судьбы:
– Ты приедешь. Ты сам приедешь!
Отец Игнаций и доктор Альберти со своими сторонниками ожидали на Перистиле выхода легата. Восторг доктора достиг апогея, и его возвышенное настроение передалось окружавшим юношам. Щеголеватые дворянчики выхватывали из позолоченных ножен шпаги и призывали к крестовому походу на османов. Приезд посланца папы подействовал как призыв к бунту, тем более что иезуитские эмиссары из Дубровника подготавливали восстание в Герцеговине к вящему неудовольствию Венецианской республики. Не зная о происходившем в покоях архиепископа, аристократы подогревали воинственные настроения, несмотря на предостережения более осмотрительных и настроенных в пользу Венеции горожан, а когда иезуит появился в дверях, древний императорский двор огласили безудержные вопли пылких воинов:
– В бой против турок! На Клис! На освобождение христианских земель! Долой венецианских прихвостней!
– Они знают о твоей книге, – нарушил Иван горестные размышления учителя. – И хотят увезти тебя в Рим, передать Священной канцелярии!
– Как ты поступишь? – испуганно спрашивал Матей.
Что ему оставалось, кроме побега, коль скоро он решил не сжигать свою рукопись? Еще совсем недавно он старался избежать и того и другого решения, надеясь уединиться в маленьком домике на поросшем лесом берегу и отдаться любимому делу. Он предлагал свою отставку безжалостной курии при условии, разумеется, что по обычаю диоцез изберет ему преемника. Если уж оставлять другому пораженную чумой и обремененную долгами кафедру, то пусть хоть Рим не навязывает опять какого-нибудь своего Андреуччи – как случилось в Трогире, – чужеземца, лишенного чувства меры и чувства сострадания. Однако папский посланец отнял у него последнюю надежду. Отступать в церковном государстве было некуда! Все принадлежит церкви: и твоя рубашка, и дом в лесу, и ты сам…
Немногочисленные сторонники архиепископа последовали за шумной толпой на площадь святого Ловро. В опустевшем дворце остались лишь три монаха, подавленные своим одиночеством. Жалким, обезображенным и обезглавленным миром правили фанатики, устраивавшие для простолюдинов пышные процессии, праздники и облавы. Паук-крестовик, подлый и кровожадный, все вокруг оплетал своей иезуитской паутиной. А людское стадо ревело от восторга, видя, как папский легат целовал девочек, наряженных в белоснежные платья, сулил им грядущие благодати и возносил молитвы об их спасении; эти люди, выстроившиеся шпалерами и восторженно радовавшиеся любому посулу, не обладали памятью. На поляне в пламени костров готовили мясо. За куском жареной баранины обряженные в пестрые тряпки голодные позабудут, ради чего вступил в конфликт с римской курией их примас. Впрочем, им его бунт ничего не принес; а после чумы и принудительных выплат он и сам превратился в такого же бедняка, как они. Развалины давнего королевства обрушивались на безумных его обновителей, и обитатели этих развалин, упоенно крича, приплясывали вокруг тех, кто их обирал и грабил.
XIII
Еще в рукописи его книга «О церковном государстве» навлекла на себя немилость. Приказ Священной канцелярии прибыть Марку Антонию вместе с нею в Рим встревожил не только автора, но всколыхнул и всю благочестивую общину у подножия турецкой крепости. В слухах да в подметных листках, распространяемых по округе, сплитского архиепископа изображали вольнодумным грешником, который целых двенадцать лет проповедует против единственно спасительных догматов римской церкви, причем именно здесь, в славном предмостье христианства, где всем надлежит объединиться вокруг священного апостольского знамени. К перечню грехов архиепископа, помимо неверия и еретичества, добавляли не менее ядовитую сплетню о его блуде, радуясь, что вовремя удалось помешать ему назначить настоятельницей монастыря святой девы Марии разгульную и развратную боснийку.
Лист, прибитый на церковных дверях и потихоньку пущенный по рукам, вверг в дьявольское искушение души верующих, приученных повиноваться и владыке, и капитулу, и монахам. Непонятным образом все эти церковные авторитеты вдруг оказались в смертельной ссоре между собой. Растерянно бродившие по улицам с озабоченными лицами и с видом таинственной осведомленности каноники склонялись в пользу подлой бумаги; доминиканцы же, обычно объединявшиеся с не столь многочисленными, но куда более влиятельными иезуитами, деловито шныряли во тьме. Снова подняли голову недруги Доминиса среди дворян, выкликая угрозы палачу ускоков и венецианскому шпиону, в то время как благочестивые горожане смущенно и растерянно вспоминали вызывающие соблазн проповеди. И хотя предъявленное обвинение не было подписано, каждый находил в нем что-то близкое истине, независимо от того, соглашался он или не соглашался с бранью по адресу ниспровергателя католической твердыни, богоубийцы Пилата, осквернителя священных таинств и отрицателя святых догматов. Замешательство в затхлой общине было полное, причем именно тогда, когда предстоятель ее собирался праздновать свой давний, наконец-то осуществившийся замысел – открытие новой пристройки к восточной степе тесного собора.
Не менее других были растерянны Капогроссо и Матей, поджидавшие сейчас архиепископа на Перистиле. Любимец Доминиса, пробежавший вдоль всего длинного берега до самого Каштелы-Сучурца, задыхаясь, выкладывал новости о повсеместном распространении заговора; взволнованный купец дополнял его рассказ сведениями из своих источников:
– Самые воинственные в капитуле и среди дворян давно жаждут избавиться от тебя, Маркантун, и поставить кого-нибудь из семейства Альберти, как им того хотелось. А раз у тебя с Римом конфликт дошел почти до разрыва, они считают, что подходящий момент наступил.
– Несомненно, это дело рук доктора Альберти, – воскликнул Матей. – Сразу можно узнать его стиль по мистическому пафосу, ссылкам на Пилата и пересказу архиепископских проповедей.
– Что станешь делать, Маркантун? – спрашивал Капогроссо своего друга, задумчиво стоявшего на ступеньках собора святого Дуйма.
– Что стану делать? Авторы этих листков прячутся за анонимом, и в то же время всем известно, кто стоит позади них. Против наветов, клеветы и оговоров у меня лишь одна защита: моя кафедра. С амвона я нанесу удар по иезуитскому заговору. – Примас был глубоко оскорблен.
Он вступил в кафедральный собор, размышляя, как ответить анонимным заговорщикам. Самое скверное заключалось в том, что этот мирок, закосневший в невежестве под постоянной угрозой турецкого кинжала, не созрел, чтобы выслушать правду. Однако архиепископ не станет умалчивать о своем споре с римским престолом, напротив, он подчеркнет, что не он исказил Христово учение, а они сами, те, кто стоит за подлой прокламацией! И он пригвоздит их к позорному столбу, как они хотели поступить с ним. Да, он подумывал о выходе из церкви, но теперь – ни за что! Мысль о том, чтобы после долгих лет взаимных обвинений дать открытый бой, вдохновила прелата; не глядя по сторонам, он устремился к кафедре. Но храм был пуст. На скамьях для капитула и для епископов не было ни одного человека. Столь же безлюдны были скамьи дворянства; лишь одна-две робкие фигуры бродили в огромном здании. Он сам оказался в западне… Это было хуже побиения камнями. Против анонимных инсинуаций и бойкота не было защиты. Пыл Доминиса угас. Ошеломленно смотрел он на притвор, освещенный солнцем, проникавшим сквозь высокие окна. У задней стены высилось кресло примаса, вдоль боковых – по обе стороны в два ряда – находились скамьи для клира, правая их часть представляла собой чудесный образец резьбы по дереву, шедевр мастера XIII века. В этой пристройке архиепископ предполагал созывать собор, как бывало при королях хорватских, здесь он намеревался заново провозгласить свое старинное право. Но кругом царило безмолвие, незанятое кресло примаса противостояло пустынным скамьям для дворян; не было и никогда не бывать разговору между предстоятелем и ею советниками. Далматинские епископы предали его точно так же, как себялюбивый, никого не подпускавший близко капитул. Подавленно и сокрушенно прощался Доминис со своим воображаемым королевством, осужденный на одинокие поиски в заоблачной вышине. Уродливые леса, поддерживавшие верхние галереи, были наконец разобраны, и мавзолей римского императора вновь предстал в первозданной красоте, чистый и просторный, готовый к торжественному приему нового гостя; однако нынешний архиепископ в своей пышной мантии не соответствовал более его чудесному убранству. Высокие своды, опиравшиеся на могучие античные колонны, усиливали ощущение пустоты и потерянности. Безлюдный собор словно раскрыл на одинокого проповедника свою пасть, в которой зубьями торчали каменные статуи святых и пылали в полутьме огненные языки витражей. Эта пасть кусала и заглатывала его во время бесчисленных утренних месс, торжественных служб, иллюминированных вечерних бдений, и вот теперь она выплевывает его, как обглоданную кость.
– Сплитский антипапа!
Доминис удивленно повернул голову к дворянским скамьям, где в пустом ряду стоял доктор Матия Альберти. Он сгорбился, словно не имея сил выпрямить спину, вогнутый куда-то внутрь самого себя. После стольких лет собачьего молчания наконец-то он выкрикнул свои слова, торжествуя и вместе с тем пугаясь собственного поступка. Голос его дрожал от напряжения.
– Сплитский антипапа! Ты хотел обрушить столпы власти Рима, ты хотел оплот христианства превратить в храм своего еретичества. Ты хотел возвысить трон над алтарем. А чего ты добился? Твое лживое учение разоблачено! Твой блуд открыт! Твоя церковь пуста!
Анонимный автор и распространитель ядовитых листков не выдержал и теперь бросал свои обвинения в лицо обвиняемому, сгибаясь и трепеща, изнемогая от гнета тяжкой, напряженной тишины. Но усталого человека, стоявшего на кафедре, не смела буря его злобы; скорее в растерянности, нежели во гневе, перебирал он в памяти причины их вражды, зародившейся в самом начале.
– Я противостоял римскому самовластию, верно, но почему ты отсюда выводишь, доктор, будто я хотел навязать вам себя как папу? Если некто воспротивится насилию, значит ли, что он сам должен быть насильником?
– Насильник ты непревзойденный! Ты посягнул на права капитула, ты посягнул на права дворянского совета, ты угрожал святым орденам, ты сокрушал все, что оберегало хорватские стены перед турками!
– Я носил митру хорватскую, вспомни, доктор! Митру растерзанного государства… Если б вы желали его обновления, вы присоединились бы ко мне. Но вы заботились лишь о своих привилегиях и бенефициях в отличие от ремесленников и крестьян.
– Ты возмущал лицемерного горожанина, ты возмущал нищенствующего попа, ты возмущал скудоумного крестьянина, а во имя чего? Что сотворили взбунтовавшиеся крестьяне в Северной Хорватии? Со своим вождем Матией Губецем [56]56
Матия Губец (? – 1573) – один из руководителей восстания хорватских и словенских крестьян (1573).
[Закрыть]они разрушили замки и разбили крепости, после того как цвет дворянства во главе с Николой Зриньским [57]57
Никола Зриньский (1518–1566) – хорватский бан, полководец, прославленный защитник крепости Сигет (1566). В течение месяца хорватско-венгерский гарнизон, состоявший из шестисот человек, отражал атаки стотысячного турецкого войска. При попытке прорваться Зриньский погиб вместе со всем своим отрядом.
[Закрыть]погиб под Сигетом. И там и здесь чужеземец-завоеватель мог использовать в своих целях этот сброд! Ты пришел сюда как чужеземец, желая разорить древний порядок и навязать свою волю…
Жалкий отпрыск славного сплитского семейства Альберти кричал с пустых дворянских скамей в безлюдном соборе, бросая вызов архиепископу. Одиночка, сейчас он представлял здесь свое спесивое дворянское сословие, защищавшее подвергшийся угрозе порядок. Верно, не мог не призвать Доминис, он остался чужд всем группировка» осаждаемой врагами общины. Каждая из них имела свои святыни и свои знаки отличия, недоступная для тех, кто не состоял ее членом. Отрицавший эти препоны и перегородки свободный ум неминуемо оказывался изолированным. Зажженные свечи в центральном алтаре как бы несли караул перед притвором, где темнел королевский трон. Так завершалось его правление, по существу даже не начавшись! Пространство позади колеблющихся свечей напоминало мертвецкую, отравляя легкие вонью свежей известки. Что здесь останется? Он попытался было убедить в чем-то своего сжигаемого лихорадочным пламенем могильщика.
– Каждый из вас прикрывается интересами своих единомышленников, неспособный услышать, что я говорю…
– Я слышал тебя, – перебил ревностный посетитель всех его проповедей, – я думал о каждом твоем слове. И тогда меня озарило… Ты – Понтий Пилат, прокуратор венецианских завоевателей! Так ты начал в Сене, так ты продолжал здесь, Пилат!
– Значит, ты меня поместил, безумец, в свою мистерию. А если б ты попытался понять мои намерения…
– Я раскусил тебя!
– Да, но только не меня, а созданный тобой призрак. Я хотел, чтоб вы узрели более широкие горизонты…
– И позабыли о своем, о том, что находится здесь? Этого ты хотел, премудрый Люцифер!
Произнося имя дьявола, доктор Альберти вздрогнул. Злоба завела его в такую даль, где до сих пор он еще не бывал. Растерянно смотрел он на архиепископа, стоявшего в торжественном облачении на кафедре у толстой колонны мавзолея, в окружении постыдных символов слепой веры. Брань вывела Доминиса из равновесия. Вспомнились многолетние оскорбления, а долго томившееся слово рвалось наружу. Обидчик вместо того, чтобы просить прощения, дрожа всем телом, оправдывался:
– Когда папа проклял Республику, ты всех науськивал на святой престол. И позже, когда Сенат стал на колени, ты продолжал бунтовать… Чего тебе здесь надо? Чего? Папа Павел Пятый запретил тебе появляться в церкви.
– Тут я предстоятель!
– Возвещено, – таинственно понизил голос обезумевший доктор, – в церковь войдет в мантии епископской антихрист…
Неистовый фанатик корчился на дубовом сиденье, точно в самом деле узрел антихриста. И после яростного своего нападения сник, потрясенный видением, которое сам вызвал. Ясного признака, как отличить врага от недруга, не было. Вечное подозрение поддерживало веру. Окруженный алтарями мучеников в пустом храме архиепископ содрогнулся при этой мысли. Антихрист? Как его узнать? Все, что он начинал и задумывал, все отпугивало верующие души. Неведомый дух говорил его устами, дух, происхождения которого он не знал. Сам Люцифер?
– Антихрист, возвещено, – бормотал почти лишившийся сил доктор, – водрузит вместо божества плоть и утвердит власть светскую. Ты заставлял своих учеников изучать материю, наслаждаться обнаженной плотью, ты защищал закон Республики. А куда ведет этот твой путь?
Расширенные безумием зрачки видели адскую цель, которая от Доминиса, исследователя, ученого, оставалась скрытой. Что мог он противопоставить убежденности доктора, кроме своих сомнений? Глухое чувство вины давно мучило прелата; теперь ему бросили в лицо – антихрист… А исходивший ужасом борец против дьяволов, трепеща, продолжал:
– Ты предал святого отца, который посадил тебя здесь, ты прокладывал путь безбожникам и тиранам…
Наконец доктору Альберти удалось поразить в самое сердце своего недруга, и ненависть ответила на вызов ненависти. И тот и другой годами оспаривали в противнике собственные сомнения сперва осмотрительно и учтиво, чтобы теперь отбросить всякие околичности. Их спор звучал в полутемном соборе богохульственно и искусительно, словно два демона столкнулись в обители окаменевших христианских мучеников, озаренные дрожащим сиянием алтарных свечей. Одинокие фигуры молящихся, подобно каменным изваяниям святых в нишах, замерли в закоулках огромного здания, безмолвно присутствуя при бесовской схватке.








