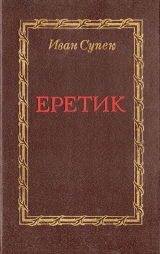
Текст книги "Еретик"
Автор книги: Иван Супек
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
IХ
Неподвижно стоявший человек напряженно вглядывался в густую тьму под благоухавшими кронами пиний. В открывавшейся внизу пропасти он едва узнавал место, с содроганием различая контуры знакомого берега. Да, та самая бухта. Берег у подножия Марьяна. Девушка ждала его там, уничтоженная совершенным грехом и его последствиями, но внешне спокойная. Чувство вины, смешанное с осознанием собственного бессилия эту вину искупить, удерживало юношу. Что ей сказать? Он ничего не мог предложить, кроме нищенской сумы и вечного позора. Решать приходилось ей. Не дождавшись парня, прятавшегося наверху, девушка решительно взялась за весла, и лодка пошла от берега. Он знал, что за этим последует. Добрица уходила в бесконечную ночь, лишенную звезд и лунного света. Окаменев, он продолжал вглядываться в темноту. Издали донесся всплеск, что-то тяжелое упало в воду.
– Добрица! – задрожав, крикнул Матей в ночь. Сломя голову ринулся он вниз и остановился. Поздно. Давно миновала та недобрая ночь, когда девушка доверила любимому печальную тайну. Их свидания в укромных местечках принесли свой плод. Добрица с камнем на шее бросилась в пучину, а он бежал, почти теряя рассудок; и с тех пор бежит через все эти ночи, преследуемый своим малодушным двойником. Да, он не может отрицать, в тот миг, когда он услышал всплеск воды, ему стало легче, да, ему стало легче после приступа невыносимого ужаса. Он сохранил за собой место в академии, сулившее в будущем ученую карьеру. Сильнее первой любви вдохновляли его слова Доминиса, и, едва осознав это, он устремился к далекой цели, испытывая порой мучительную боль и чувствуя себя жалким подлецом…
Измученный конь распластался на подстилке из хвои. Всадник, к которому вернулось сознание, положил на его теплое брюхо свою смятенную голову, но сон к нему не шел. Тоска не отпускала сердце с того самого момента, как на пути в Рим он услыхал, что архиепископ попал в руки инквизиции. Первым побуждением Матея было вернутьсяьв Венецию, однако он продолжал свой путь в папскую столицу, правда, медленнее и медленнее, каждую минуту готовый повернуть обратно. Но, представив себя снова на площади Святого Марка и побагровев от стыда, он давал шпоры, заставляя коня переходить в галоп. Так длилось это полное муки и колебаний путешествие, а ночи становились тем более кошмарными, чем ближе он подъезжал к Замку святого Ангела. Отречение от учителя, породившее неизбывную глухую боль, воскресило воспоминания о погибшей девушке, и, терзаемый чувством двойной вины, не в силах одолеть жуткие видения, он с трепетом смотрел теперь вниз с опасной крутизны. Полчища угрюмых ночных великанов, бастионы грозных крепостей растворялись в свете утра, умытого сверкающей росой. Пиниевая роща оканчивалась у подножия холма, впереди простиралась пестрая Кампанья. Лесное море было также одним из видений на этой огромной равнине, напоенной благоуханием цветов, испещренной пятнами вспаханных нив, оливковых перелесков, волнующихся под ветром хлебов. О, как прекрасно, вздохнул измученный монах, и как все изуродовано фанатиками! Из фиолетовой дымки выглянула острая колокольня – точно огромный гвоздь пронзил мягкий флорентийский пейзаж. Долину заливал свет, брызнувший поверх горной цепи, и крест на колокольне вспыхнул позолотой первых лучей. Матей не мог оторвать взгляд от горизонта. Выступившая из тумана церковь смяла очарование утра, а потом вдруг тяжкие удары обрушились на голову юноши, сперва тихие, потом более гулкие и грозные: бим-бом, бим-бом, бим-бом. Так они гудели в его голове в Сплите, в Венеции, Лондоне, Риме. Некуда было податься от этого перезвона, ограничивавшего все горизонты, накрывавшего все поселения и все дороги, яростного, торжествующего, губительного перезвона. В полном отчаянии Матей поднял коня и тронулся в неизвестность, не предвещавшую ничего хорошего.
Дороги, ведущие к Риму, перекрыли папские гвардейцы. Но у тощего францисканца не было ничего, кроме сумы со сменой белья да нескольких книг, поэтому его не задерживали. Войти в город он смог, но сможет ли выйти? Оглушающий шум на улицах окончательно привел в себя покрытого пылью всадника. Жители беззаботной и веселой столицы были, как всегда, полны любопытства и готовы к шутке. Как глупо, что приходится посвящать жизнь искупительному мученичеству, именно глупо, среди этих женщин, который улыбаются, подмигивают, гримасничают, хохочут во все горло, жуя лакомства, именно глупо, глу-по, глу-по…
Двери отмеченного проклятием дома отпер глуховатый, вконец перепуганный старик привратник; узнав ученика своего хозяина, он прослезился. Господи, дом ограбили монахи, все унесли для дознания, угрожали кнутом, раскаленными адскими клещами, а что вытянешь у толстухиКаты, девчонки только хныкали, их скоро отпустили из канцелярии, прислуга разбежалась кто куда, только он один и остался сторожить, а с ним брат Иван, которого, слава богу, не было в доме, когда пришли за преосвященным, иначе б он наверняка что-нибудь выкинул, так хоть по крайней мере оба они живы и здоровы, сохранил их господь милосердный! Матей отослал старика и прилег в пустой комнате, дожидаясь своего товарища, который отправился с визитами к влиятельным персонам.
Ученики Доминиса обнялись и расцеловались с чувством непоколебимой преданности, которое объединяет последних защитников обреченной крепости. Они остались вдвоем в покинутом доме, осажденном инквизицией. Знакомые стороной обходили теперь это невысокое ветхое строение с маленьким садиком, точно там поселились прокаженные. Любое проявление сочувствия заклейменному было столь же пагубно, как рукопожатие пораженного лепрой. Иван радовался приезду Матея, испытывая глубокое облегчение.
– Хорошо, что ты приехал! Хорошо, хорошо, – твердил он, и его слова ошеломили истомленного сомнениями Матея.
Значит, худо, раз Иван подумал, будто он не вернется. Обида, возникшая при встрече, и неизгладимая память о собственной вине заставили Матея уклониться от дружеских объятий. И вновь ожила у него в душе неприязнь, рожденная прежде в результате стольких ссор и стычек с Иваном. В суете встречи он тем не менее успел различить на лице товарища следы перемен, и это его тоже смутило. Постоянные опасности, среди которых тот находился, видено, ожесточили его.
– Подлая иезуитская западня! – дрожа от ненависти, рассказывал Иван. – Они схватили учителя в тот момент, когда он стал для них наиболее опасным. Для него, да и для всех нас это страшный удар, но, если мы его выдержим, может наступить решающий перелом. Марк Антоний в Замке святого Ангела, поэтому сейчас перед каждым католиком встает необходимость выбора. Спасение христианства придет оттуда.
Матей не любил слушать эти упрямые заклинания, которые перенял от Доминиса его самый верный ученик. В любой ситуации они пытались увидеть признаки благотворных перемен, даже теперь, когда железные ворота Замка лишали всякой надежды. Иван уловил на лице друга знакомое выражение неверия и продолжал еще более непреклонно:
– Здесь, в Риме, многие священники п монахи осуждают усилившиеся гонения и открыто требуют реформ. Курию ненавидят, а группа молодых теологов намерена начать острую дискуссию…
– Как нам помогут эти дискутирующие теологи?
– Есть и другие недовольные…
– Тьфу! – презрительно сплюнул Матей.
Его малодушие вывело из равновесия и без того озлобленного Ивана, всегда непримиримо и фанатично опровергавшего любые колебания. Однако на сей раз он овладел собой.
– А как бы, по-твоему, следовало поступить? – подозрительно спросил он своего сомневающегося товарища.
– Не знаю, – задумчиво протянул тот, – теперь не знаю.
– А раньше?
Матей умолк, чтобы вновь не разжигать старый, болезненный для них обоих спор. Ведь он возражал против отъезда Доминиса из Лондона, предвидя, подобно многим рассудительным его сторонникам, как будут развиваться события. Тогда они тоже в два голоса толковали ему о переломе, спасение христианства-де требует вмешательства, глубоко разгневанные на малодушного, который, однако, вслух выражал их собственные тайные опасения.
Надеясь поднять дух своего товарища, Иван повел его к брату Бернардо, чей маленький и бедный монастырей на окраине Рима служил приютом для недовольных. Снаружи эта старая обитель францисканцев казалась убогой, но внутренний дворик с каменным колодцем и двумя старыми смоквами создавал настроение покоя и умиротворенности. Здесь можно было уединиться, укрыться от навязчивого жестокого мира. Сейчас небольшое общество, собравшееся вокруг старого настоятеля, испытанного друга Доминиса, было занято обсуждением дел в Ватикане. Брат Бернардо представил новичка своим гостям, и разговор продолжался Его вели два клирика, один – худой со слишком крупной для хлипкого тела головой, другой – упитанный и живой с быстрым взглядом исподлобья; остальные – три монаха и один капеллан – внимали им, видимо далеко не во всем соглашаясь, что сразу бросилось в глаза гостю.
– Церковь опирается на Писание, это неоспоримо, следовательно, возглавлять ее должны те, кто лучше знает священные тексты, в противном случае рушатся все основы… – с юношеским педантизмом возводил воздушные замки тощий философ.
– …что и происходит на деле, – в тон ему продолжал второй. – В курии утвердились щеголи и невежды, сплетники и охотники за должностями, алчные и наглые. Церковь может возродиться лишь в том случае, если представительная коллегия теологов возвратит ей первоначальное мессианское назначение. Кто из кардиналов после смерти Беллармина продолжает заниматься схоластикой?
– Они заплыли жиром и ослабели духом, они заняты только своими шляпами, – подхватывал первый. – Несколько дней назад я публично доказал Бандини, что он не знает текстов святого апостола Павла. Он неверно цитировал его Послание. И подобные невежды становятся во главе Священной канцелярии!
– Старый кардинал, – заметил настоятель, – очень на тебя рассердился.
– Пусть его, пусть! – самодовольно улыбался тощий хулитель.
– А нас всех, до тонкостей знающих Аристотеля, Фому Аквинского и Беллармина, – сетовал его собеседник, – держат вдали от святого престола. Чтобы добыть местечко в курии, надо быть глупее самих кардиналов или по крайней мере таковым притвориться. Наглая посредственность повсюду душит смелый дух.
– Вот поэтому церковь и остается без светоча, – заключил первый, – в то время как повсеместно требуют реформ и пересмотра основ и повсюду распространяется светская образованность. Мы, римские теологи, должны решительно встать в первые ряды, как бы тому ни сопротивлялась эта каста, мы должны это сделать во имя сохранения апостолического престола!
Матей с отсутствующим видом грыз инжир. Он был голоден, и теологические упражнения лишь усиливали у него в желудке ощущение пустоты. Эти два голубчика тоже свято уверовали, будто богословское образование дает им право на кардинальские шляпы. И теперь бросаются на бастионы, в которых утвердились другие. Тщетное единоборство! Даже если им удастся подняться наверх, что из того? Ни каких перемен не последует. Ревнители богословия уже бывали наверху, но затем они неизменно оказывались повергнутыми. Сдержанность и отчужденность Матея обратили на себя внимание пылких спорщиков, и они не преминули осведомиться о его мнении.
– Церковь прогнила, я с вами согласен, но предоставьте ей гнить и дальше, ей достаточно самой себя, и она не может встать лицом к новому времени. Мы поступили бы разумнее, если б…
– Если б что?
– Что бы ты сам сделал, брат Матей?
– Я охотнее обратился б к светским делам и занялся наукой. Конечно, если бы это еще было для меня возможно.
– Но это невозможно, – возразил Иван, – ни для кого! Привлечь церковь на свою сторону – вот главное в наше время. Судьба Марка Антония, попавшего в лапы инквизиции, заставляет каждого христианина сделать выбор. Пора перестать ворчать по углам, надобно перейти к решительному действию, дабы освободить учителя во имя торжества его мысли! Христианский мир может быть избавлен от схизмы, от меча и костра лишь в том случае, если согласится с мыслью Доминиса о лишении папы светской власти и о равенстве церквей!
Равнодушие было ответом на его пылкий призыв. Да, да, да, вяло шевелили губами присутствующие, обламывая раскаленный наконечник вызова. Добродушный капеллан выразил сочувствие несчастному сплитскому архиепископу, его соболезнующе поддержали и францисканцы. Арест великого поборника единения предвещал повсеместные гонения, которых опасались все здравомыслящие. Железный кулак папы Павла V остался в памяти недобрым воспоминанием. Оба философа молчали, очевидно придерживаясь о случае Доминиса особого мнения, как, впрочем, и обо всем на свете вообще. И лишь после того, как брат Бернардо внес тяжелый глиняный кувшин с вином и пузатый теолог поспешил сделать добрый глоток, они стали оттаивать, зарумянившийся толстяк заметил вскользь, что обвиняемому не хватало метафизического чутья, в ответ на что также порозовевший Иван потребовал разъяснений.
– Доминис остался естествоиспытателем, – рассуждал пухлый метафизик, – а паука не идет дальше поверхностного, внешнего созерцания явлений. Ученому-физику оказалась недоступна божественная предопределенность всего сущего. Вино у него в сосуде сохранило свой вкус и после брожения. Разумеется, поглощая его и осязая своими органами чувств, он и не мог воспринять ничего иного. Святые обряды и таинства для него – лишь внешние символы и пустые воспоминания о муках Спасителя.
– В этом – слабое место книги «О церковном государстве», – поддержал худой. – Ум, перегруженный фактами науки, не достиг онтологического уровня, который позволил бы ему познать суть вещей. Соответственно этому и его якобы радикальная критика вообще не достигла ушей столпов папства.
– Странно, – заметил толстяк, – что он, физик, обратился к вопросам теологии.
– Он атаковал церковь извне, – распаляясь, вещал тощий философ, – нападал на нее с позиций мирян, с позиций эмпирического знания.
– Неправда! – взорвался последователь Доминиса. – Кто глубже его знает евангелие? Он доказал, что принципы римской церкви противоречат Священному писанию и христианскому учению.
– Ересь! – разом воскликнули оба философа.
Воцарилось мучительное молчание. Стороны, отбросив внешнюю сдержанность, обнаружили свое истинное лицо. Недовольные курией теологи не отрицали, как выяснилось, догмата о первенстве римской церкви, который они впитали, так сказать, с молоком матери. А Иван слишком поздно увидел свою ошибку, умолкнув лишь после подмигиваний Матея. Ситуация не позволяла друзьям полемизировать дальше с этими более или менее терпимо настроенными монахами. Напрасно гостеприимный брат Бернардо угощал их старым вином. Настроение согласия больше не возвращалось, и ученики опального архиепископа, которых обвинили в ереси, ушли огорченными.
Не возразив ни единым словом обоим философам, Матей весь свой гнев обратил теперь на старого друга-соперника. Пренебрежение к работам Доминиса, брошенное с метафизических высот, укрепило его сомнения. Твердыню церкви невозможно атаковать извне; она должна разложиться изнутри. Доминис хотел опередить время, и поэтому им обоим вместе с ним суждено кончать жизнь узниками Замка святого Ангела.
– Ты надеешься на помощь этих перипатетиков? – насмешливо спросил Матей, когда ворота обители францисканцев захлопнулись за ними.
– Найдутся и поумнее, – печально ответил Иван, – среди нищенствующей братии. Я побывал в Риме всюду, где хоть что-нибудь говорят против курии и иезуитов.
– И ты веришь, будто сможешь поднять обитателей этих нор и освободить учителя?
Упрямец молчал, поколебленный в своих надеждах. Они шли мимо грязных жалких лачуг, окруженные толпой ребятишек, клянчивших милостыню. Кривые шумные удочки тянулись к центру города. Здесь вымаливали подачки и торговали, ссорились и целовались под оглушительный стук молотков, раздававшийся из мастерских ремесленников. Пробираясь к своему дому, монахи достигли пустынной площади, где находилась Римская коллегия. Это замкнутое четырехугольное здание обращало на себя внимание двумя входами, высокими окнами и большими круглыми часами посередине. На шпиле колокольни торчал простой крест, а под ним триумфально развевался флаг; видение это угрожающе возникло вдруг перед взором усталых монахов.
– Об эту иезуитскую скалу, – шепнул Матей, – разбился наш парусник. Иначе надо было поворачивать руль – по течению времени.
Левая дверь на фасаде здания вела во внутренний двор, в правую с верхних этажей спускались воспитанники этого заведения – в длинных сутанах, сосредоточенные и серьезные. И на этот спаянный железной дисциплиной отряд воинов церкви в одиночку ринулся ученый! Мысль гения бросила вызов общепризнанной догме! Исход сражения и не мог быть иным.
– В другую сторону следовало выворачивать, – повторял Матей, шагая рядом с угрюмым Иваном, – в другую.
– Куда же, по-твоему?
– Не стоило снова надевать это монашеское рубище, раз мы отказались от обетов.
– Ты сам знаешь, учитель просил папу Григория Пятнадцатого освободить нас от присяги ордену. Но пока не было получено его согласие, необходимо…
– Лицемерие! Да, лицемерие, оно всегда необходимо. С одной стороны, он всячески возносил свою истину, а с другой – вместе с нами играл в детскую игру – прятки. Абсурдно!
Ивана раздражал малейший упрек в адрес учителя. Он страстно верил в него, находил оправдание любому его поступку, а когда защищать становилось трудно, яростно бросался на критика.
– Ты уже в Лондоне лицемерил…
– А Марк Антоний?
– Это другое дело, Матей.
– Отчего же другое? Учителю следовало принять кафедру натурфилософии в Кембридже или где-нибудь еще, и мы избежали бы этих мук.
– Что может сделать церкви, которая господствует во мнении народа и определяет течение событий, группа ученых, разбросанных по белу свету?
– А что принесет ей весь этот реформаторский пыл?
В церкви лишь пробудится уснувший дух и усилится сопротивление. Посвятив же себя природе…
– И торгуя, – оборвал разгневанный собеседник.
– Ладно, и торгуя, мы бы строили основу новой жизни, откуда святой отец и орден иезуитов будут выброшены, как старая рухлядь.
– Ты первый отрекаешься, подлый…
– Дурак!
Воспитанники Римской коллегии в изумлении останавливались возле них, и вспыхнувшая было ссора утихла. Подлинное безумие кидаться друг на друга перед Римской коллегией, на глазах у противника! Отвернувшись от разгорячившегося друга, Матей взглянул на круглые часы на фасаде белого здания. Их большая стрелка завершалась острым наконечником, маленькая – трезубцем, и обе они бессменно перемещались среди цифр, показывавших неведомое время, которое никуда не двигалось, всегда неизменное и постоянное, какими были дни человеческой жизни, ограниченные кругом Зодиака. Юные иезуиты, корча презрительные гримасы, проходили мимо них, монахов нищенствующего ордена, а некоторые даже не таясь ругали их. Лучше владевший собой Матей потянул за рукав вспыльчивого товарища.
– Старый привратник говорил мне, будто ты ходишь к важным персонам и просишь у них помощи. Это, пожалуй, помогло бы учителю.
– Попытался было, – угрюмо ответил Иван, – да знакомые уклоняются, только и слышишь со всех сторон – самому б тебе поскорей унести ноги отсюда. Трусы!
– А к венецианскому посланнику попасть не удалось?
– Нет.
– Архиепископ был подданным Республики, как и мы, и его там весьма чтили. Венеция обязана оказать нам покровительство.
К послу Венеции им удалось проникнуть легче, чем могло показаться поначалу – ведь роскошный дворец снаружи охранялся солдатами. Францисканцы пользовались солидной репутацией в Республике, а знакомство с Сарпи, на которого они сослались в разговоре с секретарем, послужило отличной рекомендацией, поэтому вскоре их ввели в великолепную гостиную с большими окнами и множеством книг, где находился сеньор Пьетро Контарини. Увидев две неловкие фигуры, растерянно ступавшие по персидскому ковру, дипломат яростно вскочил с кресла:
– Так это вы, помощники Доминиса! Ловко же вы провели моего секретаря!
Гнев его казался таким неподдельным, что монахи испугались, как бы их тут же не вышвырнули на улицу, не спустили вниз по мраморной лестнице. Контарини запомнил их по Лондону, где, будучи чрезвычайным послом Республики, посетил однажды Доминиса, надеясь уговорить его не печатать рукопись Сарпи.
– Сослаться на покойного фра Паоло, у которого ваш хозяин обманом похитил рукопись, хорошенькое дело! Выпустив «Историю Тридентского собора», вы поставили Сарпи в затруднительное положение перед Римом, а вместе с ним и наш Сенат.
– Позвольте, сударь, – робко возразил Матей, – рукопись была получена не обманом и вышла под псевдонимом «господин Пьеро Соаве Полано»…
– …за которым любой мог угадать настоящее имя автора, тем более что сам Доминис в посвящении указал, что это сочинение его друга, видной персоны и государственного деятеля католицизма, у которого он силой отобрал рукопись, да, именно отобрал силой, и вот теперь он, Доминис, сей благородный друг, публикует ее под псевдонимом, дабы не навредить своему приятелю, черт побери! Появление «Истории Тридентского собора» чрезвычайно осложнило и без того напряженные отношения между Республикой и Ватиканом. И теперь вы осмеливаетесь являться ко мне на глаза! Фальсификаторы! Жулики! Дьяволы в монашеских одеяниях!
– Во-первых, – дрожа всем телом, заговорил Иван, ни одно слово в манускрипте Сарпи не изменено, поэтому, господин посол, вам не следовало бы называть нас фальсификаторами; во-вторых, учитель повсюду открыто выступал с проповедью своего учения, даже слишком смело, как вы однажды заметили в Венеции; и в-третьих, еще из Лондона к папе Григорию Пятнадцатому мы обратились с просьбой разрешить нам сбросить монашеские одежды, учитывая наши взгляды. А вообще, ваша милость, мы нигде не преступили обеты целомудрия, бедности и послушания!
Матей ожидал еще большей вспышки гнева и, возможно, даже пинка в зад. Однако, к его удивлению, Контарини вдруг стих. Раскрыв золотую табакерку, он принялся нюхать возбуждающее зелье, пальцы его с наслаждением сминали в шарик волокна табака. Ему доставляло удовольствие скрестить шпагу с достойным противником, и, лицемерно улыбаясь, он готовился загнать их в угол.
– Вот что я хочу вам сказать: папа Павел Пятый, да почиет он в бозе, здорово помучил меня из-за вас. Вы только посмотрите, отступники контрабандой проносят памфлеты через венецианскую границу, кричал он на меня, они создали в Венеции общество для распространения проклятых рукописей. Мне пришлось несколько раз торжественно заявить ему, что Республика конфискует все прокламации Доминиса, которые наверняка кто-то из вас доставил из Гейдельберга легкомысленному Бартолу, конфиденту архиепископа. Разве это, монахи, не контрабанда?
– Если б Республика дозволила свободное распространение…
– …папа Павел Пятый отправил бы меня из Рима с новым интердиктом, причем в тот самый момент, когда нам угрожали австрийские и испанские Габсбурги, одни – из ускокского Сеня, другие – из Милана. Сам Сарни, друг-приятель вашего архиепископа, рекомендовал Сенату запретить гейдельбергский памфлет.
– Друг-приятель? – в голосе разъяренного Ивана звучала смертельная ненависть. – Друг-приятель, который тут же позволил уничтожить наше собрание славянских книг, древние мисалы, хроники, уникальные рукописи, чтоб и памяти не осталось о нашем языке! Грабители кромсающие историю!
Но, к их изумлению, венецианец разразился хохотом. Все-таки он прижал к стене этого монаха, которому не оставалось иного выхода, как разозлиться. Матею даже показалось, будто сеньору Пьетро доставляло особенное удовольствие рассказывать о гневе папы, которого венецианцы ненавидели со времен интердикта; вероятно, поэтому посол вдруг решил проявить великодушие.
– Я не могу помочь ни вашему учителю, ни вам, – серьезно произнес Контарини. – Прямое вмешательство Венеции в процесс имело бы нежелательные политические последствия. Лучше, чтобы дознание ограничилось чисто теологическими проблемами, где Доминис – непревзойденный мастер и где никто не сможет вывести его на скользкий лед. Впрочем, предупреждаю вас, инквизитор кардинал Скалья пользуется репутацией доброго и праведного христианина, занимающего независимую позицию по отношению ко всем группам в курии. Папа Урбан Восьмой, правда» уступил давлению партии Габсбургов и иезуитов, арестовав сплитского архиепископа, но его намерения в конечном счете могут оказаться совсем иными. Словом, как я сказал, все в руках кардинала Скальи, и – засим желаю счастья!
С этими словами Контарини трижды дернул за сонетку, и его паж мгновенно отворил двери, любезным жестом приглашая монахов к выходу. Аудиенция была короткой, но, возможно, именно эта последняя минута оказалась самой важной во всем разговоре.
Секретарь кардинала Скальи назначил им прием. Монсеньор только что переселился из предместья Рима в один из конфискованных дворцов, который папа Урбан VIII предоставил своему инквизитору и который находился неподалеку от виллы Боргезе, изъятой у богатых Ченчи, каковых блаженнопочивший предшественник нынешнего понтифика приказал умертвить в Замке святого Ангела самым примитивным способом – дубинами и удушением. – Ограбление и убийство, – бормотал Иван, разглядывая металлические решетки дворца, – откровенный разбой, свидетельство которому вопиет к самому небу.
Пусть выскажется, не препятствовал ему более осторожный спутник, будет спокойнее перед кардиналом.
Мысли Матея после бессонной ночи затягивала туманная пелена. И всякий раз возникало одно и то же жуткое видение: медленно выступает, приближаясь к нему, длинная процессия монахов-доминиканцев, впереди пешие – в черных плащах поверх белых ряс, с высоко поднятыми распятиями в руках, затем с достоинством следуют члены святой инквизиции верхом на торжественно убранных лошадях, а он сам, Матей, недвижимо лежит в покоях Доминиса и не может шевельнуть даже пальцем. Да, легкомысленно было оставаться в заклейменном несчастьем доме, и доброжелатели в один голос предостерегали их, однако неподатливый его товарищ и слушать не хотел о переселении.
Дворец, в котором с недавних пор обитал кардинал и который они теперь искали, стоял на опушке обширной пиниевой рощи, тянувшейся от древних стен вдоль бере Тибра, по мягким склонам римских холмов, мимо прелестных долин и ручьев. Летний зной не успел еще осушить земной влаги, и светлая зелень разнообразных оттенков и красок – от травы цвета смарагда до густой темной хвои – ласкала глаз, освежая грудь изнемогающего юноши своим дыханием.
– Вопиет к самому небу, – повторял он слова Ивана, – повсюду распущенность!
Он – аскет, следующий по стопам своего апостола, – везде видел разбой; и теперь здесь в Риме они, все трое, осуждены на погибель, вместо того чтобы наслаждаться жизнью в каком-нибудь из. этих дворцов, также взятом у кого-то другого, но они бессильны остановить извечные грабежи и убийства, а ведь всегда важно быть на стороне тех, в чьих руках право вершить суд. Вид кардинальского дворца не придал мужества посетителям. За металлическими решетками двойного ряда окон таилась аристократическая подозрительность. Фасад был выложен угрюмым камнем, окаймленным по кромке бордюром из плиток различной длины. Обширный и глубокий сводчатый подъезд, словно обрубленный каменными балками, был открыт, и в глубине его виднелся небольшой внутренний дворик. Оробев, монахи остановились поодаль, и в это мгновение мимо них прогромыхала карета, старая, разболтанная колымага, вряд ли подходящая для кардинала; такими экипажами, громоздкими и вместительными, обычно пользовались офицеры папской стражи.
– Секретарь нам устроил ловушку, – испуганно шепнул Матей побледневшему другу. – Глупо самим совать голову в петлю.
– Надо идти, – превозмогая себя, произнес Иван, – надо, надо…
– До каких пор надо? Это конец. Мы служили ему, неосмотрительному и неосторожному, достаточно долго, служили где и как могли, не щадя сил. Пора подумать о себе.
– И покинуть учителя?
Иван был безжалостен к колеблющемуся товарищу, усматривая предательство в его раздумьях. Брань и стремительная контратака – таков был единственный способ, с помощью которого он подавлял собственные нерешительность и тоску, не позволяя ни себе, ни другим ни малейшей слабости. И теперь, не имея сил опровергнуть доводы разума, он нарочито подчеркивал свою непреклонность:
– Я пойду один, если тебе боязно, купец!
И он направился к каменному подъезду, где скрылась зловещая карета, не оглядываясь более на своего спутника. Высоко подняв голову, в длинной рясе, опоясанной веревкой, он напоминал мученика, входившего некогда во дворец Понтия Пилата. Бели б он продолжал браниться и оскорблять, Матей отплатил бы ему той же монетой… Этот полный самоотрешения и обреченности поступок Ивана настолько глубоко поразил юношу, что и он последовал в пасть льва за безжалостным своим вожатым вопреки резонам и опасениям.
Внутри здание ремонтировалось – комнаты должны были соответствовать вкусам нового владельца. Повсюду сновали, громко переговариваясь, мастера; перемазанные красками, в фартуках всех цветов радуги, они наперебой стучали молотками, гремели многообразным своим инструментом. Покрытые патиной веков потемневшие перила каменной лестницы очищали от грязи, на маршах водружали фривольные статуи. На площадке первого этажа несколько живописцев завершали огромную фреску, изображавшую танец Саломеи. Увидев эту суету, Матей несколько успокоился – значит, идем не к суровому аскету, – но спутника ого поразило огромное изображение, для которого библейский мотив послужил лишь поводом представить обнаженное женское тело и разгул исступленного пиршества. Царевна иудейская показалась им как будто знакомой, и, должно быть, поэтому оба монаха застыли на миг, подавленные смутной догадкой! Овальное, смуглое лицо с угольками глаз, плотно сжатые губы, чуть вздернутый нос… И тут, к вящему изумлению своему, они увидели, что сверху навстречу им спускается по лестнице сама Саломея – сестра Фидес! Благодаря таланту художника они узнали ее даже спустя восемь лет после тою, как расстались. Да, это она позировала живописцу, обнаженная, с острыми грудями и похожими на древние амфоры бедрами, которые когда-то, тщетно пытаясь проникнуть сквозь грубую ткань рясы, робко ласкали голодные взгляды юношей. Теперь она предстала перед ними во всей своей наготе, изображенная кистью мастера, плоть ее чуть прикрывала прозрачная, зыбкая ткань; и приобретенный мужской опыт невольно сравнивал укрытое суровой одеждой от взора людского тело реальной женщины с возникшим на стене чудесным видением.








