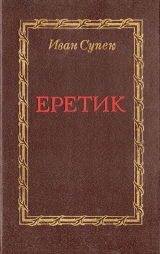
Текст книги "Еретик"
Автор книги: Иван Супек
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
– Патер комиссарий допросил твоих слуг, родных, знакомых, учеников. Ты верил когда-нибудь в людскую дружбу? В железные ворота Замка ей нет доступа. Или она здесь долго не выдерживает. Я избавился от опасных иллюзий, слушая твоих близких. Брат Матей, твой бывший семинарист, показал, будто ты тайно, будучи сплитским архиепископом, установил связь с Чарльтоном, английским посланником в Венецианской республике. По указанию извне ты приступил к своему сочинению против Рима.
– И это показал мой Матей? – Доминис был ошеломлен.
– Именно это сделал он после того, как переломали кости твоему другому ученику. Здесь все признаются во всем! Впрочем, и у лжи – недолгий век. В предисловии к своей книге ты утверждаешь, будто она создавалась в течение двенадцати лет, следовательно, ты начал ее, когда занял сплитскую кафедру. Невежды! Насильники, опьяненные своим всемогуществом! Они не потрудились даже похитрее составить обвинение. Итак, твой любимец сокрушенно признал, что еще до своего бегства вы поступили на шпионскую службу к английскому королю.
– Шпионскую службу?
– Я предъявлю тебе протокол дознания.
Доминис пошатнулся, точно ноги больше не держали его. Обвинения в ереси было достаточно для его согбенной спины, и вновь предъявленное обвинение его совсем доконало. Словно сквозь вату, слышал он голос инквизитора. Читатели его книг будут гнушаться им, подкупленным, грязным шпионом! Инквизиция не удовлетворилась, осудив его за теологические ереси. Вероотступник во всем должен выглядеть самым низким и самым подлым, сплошное олицетворение человеческого коварства!
– Ведомо ли папе, что это признание вынужденное? – обессиленный, разом лишившийся мужества, пытался он удержаться за краешек папской мантии.
– Знай же, – тон инквизитора был ледяным и лишал последней опоры, – сам Барберини пеняет мне и гневается за то, что я тяну, он лично приказал подвергнуть пытке твоих учеников и близких. Распятый первым, Иван кричал ему с колеса: «Папа – антихрист! Доминис – спаситель!» Его мученическая смерть привела в чувство Матея, который выложил все, что от него хотели услышать.
Нет, с этим раскаявшийся грешник не мог смириться. Обрадованный инквизитор уловил, как в душе его постепенно рождается протест. Охваченный ужасом старый учитель, словно воочию, видел перед собой круглую металлическую крышку в центре Палаты пыток, которая прикрывала канал, куда мучители сбрасывали тела умерших или ненужных им более людей. И тело брата Ивана сбросили вниз, в погребальные лабиринты мавзолея, а затем его останки поглотил Тибр.
– Людоеды! – хриплый вопль вырвался из груди Доминиса, охваченного лютой ненавистью к палачам.
– Да, – с наслаждением согласился Скалья, – они, упоенные властью, не нуждаются ни в человечности, ни в правдивости. Им и так все поверят. Что из того, что выдумка глупа? Признание станет для жертвы еще худшим унижением, а принятие верующими – еще большим выражением преданности. И это остается у нас последним шансом при жизни.
– Ложь, – прохрипел старик, – ложь…
– Коль скоро мы пока не являемся негодяями, – продолжал кардинал свою исповедь, – то, во всяком случае, таковыми начнем себя чувствовать. И это есть начало нашего поражения, в то время как мерзавцы наверняка будут властвовать.
– Негодяи!
– А отец этих лживых, грешных, грязных ублюдков…
– Папа! – вырвалось у старика. – Антихрист!
– Понимаешь?
Вздрогнув, Доминис оцепенело посмотрел на мгновенно изменившееся лицо Скальи, который с нескрываемым, внушавшим ужас торжеством повторял:
– Понимаешь! Разумеется! Кто же еще столь глубоко Познал папство, как не ты.
И обвиняемый, словно вдруг лишившись одежды, нагим предстал перед своим загадочным обвинителем. Тому, кто судил, было дозволено говорить все что угодно перед тем, кого судили. Лицемерное отвращение Скальи к тирании побудило обвиняемого добровольно покинуть последний бастион своей обороны. Он одиноко стоял, лишенный защитника, в ужасном зале суда, где погиб Иван, славя его, спасителя. Но теперь он нашел в себе силу взглянуть туда, куда до сих пор боялся повернуть голову. Там в темном углу его ожидало колесо, на котором сжимали и вытягивали кости. На опущенных рычагах виднелись свежие пятна крови. И каменный пол был окроплен кровью мучеников.
Шумная занавесь дождя открыла щели темницы, и неверный желтоватый свет проник в помещение, как бы стирая следы ночных мучений. Сплитский архиепископ опустился на колени возле пятен крови и замер.
– Скалья, – произнес он после долгой паузы, – прими мое покаяние!
– Принять твое отречение, – возразил угрюмо кардинал, – столь неискреннее? Я стал бы сообщником в обмане.
– Я чистосердечно решил сделать это, когда ты бросил мне вызов…
– У тебя это сорвалось с губ, долго лелеемое.
– Вырвалось помимо воли! – пытался убедить его Марк Антоний.
– Нет!
Доминис с ужасом смотрел на своего допросчика, который месяцами побуждал его к раскаянию и отказался принять это раскаяние в минуту полного крушения. Он погибал во мраке своей норы, но и его судья также изменился за это время. Лицо кардинала утратило благочестивое выражение, исчезли и сдержанные манеры аскета. Еще две недели назад Доминис удивился, увидев роскошную мантию Скальи, какие носили прочие щеголи-кардиналы, изумился он и миловидному пажу, который сейчас ожидал хозяина на лестнице, однако более всего его поразила та брезгливая угрюмость, которая неизменно сопутствует плотскому разврату. И он заметил, что приблизительно в это же время перестала появляться в крепости сестра Фидес: главная свидетельница сыграла свою роль или продолжала ее играть в другом месте. Проницательный и ревнивый старый любовник, находясь даже в аду, не упустил мелких деталей, свидетельствовавших о сближении между опытной монашкой и стыдливым аскетом. В то утро, две недели назад, смущенный инквизитор словно отражал ее свет; у него едва нашлись силы войти в камеру. Одной неполной фазы луны хватило, чтобы на лице у «святого" Скальи появилась циничная усмешка. У Доминиса и его судьи было достаточно оснований возненавидеть друг друга, но еще больше – друг друга простить. Каждый из них уничтожал личность другого в пытке, которой предал их обоих папа. Каждый из них жалел о себе, о том, каким он был прежде, осознав, что дальше так существовать невозможно, и каждый старался видеть другого в его прежней личине, как бы защищая тем самым себя самого.
– Двенадцать долгих лет ты вынашивал в сплитской глуши свою книгу о церковном государстве, – говорил Скалья. – Ты отрицал примат папы, глумился над конклавом кардиналов, уничтожал конгрегации, а зачем? Чтоб восстановить равенство епископов и общин, чтоб прежний синод епископов ограничил власть папы и кардиналов в Риме. Никто из всех сторонников Реформации столь продуманно и остро не ставил подобной альтернативы перед панством. Апостолический престол или твоя добровольная община – вот как стоял вопрос!
– Ты хочешь погубить меня, Скалья, – бормотал Доминис.
– Ты сам подрываешь свою позицию.
– На чем я теперь стою…
– Ты последовательно отбрасывал принципы иезуитов, чтоб жить в соответствии…
– Жить? – со стоном повторил Доминис – Жить? Ты хочешь отрезать мне последний путь? Я прозрел все твои происки.
– Ты прозрел? – Ненависть к зоркому наблюдателю вспыхнула в душе застигнутого врасплох инквизитора.
– День ото дня ты постепенно преображаешься. Ты вошел в Замок святого Ангела твердой походкой, в простой сутане с ангельской добротой во взоре. А каким ты выйдешь отсюда?
– Ты меня допрашиваешь?
– Священная канцелярия пас обоих заключила сюда, чтобы мы ловили друг друга. Страшно следить за чужими мыслями. И если ты еще не негодяй, как ты говоришь, то уже начинаешь таковым себя чувствовать. Это начало перемены.
А может быть, маска святого с самого начала была ловушкой, мелькнуло в воспаленном мозгу старика. Он вошел к нему в доверие, чтобы схватить в миг отчаянной ярости, и теперь держит волчьей хваткой. Циничная усмешка, презрительно отвисшая губа, крадущиеся шаги, взгляд, как у ястреба, – все в нем выдает охотника, поймавшего добычу. Он играл с ним, а теперь в преддверии конца наставляет его в любви к истине.
– Ты уличен в лицемерии, архиепископ.
– Твои проблемы не во мне, а у меня здесь нет иных.
– Как же поверить тебе? Помнишь поговорку: виновен однажды, виновен и дважды?
Скалья мучил Доминиса не за то, чем он был, но стремился заставить его признаться в том, чем он не был. А коль скоро удалось уличить его в одной лжи, то он вовсе лишал его возможности защищаться, дабы тот окончательно не запутался. Истерзанный, с сорванной маской раскаяния, Доминис принимал личину, которая, как считал соперник, якобы в соответствии с истиной отвечала его подлинной сути.
– Коль скоро ты умеешь притворяться так, как ты притворился сейчас, делая вид, будто сокрушенно раскаиваешься, то чем еще ты не можешь прикинуться?
Шпион короля Иакова, грязный наемник, претендент на папскую тиару, организатор заговора против апостолического престола, разрушитель католической церкви и еще многое, многое другое – пусть, раз отрицание некоторых догматов для них слишком мелкое преступление. Он и так ничего больше собой не представляет.
– Дайте мне любую личину, какая вам нравится! Я все приемлю. Мое подлинное «я» исчезло в этой гробнице, где не зажигают свечей в память о мертвых, но где лживых мертвецов сжигают и распинают во славу и честь господню! А если меня больше не существует, то как же могу я запретить показывать куклу на церковных ярмарках?… Это поможет тебе?
– Оклеветать тебя? – удивился Скалья.
– Чтобы ты не чувствовал себя, как ты говоришь…
– Негодяем? Разумеется, – нахмурившись, подтвердил кардинал, – нам помогло бы, если б им оказался один из нас двоих.
Напрасно он облаял его, сидя на своей цепи. Подлинный Святитель вошел в Замок святого Ангела, и он страждет, сталкиваясь при выходе с негодяем. То, что борьба не кончилась, оставляло надежду узнику.
Желтое утро после ночного дождя бесшумно вползало под каменные своды, сопровождаемое топотом сапог, звоном шпор и перекличкой караульных на стенах. Будничная, обыкновенная суета, полная веры в грядущий день, вытесняла ночные кошмары, и озаренный светом жизни обвиняемый ободрял своего судью.
– Ты сам знаешь, Скалья, что мы оба не негодяи. Выдержи, постарайся, чтоб мывышли отсюда целыми,насколько это возможно! Ты невиновен.
Утомленный инквизитор, взяв подсвечник, медленно дошел к лестнице. Ему всего было достаточно в эту ночь. Ему хотелось упасть на свою постель под балдахином и утопить во сне все муки и все страдания. Выжить можно было лишь благодаря силе инстинктов, наслаждаясь красотой. В поисках источника возбуждения он поднес к лицу нагретый подсвечник. Потушить жаркие язычки! Кожа начинает пылать от них, а светлей не становится… Потушить! Снова потопить стыд во тьме?… Задув один за другим дрожащие огоньки свечей, он встал у выхода и повернулся к узнику, провожавшему его тяжелым взглядом.
– Ты все чувствуешь. Сестра Фидес теперь мне прислуживает, как прежде прислуживала тебе.
– Блудница! – в душе старика вспыхнули угольки ревности.
– Сущая! Теперь ты видишь, каковы плоды твоего просветительства? Лишь большая подлость и разврат.
– Она предала меня… изуродованная иезуитом-наставником.
– Ты лишил ее опоры. Твоя книга «О церковном государстве» была твоей единственной любовницей. Созданию и печатанию этой книги ты принес в жертву все, в том числе и эту монахиню. Зачем? Зачем ты это затеял?
Так он сразил старого архиепископа. Тот учил белую монахиню любить свободу, а патер Игнаций – шпионству и в результате возникла сущая блудница, как назвал ее последний любовник. Ему было омерзительно видеть ее на гнусной службе, но наедине с собой, во мраке он все время слышал ее слова: а как пережить иначе? Самое скверное заключалось в том, что и он не находил теперь ответа. Инквизитор продолжал стоять у выхода.
– В твоих рассуждениях одно неясно мне: что побудило тебя пожертвовать благоденствием в Англии и примчаться сюда, скажи, виндзорский декан, убежденный противник папы? Восемь лет назад ты бежал, сплитский архиепископ, едва Священная канцелярия начала свое первое расследование. Это очевидное противоречие придает некоторую достоверность показаниям свидетелей, помимо иных привходящих обстоятельств. Объясни! Почему ты вернулся в проклятое папское государство? Можешь ля ты сам себе это объяснить? Подумай как следует, поройся в своей памяти, прежде чем… О, как все это противоречиво, запутанно, па грани безумия…
XII
В каменной норе не было ни дверей, ни окон, в ней невозможно было представить себе ни звездное небо, ни гостя на пороге. По-собачьи приходилось выползать из нее по узкому лазу в зыбкое облако человеческих воспоминаний. Узник напрягал силы, стараясь поймать ускользающее мгновение и представить его подозрительному инквизитору в качестве надежного доказательства. Впрочем, это уже не был он, истязаемый в этом месте, куда с неопровержимой реальностью привела его curriculum vitae. [50]50
Биография (лат.).
[Закрыть]Все его сомнения и фатальные решения имели силу и убедительность далеко отсюда, в перестраиваемом поколениями дворце Диоклетиана, память о котором начала распадаться в заплесневелой пещере, где сейчас он сам себя с трудом узнавал. Однако именно тот полузабытый отрезок времени становился фокусом, где концентрировался смысл его существования, и он упрямо изучал следы, ворошил прошлое беглеца из церковного государства. Не так давно это было, но приходилось преодолевать толщу каменной горы, навалившейся на воспоминания. Он вгрызался в нее, углубляясь и достигая того самого легкомысленного кавалера, от которого охотнее всего бы теперь сам отрекся, вынужденный его защищать из последних жизненных сил. И вот в каменной утробе Замка святого Ангела зачата некая новая личность со своими собственными побуждениями и поступками. Он ли это? Он ли то был, обвиняемый ныне? Кто сможет с точностью сказать? Время замело все тропы. Остается лишь угадывать след.
Снова сомнения и сожаления о неиспользованных возможностях сокрушали мятежный дух, как и прежде, до того как был сделан фатальный шаг. Когда после сеньской катастрофы он высадился здесь, перед ним также простиралась неоглядная пустынная равнина. У ее узкого рубежа он чувствовал себя связанным по рукам и ногам, как и сейчас, безумец! Что бы он ни затевал, все натыкалось на духовные и физические препоны. Коренные жители его общины и перебежчики, озабоченные лишь тем, как бы самим уцелеть в ускоряющемся движении к гибели, отвергали все, что долетало к ним издалека. Их горизонты закрыла крепость на мосорском перевале, и на узенькой тропинке к столь же опасному морю сосредоточились все их помыслы. Не приемля обновления, далекая епархия упоенно наслаждалась легендой о римском папе и апостолическом императоре, когда вдруг в ее жизнь ворвался племянник клисского героя со своими поисками смысла жизни.
И чем ближе подходил нынешний узник к образу того далекого иерарха в Сплите, тем больше он срастался с ним хотя следовало сохранять осторожную дистанцию. Вряд ли тот, другой, мог поступить иначе, одолеваемый своими тогдашними идеями и заботой о престиже, безжалостно загнанный в теснину. Обнаруженный в развалинах императорских палат образ богоборца по-прежнему продолжал излучать титаническую силу, даже рождаясь заново в этой мрачной огромной гробнице. И отблески минувшего согревали его и поддерживали, но лишь на мгновение, пока он снова не падал на свое жесткое и холодное ложе. Там, где некогда он черпал необъятную силу, теперь зияли железные ворота Замка святого Ангела. Где-нибудь в ином месте его ярость рассеялась бы, но в тесном сплитском котле она бурлила с невиданной силой.
Никто столь глубоко и полно не познал жизнь этой пограничной провинции, как бывший падуанский профессор. Он был готов идти до конца с остатками своего народа. Во время ужасного мора, когда венецианские провидуры, каноники и дворяне разбежались кто куда, он остался в охваченном чумою городе, среди умирающих, один противостоя смерти. И тем не менее, тем не менее… Они не приняли его и не позволили ему говорить от их имени. Толпе голодающих, прокаженных, беглецов и крестьян не было дела до дискуссий между католической схоластикой и реформацией, между папской и светской властью, их мучили турки, сидевшие в Клисе, одолевали неурожаи, грабежи, подати и налоги. Находить здесь, на турецкой границе, избавление от этих зол в какой-то новой концепции церкви и власти было, конечно, очень возвышенно, но столь же и опасно. В пределах кругозора, открывавшегося с колокольни святого Дуйма, ровно столько, не дальше, видел и понимал городок, стиснутый стенами Диоклетиана. Доминис не сумел найти спутников, с которыми смог бы подняться к затянутым тучами европейским горизонтам, где рождались грозы. Ему не с кем было перекинуться словом у себя в резиденции, он был обречен на самое мучительное одиночество благодаря своему сильному и острому уму.
Если б хоть в пьянстве нашел отдушину человек, окруженный алчными канониками, придурковатыми дворянами, ободранными бедняками и бормочущими молитвы бабами! Всякий его призыв неминуемо разбивался вдребезги об окаменевшую глупость и заученные литании. Со своими проектами он попал в заброшенный лабиринт, где метались летучие мыши и выли лютые ветры, где любое слово пророчества отзывалось по ночам хохотом шакалов. Он влетел туда и постоянно натыкался лбом на преграды в узких кривых переходах, которые никуда не вели. Приходилось блуждать на одном месте, окруженном плотной стеной глупости. В трещинах и норах античных развалин здешний люд собирался вместе лишь для того, чтобы посмеяться друг над другом, вдосталь почесать языком и вволю посвинствовать. Вислое брюхо капитула и нищенский посох францисканцев, изысканные пиршества в особняках аристократов и перепрелая бурда в городских трущобах, меч апостольского рыцаря и петля на шею бродяге – таковы были крайние точки, между которыми вращались интересы и помыслы обитателей сплитской общины. Проповедник в кафедральном соборе стяжал всеобщую ненависть тем, что возвестил об оскорбительных для людей их типа жизненных принципах. Человекообразная флора развалин хотела оставаться такой, какова она есть, с содроганием внимая грохоту обрушивающихся рядом глыб и камней.
Тяжкая, липкая, удушливая провинциальная жизнь обволокла Доминиса со всеми его постулатами. Все, что он задумывал, уходило в трясину. Ил в глубине не двигался, пребывая в состоянии вечного покоя. Любое проявление жизни вскоре начинало загнивать, увеличивая слой тины. Некуда было взлетать, кроме как в толщу смрада и гниения. Дворяне по субботам собирались вокруг хмельной чаши, братства ежегодно отмечали кубком вина праздники своих патронов, между ними имелись различия, однако то была разница внутри единого целого. Игра духа никого но привлекала, а если и задевала, то лишь нескольких причастных к искусству слова людей да купца Капогроссо, впрочем, и тех в незначительной степени. Доминис рассказывал об изучении церковных проблем или о дискуссиях с Галилеем, а они оторопело пялили на него глаза. Подвергавшиеся постоянной угрозе уничтожения жители приграничья никак не могли взять в толк, что жизнь их зависит и от неведомой еретической учености. Разум здесь ровным счетом не представлял никакой цены. Тот, кто однажды отведал из сосуда Минервы, вынужден был бежать отсюда как проклятый. Решив организовать училище, Доминис намеревался положить конец многовековым скитаниям ученых агасферов; но порывы бури сломили его. Кроме горсточки ученых и друзей, ему никого не удалось заинтересовать своей идеей. В конце концов он изнемог, открытый всем ветрам у подножия турецкой крепости; он изнемог и под тяжестью своего титула.
Однако, несмотря па разочарования и обиды, могучий дух вступил в единоборство с папством на пространствах где уже не было места отступлению или перемирию. Прошло двенадцать лет с тех пор, как он занял сплитскую кафедру, а там едва пустили корни его идеи. Начатую схватку нельзя было разрешить на далматинском берегу. Он хотел сокрушить своего противника в центре его обороны и на европейских полях сражений. И только одно оружие дала ему Диоклетианова глушь, которое он мог использовать в столкновении с могучей империей: перо писателя. В нем он обрел опору, подобно тому как опускающийся на дно жизни человек находит забвение в вине или разврате.
Оказавшись за письменным столом, поглощенный тяжбой с ватиканской канцелярией, он захотел изложить на бумаге существо оппозиционных движений своего времени. Бесконечные дискуссии в Падуе, Брешии, Риме, споры с друзьями и столкновения с иезуитскими подголосками ожидали своего эпилога. Страстный полемист и в сплитском уединении продолжал дело, начатое на католическом западе и протестантском севере. Однако вскоре беспокойный ум разбил скорлупу созревания. Стереотипная фраза, оборванная посредине или перед самым концом, увлекала его в неведомые пределы. Какой-нибудь стилистический оборот, свежая метафора или ассоциация рождали нечто необыкновенное. В этом заключалось чудо написанного слова, которое умножало самое себя в бесчисленных вариациях и фантастических проекциях. Усталая рука едва успевала отметить и записать их, как уже новые мосты протягивались к берегам, которые не давали передышки путнику, если б он ступил на них. Нигде нельзя было остановиться, ничто не было окончательным. Одолеваемый кошмарами, укладывался в постель Доминис и вставал, как ему казалось, чтобы завершить начатое; и опять продолжалась спешка. Гонимый писатель вдруг оказывался там, куда вовсе не собирался идти и где вдруг чувствовал себя оторванным от всех, одиноко противостоящим системе абсолютной власти. То, что некогда сверкало в случайных высказываниях, риторических проповедях, доверительных беседах, схоластических силлогизмах и непродуманных ругательствах, вырастало в нечто громадное, неудержимое и неутаимое. Освобожденное копье, омытое черной кровью дракона, оказывалось храбрее самого рыцаря, державшего его в руках. Там, где он готов был остановиться, непокорное слово само бросалось вперед. Он устремлялся следом за ним по девственно белой целине, едва успевая в ужасе оглянуться вокруг. Все меньше указателей попадалось на этом пути. Впереди простиралась дорога, по которой надлежало идти одному. Он достиг последних границ познания и замер, оказавшись лицом к лицу с созданным им самим миром. Одинокий автор и церковное государство противостояли друг другу, точно два заклятых врага, которым предстояло победить или умереть.
Реформация, восставшая против гегемонии и пороков Рима, сама запуталась в подобных прежним мистических догмах и противоречиях феодалов. И хотя после устрашающих иезуитско-габсбургских походов наступило затишье, все предвещало новые схватки, куда более ужасные, чем недавние, врезавшиеся в память поколений войны. Повсюду готовили армии наемников, европейские дворы заключали между собой всевозможные союзы, а в качество прелюдии к пушечным залпам по вражеским укреплениям громыхали памфлеты. Теологи папы и католических величеств, как и протестантских курфюрстов и князей, с другой стороны, пером доказывали свое священное право на то, чтобы грабить и сжигать иноверцев, и подобные письменные доказательства приобретали вес в ту эпоху post Christum, [51]51
После Христа (лат.).
[Закрыть]когда власть опиралась на Священное писание. Предтечами волнений были два новых Иоанна Крестителя – Джон Уиклиф и Ян Гус. Первый из них, doctor evangelicus, [52]52
Евангелический доктор (лат.).
[Закрыть]переводя Библию спустя тринадцать веков на язык простонародья, пришел к очевидному выводу, что многое в римской церкви противоречит учению Христа; несмотря на то что собор в Констанце предал огню его прах, а пепел развеяли по ветру, из памяти вынужденных свидетелей не удалось вытравить его слова. Тот же собор в 1415 году живьем отправил па костер Яна Гуса, отрицавшего за этим собором право суда и не признававшего папской юрисдикции; и вот теперь, через два столетия после яростных походов против гуситов, дух мученика пылает сильнее, чем когда бы то ни было. Вдохновленное возвращением к Библии движение Лютера пошло на уступки немецкому феодализму, извиняя жестокое подавление им крестьянских восстаний. Мартин Лютер принимал идею о врожденной греховности человека, оправдывая его извечное угнетение и страдания, он убил в подданных феодалов волю к свободе, определив тем самым дальнейшее печальное развитие германской истории. Швейцарские реформисты Кальвин и Цвингли стремились к теократии и с такой же фанатичностью, как католическая инквизиция в Мадриде, зажигали костры в Женеве. Еретики, ведьмы, скептики, все сомневавшиеся в Троице, смеявшиеся над идеей непорочного зачатия Богородицы, отрицатели божественной предопределенности и первородного греха, астрологи и алхимики, колдуны и богохульники – все они пылающими факелами суеверия предшествовали разгоравшемуся военному пожару.
Марк Антоний в своей пограничной епархии все сильнее ощущал этот раскол. Он находился достаточно далеко, чтобы позволить себе не вставать на чью-либо сторону, достаточно далеко, чтобы самому определить собственную позицию, которая осложнялась благодаря продолжавшемуся бегству людей из старой богомильской Боснии и православной Сербии. Смешение народов различных верований и традиций рождало трудности, особенно там, где церкви стали символами национальной борьбы против иноземного ига. Но как бы это ни казалось выгодным в данных обстоятельствах, примас в Сплите не захотел поддерживать католический унитаризм в его безусловной форме, последовательно проповедуя принцип сосуществования всех религий. Противостоя единовластному и хищному Риму, он мечтал о европейском единении на основе обновленного раннего христианства и земельного права. Первоначальные апостольские общины выродились в нейтралистское государство с коронованным папой как светским князем, конклавом кардиналов, всемогущими канцеляриями и эгоизмом столицы. Во имя всеобщего примирения подобное церковное государство необходимо было сейчас разрушить! Во-первых, следовало с корнем вырвать догмат о верховенстве папы, для которого не было никаких оснований в евангелии, и признать равноправными все церкви, как древние патриархии, так и новые, протестантские; кроме того, во избежание чьего-либо самовластия синоду равных и непосредственно избранных епископов надлежало отныне совместно обсуждать дела, соблюдая должное уважение ктрадиционным различиям. Иные теологические толкования и пустившие корни обряды не должны рождать взаимное недоверие и злобу, не говоря уж о проклятиях, в чем, к сожалению, не было недостатка сейчас, когда римская курия повсеместно навязывала одну догму якобы во имя достижения мира и единства христиан, на деле же для укрепления своей ничем не ограниченной власти и насилия…
И Марк Антоний, примас Далмации и Хорватии, пишет в глубокой ночи пограничной провинции, пишет завещание своего умирающего времени, пишет с вдохновением творца новой harmoniae mundi. [53]53
Мировой гармонии (лат.)
[Закрыть]Иногда чьи-то шаги, словно в удивлении, замирают по ту сторону венецианских окон, на которых танцует отражение свечи. Кому пишет этот отшельник? Потоки ветра мчатся вниз по крутизне горных массивов, наталкиваясь на древние разваляны, прежде чем разлететься в стороны над поверхностью волнующейся морской пучины. Невидимые воздушные массы стучат по обветшалым кровлям, сотрясают расшатанные балки, продувают насквозь астматические расщелины, забираются под скрипящие двери и в окна. Все трепещет, все в напряжении, дворец полон воя и чьих-то стонов, обитатели города молчат или бормочут что-то, одолеваемые ночными кошмарами. В промежутках между ударами ветра раздаются шаги запоздалых прохожих, и ночной соглядатай крадется к подозрительному огоньку. Развалины спят, погруженные в тысячелетние воспоминания, посреди всеобщей ломки и гибели, а Доминис вслушивается в звуки далекого урагана и пытается укрепить свой дом. Папа и генерал ордена иезуитов превратили церковь в грязное орудие личного деспотизма. Лютер предал реформацию германским князьям; император Священной Римской империи и король хорватов и венгров готовится нагрянуть с войском на гуситские Богемию и Моравию, вместо того чтобы попытаться загнать османовобратно в Азию. Полумесяц немедленно скрылся бы за европейским горизонтом, если б христианский мир обрел согласие. Ни папистам, ни протестантам не удалось найти ключ к миру – его держала рука неведомого писателя, заброшенного к турецкой границе. Сплитский отшельник создавал книгу о новом обществе с пророческой убежденностью в том, что именно ему в конечном счете суждено решить судьбу своего народа. Иначе не вырваться из тисков между святым престолом и подступающими варварами, лишь изредка предпринимая контратаки, которые дают передышку. Все, о чем он годами безуспешно спорил с курией, предстояло вынести на международный форум. Восстановление н собирание растерзанных, опустошенных и отчужденных земель могло быть достигнуто только с помощью действий на европейском фронте.
И в то время как иезуитские соглядатаи сообщали об отступлении и растерянности строптивого предстоятеля, на самом деле он начинал решающую беспощадную битву. Ничто уже не могло остановить его пылкую душу, даже смутное, неосознанное предчувствие того, что он один против тьмы. Что толку, если справа и слева ему светят костры еретиков? Прометеев огонь его размышлений сжег ограждения и укрытия. Конструкция железной логики закалилась в пламени исследований. Каждый тезис, взятый в отдельности и когда-то пугавший его, теперь, обретя систему, представлял собой неприступную твердыню. Архиепископ упивался вновь найденным могуществом, забывая, что свое детище защищает лишь оподин.
Не слишком ли он щекотал гусиным перышком всесильного противника? Христос вел за собою двенадцать апостолов и парод, который жаждал прихода мессии, а ведь он – совсем один, здесь, на остатках Хорватского королевства, окруженный спасающимися от турок беглецами, венецианскими наемниками, папскими крестоносцами. Горстка семинаристов и свободомыслящих горожан ровным счетом ничего не значила в глазах Европы. Начинать поход отсюда, с далматинского побережья, означало обрекать себя на верную гибель. Ему приходилось таиться от членов своей общины, восхвалявших папу-освободителя, – они не питали доверия к турецко-венецианским комбинациям архиепископа, его попыткам церковных реформ, к его учености. Водрузи он над этой землей знамя своего государства, вороны тучами слетятся к нему. Здесь не на что и не на кого было надеяться. Он должен организовать свой лагерь па европейских полях. Его войско поднимет книга. Самый верный его оплот в борьбе – будущие, далекие пока читатели. Печатное слово отомкнет ему железные ворота городов, и тогда со своим авангардом, во главе обретенных союзников он выступит в путь. Ибо, если не эта надежда» что же еще оставалось ему на развалинах императорского дворца в ожидании смерти?








