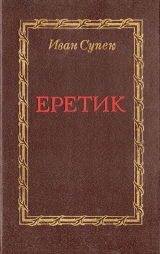
Текст книги "Еретик"
Автор книги: Иван Супек
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 23 страниц)
VIII
Инквизитора взволновал рассказ Доминиса. У него самого прошлое было чистым и однообразным, и поэтому его захватили замыслы бывшего примаса. Правда, события личной жизни Марка Антония сильнее привлекали его, нежели церковные споры. Ведь он должен осудить человека! Истоки взглядов Доминиса казались ему мутными и низменными, но зато с напряженным вниманием слушал Скалья о сближении архиепископа с робкой послушницей, полностью разделяя возмущение жителей Сплита соблазнительным сожительством. Желание понять степень виновности своего собеседника уводило кардинала в неведомые, недоступные пока для него самого пределы, воображение дополняло скудные фактические сведения. Желая точно придерживаться смысла сказанного, он утолял голод аскета возбуждающими видениями, приобщаясь к полной авантюр жизни своего антипода. Медленно пробуждался в нем гнев на распутного прелата, ставшего рабом страстей своего сильного духа и тела. Честолюбие и жадность, да, именно так… К этому чувству инквизитора примешивалось ощущение горечи от собственного воздержания. Он изнурял себя молитвой, постом и даже бичеванием, в то время как бывший пастырь, сидящий сейчас перед ним, ни в чем себе не отказывал. Для Скальи время и пространство растворились в пламени могучей страсти. Женщина, которую кардинал увидел на закате ее молодости, помимо воли увлекала его в разгульные сплитские ночи.
Скалья слушал жалобы далматинского владыки на продажную, алчную, деспотическую курию и не спеша определял свою собственную позицию. Что бы ни предлагал Марк Антоний Ватикану, о чем бы ни писал, ища поддержки, все отвергалось, нередко без всяких объяснений. Ему отказали в осуществлении неоспоримого права на епархию в Дувно. И хотя он мог сохранить очаги католичества в турецкой Боснии, курия не признала его викария в Дувно и даже пригрозила сплитскому архиепископу отлучением. Хмурый кардинал внимал нескончаемым сетованиям и обвинениям, думая о том, насколько, в сущности, мало сейчас это их обоих касается. К турецкому шайтану это дуваньское поле! В канцелярии дальновидно рассудили, что укрепление власти Доминиса чревато новыми опасностями возможно более пагубными, нежели турецкие отряды в отдаленном будущем. Ведь полчища османов стали своего рода дьявольским наказанием для схизматиков и гордецов на том берегу Адриатики. Турки сокрушили Византию и своей жестокостью упрочили приверженность крестоносцев к папе-освободителю, именно они, завоеватели, на самом деле являются пособниками святого престола… Что нужно Марку Антонию? Тамошние вакансии отданы чужеземцам и прислужникам? Далмация погибает, стамбульский паша отуречивает местное население… Скалья внимал этим боснийским россказням, а распаленная фантазия продолжала увлекать его в постель аббатисы. Эта податливая боснийка – нечто единственно реальное в надуманных бреднях Доминиса. Чужая любовница, которую ему, аскету и схимнику, надлежит освободить от многочисленных одежд улетевшего времени!
Он ощущал ее всеми нервными окончаниями своего тела, не знавшего близости женщины. Будучи судьей, он был вынужден слушать, вникать в блуд другого, лишенный возможности защищаться. Скалье первому пришлось пройти через пытку инквизиции, и вслед за пылким любовником он приближался к женщине, чье появление смутило его с самого начала. Доминис умолк, не зная, как начать рассказ о своем безумном конкубинате, но спутник его нетерпеливо устремился вперед. Скалья сгорал, буквально сходил с ума во время рассказа соблазнителя. Ужас, внушенный грехом, пока удерживал его на краю чистилища, на самом краю в преддверии проклятого наслаждения. Развратник, укорял он сатанинского прелата, развратник, переступивший запретную черту.
Тюремщики увели Марка Антония, и перед инквизитором еще более живо встал образ белой монахини. Там, где обвиняемый закончил свой рассказ, для кардинала, охваченного пламенем пробудившегося инстинкта, начиналось неведомое. Соблазнительные видения одолевали его. Он едва удерживался от того, чтобы не призвать преступника обратно и потребовать новых разъяснений, алкая каждый миг наслаждения. О если б грешник хотя бы покаялся! Но обуянный гордыней бунтовщик превращал порок в добродетель. И жил, подчиняясь своим страстям, в то время как он, святой, сгорал на медленном огне и теперь изнемогает от грешных желаний.
Словно захмелев, не имея сил встать, Скалья сидел, одолеваемый соблазнами, под каменным сводом Палаты правосудия. Свет луны расплавленным металлом лился сквозь железные решетки высокого окна на квадратные плиты пола и бросал слабый отсвет на угрюмые стены. Стихли шаги часовых во дворе, и верхнюю площадку Замка святого Ангела накрыла римская ночь. Полная видений тишина поглощала одинокого полуночника. В лунном сиянии как бы раскрывалась перед ним древняя гробница, возвращая к жизни всех своих узников прошлого и настоящего. Здесь, во тьме, под символом ангельской благодати семью смертными грехами грешили и государи и узники; теперь они явились сюда вампирами, и те, кто умер в железах, и те, кто скончался, сжимая холодеющими пальцами пастырский жезл. Заживо погребенные в каменных мешках под венцом крепости люди мечтали об отмщении, о новых грабежах пли возмездии, о блуде, а тюремщики морили их голодом, мучили и наконец, разрубив на куски их тела, бросали в каналы. Всем существом, каждой своей клеткой чувствовал Скалья силу багровых всполохов, блеск золота и крови, освещавший эту твердыню, одиноко высившуюся под отрубленной головой луны. Держа в руках весы правосудия, он теперь малодушно взвешивал свою выгоду. Замок святого Ангела начал оказывать свое странное влияние на его принципы. Здесь, где малейший бунт подавляли с неслыханной жестокостью, все становилось возможным. Высокие, внушающие ужас стены, ограждавшие грех, вдруг рассыпались в прах перед измученным аскетом. Толстые стены казематов оказались на удивление легко преодолимыми для самых грешных свершений. Живя в мире и тишине, он мог подавлять себя, теперь же, когда он был наедине с самим собой, его подхватил крылатый демон крепости. Скалья пришел в ужас при одной мысли о том, что может выйти отсюда иным, чем был или каким приказывал себе быть. В лихорадочном бреду каземат превращался в покои далекого архиепископского дворца, где, подобно вулкану, взорвалась подавленная страсть. Ничего, кроме распахнутой двери в спальню Доминиса, не различал он, и туда, внутрь этой спальни, устремлялся всем своим изголодавшимся телом…
– Блудодеи! Они оставили его на пороге своих игрищ. Чтоб он осязал блуд, наблюдая его из клетки своей веры… Как ужасающе пусто под каменными сводами; под сводами величия и вечности. Невыносимо видеть над головой у себя это окаменевшее небо… Последним ли стражем стоит он сейчас перед этим разбойничьим разнузданным обществом? «Святой» – падали ниц перед ним кающиеся. «Дурак» – смеялись в коллегии кардиналов. Да, святой и дурак, если ему суждено выстоять в роли одинокого стража, смотрящего вперед… Девица Фидес с полуопущенными ресницами. Подобная стыдливость предвещает безудержный разврат, слепое послушание ведет в постель. Ждет ли она? Или скрылась, как призрак? От ее дыхания вспыхнула сухая ветвь его воздержания. И вот он корчится в пламени, мысли его обуглились, скамеечка для молитв превратилась в жар. Все ли его желания обуздала железная воля? И надо ли стремиться занимать святой престол, будучи измученным, бессильным, мертвым? Что поддерживает его в жестокой игре: вера в свое избранничество или… соображения собственной выгоды?… Святой или лицемер, вот в чем сомнение. Скорее лицемер. Девица Фидес с послушным блудливым взглядом. Пасть… Но как тогда судить Доминиса, за неприятие каких таинств, коль скоро он сам их отвергает?
Скалья словно воочию присутствовал при их объятии, когда она на самом деле вдруг возникла в открытой двери, нарушив мысленное его блудодейство. Опьяненный, на грани безумия, он едва смог различить ее в сгустившейся мгле. Темнота колебалась вместе с нею, раскалывалась на куски то совсем рядом, то непостижимо далеко. Он схватил монахиню, прильнувшую по-кошачьи, за мягкую руку, ощущая физическую боль при мгновенном расставании со своей мечтой.
– Ты растоптала обет? Ты служила ему для телесных утех? Говори! Ты вместе с ним отреклась от веры? – с яростью обманутого любовника накинулся он на прелюбодейку.
– Он был моим духовным пастырем, – спокойно ответила монахиня.
– Ты дала обет верности папе и святому ордену. Ему, насильнику, ты не обязана была послушанием.
– Вы слишком поздно мне это объясняете, монсеньор.
– Слишком поздно?
Итак, свершилось то, о чем пока умолчал узник. Монахиня уступила насильнику. В далеком Сплите Скалья видел растерзанную постель, где возлежала обнаженная преступница, руку которой он сейчас здесь стиснул так, что она вскрикнула. Его жадные пальцы переползли с локтя на полное плечо, зарылись в грубую ткань рясы. Мучительным усилием воли аскет обуздывал себя, охваченный желанием вновь осквернить ее в дьявольской постели. Превозмогая себя, он бормотал заученно и невнятно:
– Святой орден возвысил тебя чистотой…
– Иезуит послал меня к архиепископу.
– Иезуит?
– Патер Игнаций. Иди к нему, побуждал он меня, это твой первый искус.
– Ложь!
– Я думала, так должно быть.
– Должно?
– Я просила отца Игнация о тяжком искусе…
– Податливая блудница! – В неистовой ярости он обхватил ее обеими руками, словно вымещая на ней все свои страдания. – Ты пала при первом же искусе. Неужели тебя не удержала кара, которая ожидает преступницу? Ведь тебя замуруют в стену с огрызком сухаря и чашкой воды, проклятую навечно!
– Этим же мне угрожал иезуит, двадцать лет назад, заставляя стать соглядатаем.
– Двадцать лет назад?
И вдруг перед ним разверзлась бесконечная даль. Ведь все произошло немыслимо давно. Скалья словно оказался на носу корабля, уходившего в пучину времени. Но постичь момент осквернения ему не было дано. Недоуменно и растерянно сорвал он тонкую ткань, которая скрывала лицо монахини, носившей на груди золотой крест. Его сморщенная рука коснулась лица увядшей женщины, продолжавшей рассказывать о том, как духовник толкнул ее в объятия примаса, чтобы в нужный момент шантажировать его этим. И вновь молчаливые своды Замка святого Ангела своей тяжестью обрушились на инквизитора. Но теперь под грузом этой каменной реальности вдребезги разлетелись все его фантазии.
– Мы оба были игрушками в руках у отца Игнация, – продолжала монахиня свою исповедь. – Он знал горячность архиепископа и предвидел, что я не смогу защититься.
– Грешница, – машинально бормотал кардинал.
– Иезуит мне тоже твердил о моей греховности. И говорил, будто я всегда буду пребывать в состоянии греха.
– Если б ты покаялась…
– На коленях я умоляла его, заливаясь слезами, сломленная, раздавленная…
– Он мог назначить покаяние, которое бы тебя очистило.
– Он мне и назначил покаяние, которое непрерывно возвращало меня к изначальному греху. О, иезуитское лукавство! Деяние двусмысленное, точно откуп или вторичное преступление, а он тем самым целиком подчинил меня святому ордену.
– Я не понимаю тебя.
– Ты не хочешь понять, монсеньор.
Он не хотел следовать мыслью за ней, после того как любовники увлекли его в адскую пасть. Тогда, в том далеком угрюмом тумане, начиналось его познание, однако наложница заставляла его встретиться с нею теперь, в этом печальном «потом». За грехом архиепископа и монахини угрожающе стоял святой Ангел со всевидящим оком и карающим мечом. Белая сестра безошибочно угадывала, что кардинал избегает углубляться в тайны этого ангела, хранителя всех тайн и секретов. Взгляд кардинала скользил по источенным временем камням, в этом взгляде светились печаль и желание вернуться в монастырскую келью, может быть навеки утраченную ради принудительного спасения заблудшего искателя истины.
– Ты повторила свой грех с Марком Антонием?
– Много раз.
– Бесстыдница! – вырвалось у аскета при этом признании, которое она дополнила сдержанной улыбкой.
– По наущению иезуита, прости.
– Врешь! – крикнул он на двуликую аббатису. – Для вас это было наслаждение.
– Было.
– Ты не таишь? – девственник растерялся перед ее откровенностью.
– Это отяготило мое покаяние, – посетовала наложница еретика.
– Какое покаяние?
– Да пойми же ты наконец! – Она тоже повысила голос, сохраняя на лице выражение оскорбленной невинности, – Святой орден приказал мне следить за архиепископом. А как иначе могла я этого добиться?
Она разбила скорлупу, в которую облек себя проницательный снятой. Он не желал идти дальше того, что лежало на поверхности монашеской добродетели. Лишь в отдельные мгновения взор его проникал глубже, и тогда ужасные предчувствия заставляли его бросаться на деревянную скамеечку для молений. Однако благодаря послушнице святого ордена истина вдруг во весь рост поднялась с мистической почвы, собственно, она всегда стояла перед ним, это он сам прятался от нее, прикрываясь маской благочестивого неведения. Истина о добродетели, истина о грехе, ослепляюще страшная истина о власти церкви! Невероятно, бормотал ou, зная, однако, что все обстояло именно так, как рассказывала женщина, которую сам генерал ордена иезуитов представил в качестве своей шпионки. И как бы это ни противоречило его роли в Замке святого Ангела, сейчас он не смог скрыть отвращения к этому столь совершенному созданию, чьи заслуги церковь отметила золотым знаком.
– Ты грязно служила ордену…
– Тот, кто чист, монсеньор, не служит.
– Ужасно!
– Что тебя ужасает? – Она грубо открывала ему правду. – В курии все шпионят за всеми, и на тысячу ладов. Да и ты сам без присмотра ли?
Да, он ничем не отличался от других. И это не казалось ему чудовищным. Его скорее поразила суть такой слежки. Божественное всевидящее око оберегало слабого от падения, однако надзор иезуитов по существу являлся грехом. Церковная иерархия оказывалась подлой, развратной и грязной, но не это само по себе представлялось самым страшным. Много страшнее было то, что извращенность лежала в основе власти святого ордена. Исповеди сплитского архиепископа и приставленной к нему орденом доносительницы являли собой горькое откровение, возмущавшее праведного кардинала. Епископы и каноники, о которых рассказывал Доминис, служили Риму лишь потому, что были непоправимо испорчены. Будь их совесть чиста и будь они преданы интересам своего диоцеза, они неминуемо оказались бы на стороне примаса: теперь же, рассорившись со всеми сословиями из-за постоянных обременительных повинностей, стяжав дурную славу своими пороками, под вечной угрозой лишения сана, они становились послушным инструментом папской политики. Орден шпионил за преступником не для того, чтобы помешать ему совершить преступление. Наоборот! Его грех служил для ордена средством опутать преступника. Потому и придумывались суровые наказания и противоестественные обеты, как объяснял в свое время возмутившийся архиепископ принявшей постриг неофитке. Во тьме Замка святого Ангела надломленному аскету вдруг открылись причины того, почему все глубже погружался в трясину святой престол, вместо того чтобы славить жертву Спасителя; и кардинал содрогнулся от собственной слепоты.
С самого детства он жил так, будто око Всевышнего лежало на нем. А что, если это было позой, трусостью или безумием? Суровые предписания, обеты бедности, послушания и целомудрия, древние каноны – все было столь невыносимо и безумно, что люди в страхе предпочитали грех. И, сокрушаемые чувством вины, либо замаливали его до конца дней своих, либо навеки оставались испорченными, погрязнув в разврате, верные слуги церкви…
Терзаемый мучительной двойственностью, Скалья не мог больше выносить присутствия равнодушной, безнравственной аббатисы. Чтобы освободиться от ее взгляда и тяжести каменного свода над головой, он вышел в соседний покой, убранный для отдыха инквизиторов, оттуда перешел в пустынный двор, залитый светом молодой луны. Этот уютный внутренний дворик, Cortile di teatro. [45]45
Театральный дворик (итал.)
[Закрыть]Я был расположен внутри трехэтажного дворца на верхней площадке башни, окруженной зубчатым венцом. Здесь, прямо над казематами, где томились узники, папы Лев X и Пив IV устраивали театральные представления. На краю площадки находилось узкое отверстие, сквозь которое в камеры проникал воздух и немного света; через эту отдушину заключенные могли слышать голоса актеров и аплодисменты публики. Теперь одинокому кардиналу казалось, будто он присутствует на полуночном спектакле, поставленном по первой чести «Комедии» Данте. В одной из каменных могил, чей зарешеченный глаз был устремлен на крест святого Ангела, семь лет провел Джордано Бруно, в другой – томился мастер-ювелир и скульптор Бенвенуто Челлини, в третьей – красавица Беатриса Ченчи, в четвертой… В бесконечность уходила вереница истерзанных голодом, измученных, а затем умерщвленных или сожженных заживо людей. Здесь находились каменные ниши, куда бросали узников, и они умирали в них: здесь, в этом камне, были глубокие мешки, куда папские прихлебатели прятали тех, с кем было решено покончить без глума; самыми изощренными пытками славились эти казематы. А над подземельями для экзекуций воздвигли сцену, где при свете факелов под окнами папских покоев разыгрывался извечный фарс. Театральный дворик! Стиснув зубы, удерживал кардинал истерический смех, рвавшийся из перехваченного судорогой горла. Здесь театральные зрелища сопровождались воплями терзаемых жертв и аплодисментами восторга избранных, здесь взрывы смеха перемежались всплесками крови. Папа упивался спектаклями, поставленными в кулисах жуткой яви. И чем бездоннее открывалась пропасть внизу, тем неутолимее наверху оказывалась жажда наслаждения. Взгляд Скальи перешел на другую сторону дворика, где папа Климент VII построил роскошные термы, украшенные фривольными изображениями alla Pompeiana [46]46
В стиле Помпеи (итал.).
[Закрыть]и обогреваемые потоками теплого воздуха; постройка находилась непосредственно над вторым входом в темницы. Противоестественное и чудовищное, все это вместе составляло абсолютную дьявольскую гармонию в архитектуре Замка святого Ангела.
Сестра Фидес последовала за кардиналом и безмолвно остановилась позади него. Лунный свет, озарявший древние плиты и здания, словно растворял ужас, окутывая дворик серебристой тканью.
– Тебе приказано и за мною шпионить, как за сплитским архиепископом? – Повернувшись к женщине, Скалья высказал мучившее его предчувствие.
– Поможет ли тебе мой ответ?
– Твоя лаконичность внушает страх!
– Я откровенна с тобой, – шептала честная сестра, – как мне приказал генерал Муций. Но допустим, что твои подозрения уместны? Что тогда?
– Уходи!
– Ты избегаешь меня?
– Как ядовитой змеи. – Кардинал отступал к выходу в другой, симметрично расположенный дворик, откуда вел спуск вниз.
– Генерал это воспримет как выражение глубокого недоверия. – Ее дыхание он ощущал затылком. – Ты никогда не станешь государственным секретарем.
– Откуда ты знаешь, что я к этому стремлюсь?
– Я многое знаю!
Он предчувствовал это. Распутница явно была сильнее его, поколебленного в своей вере. Она познала все, чего он лишился, одолеваемый монашеской скромностью. Молча смотрел кардинал на венцы замка, озаренные лунным светом, который придавал им необычную легкость. В мерцающей римской ночи ему вдруг захотелось, чтобы окутанная тайной монахиня и впрямь шпионила за ним так же, как она поступила со своим прежним повелителем.
– А может быть, твой генерал вовсе и не приказывал ничего подобного?
– Может быть.
– Как мне узнать правду?
Она была неуловима, олицетворение некоей неземной белой непознаваемости. Теперь ему уже было трудно представить, что Доминис когда-либо мог ею обладать. Она переносила Скалью на тот, иной, исчезнувший в тумане далекий берег, где ничего не оставалось в памяти. В сдержанной улыбке всепрощающей мадонны крылись все добродетели и грехи мира. И помимо своей воли кардинал Скалья повторил слова обвиняемого:
– Вероломная Фидес! Твое лицо, расцветшее в монастырской тени, – совершенная маска, настолько совершенная, что она подавляет естественную красоту. Ты лицемерна, Фидес, и все в тебе искусственно, неверно, подло!
Ее не оскорбляли подобные комплименты, она была слишком уверена в своем торжестве. Кардинал-аскет расставался с иллюзиями, которых сплитская послушница давно лишилась. Не испытывая ни малейшей потребности в оправдании, она спокойно стояла перед ним, а его глаза 'заволакивал туман.
– Как же иначе смогла бы я выдержать в ордене?
– Ты создала некий ирреальный образ в этой галерее святых, воителей, епископов, звонарей, прислужников, патеров и мерзавцев. Твой образ с его кажущейся безликостью предвещает преображение, подлинное и глубокое. Этого требует от меня орден?
Он схватил ее за плечи, озаренную светом молодой луны. Могучая волна страсти захлестнула Замок святого Ангела со всеми его бесчисленными жертвами. Она подхватила и понесла его, несокрушимого кардинала Скалью. И кардинал отдался воле женщины, более опытной и более искушенной, чем он.
– Добродетель стала препятствием для твоего возвышения в курии, – искусительно шептала белая монахиня.
– Да! – стонал он, изнемогая. – Ты отворишь мне двери…
Курия хочет видеть притворщика, подобного ей самой, она надела маску мессианства – суетная, корыстолюбивая, бездушная. Впрочем, иначе папству не устоять. Да, он убедился в этом во время дознания. И еще в одном: он сам, кардинал Скалья, – лжец, лжец, лжец, натянувший личину святого…








