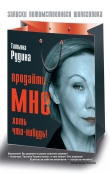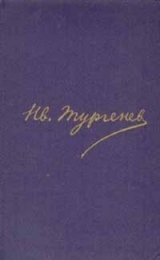
Текст книги "Том 5. Рудин. Повести и рассказы 1853-1857"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 40 страниц)
Критик Н. В. Шелгунов, деятельный участник революционного движения 1860-х гг., откликаясь на статью Тургенева и оценивая ее как «замечательное явление нашей современной литературы», воспользовался ее образами для злободневной критики правительственного либерализма в предреформенную пору. «Не представляя таких частных, крайних типов, – писал он, – мы богаты тут преимущественно помесью – донкихотствующими Гамлетами. < …> Эти Гамлеты, стоя с сложенными накрест руками, донкихотствуют, делая вид, что они работают что-то, трудятся для общего дела; в сущности же, не зная, к кому пристать, куда идти, административные Гамлеты делают попросту то, что им выгодно. Это признаки нашего линяния» (Н. Ш. Литературное чтение в зале Пассажа. – Рус Сл,1860, № 2, отд. III, с. 76–77).
Политический обозреватель «Отечественных записок» В. Санин, рассматривая в статье «Выгодный обмен» передел Италии в 1860 г., назвал одну из главок, по примеру Тургенева, «Гамлет и Дон-Кихот», но при этом замечал, что «в жизни действительной, общественной, как и частной, проза гамлетизма и поэзия дон-кихотизма так перемешаны, что олицетворения этой смеси являются попеременно жрецами то той, то другой» (Отеч Зап,1860, № 4, с. 352). В последующем изложении автор уподоблял Гамлету и Дон-Кихоту не только отдельных общественных деятелей Европы, но и целые государства (Францию, королевство Сардинию).
Отзвук тургеневского противопоставления обнаруживается и в статье Д. И. Писарева «Схоластика XIX века» (1861), где он утверждал: «Здравый смысл и значительная доля юмора и скептицизма составляют, мне кажется, самое заметное свойство чисто русского ума; мы более склоняемся к Гамлету, чем к Дон-Кихоту; нам мало понятны энтузиазм и мистицизм страстного адепта» (Писарев,т. I, с. 118).
Наконец, отталкиваясь от тургеневской статьи, А. А. Григорьев в стихотворных «Монологах Гамлета Щигровского уезда» противопоставлял отечественному «мещанскому Гамлету» «мещанского Дон-Кихота», «бойца многоглаголивого и вздорного», требующего «срезать всё на нет» (Оса, 1864, № 2, с, 13). В образе последнего автор рассчитывал осмеять литераторов революционно-демократического лагеря с их широкой программой общественной борьбы.
Разбирая последующие отклики на статью Тургенева, можно заметить, что они больше касались образа Дон-Кихота. Имя Гамлета еще ранними рассказами Тургенева было связано с образом «лишнего человека», и статья в этом отношении вносила мало нового. Свидетельства того, что эти понятия стали синонимичными в русской литературе, обнаруживаются в различных произведениях, и не имеющих прямого отношения к Тургеневу: в статье Д. И. Писарева «Идеализм Платона» (1861), в статье А. М. Скабичевского «Наша современная беззаветность» (1875), в повести H. H. Златовратского «Скиталец» (1884) и в драме А. П. Чехова «Иванов» (1889) [123]123
См. упомянутую выше работу Ю. Д. Левина «Статья И. С. Тургенева „Гамлет и Дон-Кихот“» – с. 155–156.
[Закрыть].
Смысл образа Дон-Кихота в статье-речи Тургенева стал особенно понятен после опубликования романа «Накануне». «Инсаров < …> это тот Дон-Кихот, которого недавно поставил он <Тургенев> в противоположность Гамлету в своей речи об этих характерах», – писал критик H. H. Булич (Рус Сл,1860, № 5, Критика, с. 16). В «Отечественных записках» критик П. Басистов указывал, что личность Инсарова осталась бы совершенно непонятной, если бы Тургенев не дал ключа к ней в своей статье, и далее сравнивал образы болгарского революционера и Дон-Кихота в тургеневской интерпретации (Отеч Зап,1860, № 5, Русская литература, с. 8).
Революционная демократия, группировавшаяся вокруг журнала «Современник», разумеется, не могла принять определение революционности как «донкихотства», но прямая полемика со статьей Тургенева на страницах журнала, в котором статья печаталась, была неудобна. Поэтому полемические выпады Н. А. Добролюбова против «Гамлета и Дон-Кихота» были скрыто включены в его статью «Новая повесть г. Тургенева» (Совр,1860, № 3, Современное обозрение), озаглавленную впоследствии при переиздании «Когда же придет настоящий день?». Именно такой смысл имеет рассуждение Добролюбова о «жалких Дон-Кихотах», которое на первый взгляд может показаться неожиданным и немотивированным [124]124
См.: МордовченкоН. И. Добролюбов в борьбе с либерально-дворянской литературой. – Изв. АН СССР, Отд. общественных наук, 1936, № 1–2, с. 251–252.
[Закрыть]. Намекая, с одной стороны, на слова Тургенева о том, что Дон-Кихот верит «в истину, находящуюся внеотдельного человека», что «он весь живет < …> вне себя, для других», а с другой – на то, что Инсаров должен бороться с внешними враждебными силами, Добролюбов писал: «Внешней борьбы нам не нужно, но необходима усиленная непрерывная самоотверженная борьба с внутренним врагом – с общественным злом и неправдой < …> Многие начинают накидываться на мелочи, воображая, что в них-то и есть всё дело, или сражаться с призраками и таким образом в практической деятельности являются обыкновенно забавно жалкими Дон-Кихотами, несмотря на всё благородство своих стремлений. Отличительная черта Дон-Кихота – непонимание ни того, за что он борется, ни того, что выйдет из его усилий, – удивительно ярко выступает в них» (с. 61). В окончательной редакции статьи, заключая свое рассуждение, критик еще резче подчеркнул, что «смешные Дон-Кихоты» «в нашей среде» – это те, кто «хотят прогнать горе ближних, а оно зависит от устройства той среды, в которой живут и горюющие и предполагаемые утешители» (Добролюбов,т. II, с. 229). Добролюбов давал понять, что Дон-Кихотами являются не революционеры, а те люди, которые, сочувствуя угнетенным, рассчитывают помочь им, не прибегая к революционным действиям [125]125
См.: БялыйГ. Тургенев и русский реализм. М.; Л.: Сов. писатель, 1962, с. 145–146.
[Закрыть].
Начатое Добролюбовым опровержение тургеневской концепции «донкихотства» продолжил после его смерти А. П. Пятковский, связанный в середине 1860-х гг. с демократической печатью. Основной тезис статьи Пятковского «Гамлеты и Дон-Кихоты» состоял в том, что слепая вера в идеал присуща реакционным поборникам старого, тогда как критический анализ действительности, осуществляемый передовыми общественными силами, есть залог ее преобразования. В Гамлете критик видел предтечу Базарова, которого он защищал, донкихотские же черты он находил у Павла Кирсанова. «Без Гамлетов в тургеневском смысле, – писал Пятковский, – т. е. без людей, имеющих смелость относиться критически ко всем готовым явлениям жизни, человеческое развитие остановилось бы на точке замерзания», тогда как «Дон-Кихоты со своими историческими идеалами» не нужны «на поприще реальной, действительной жизни» и их «исчезновение будет минутой окончательного торжества человеческого ума» (Русь, 1864, № 18, с. 230).
Полемически заостренное по отношению к Тургеневу истолкование образа Дон-Кихота содержится и в статье Писарева «Писемский, Тургенев и Гончаров» (1861), в которой критик писал о Рудине: «Развенчать этот тип было так же необходимо, как необходимо было Сервантесу похоронить своим Дон-Кихотом рыцарские романы, как одно из последних наследий средневековой жизни» (Писарев,т. I, с. 214).
Напротив, Герцен, с которым, как указывалось выше, скрыто полемизировал Тургенев, принял новое для него осмысление образа Дон-Кихота и в «Концах и началах» (1862), говоря о поражении итальянской революции, о трагической участи Гарибальди и Маццини, писал: «Прощайте, великие безумцы; прощайте, святые Дон-Кихоты!..». И далее: «Задумается какой-нибудь северный Фортинбрас… над этой повестью Горацио и, с раздумьем вздохнувши, пойдет в дубравную родину свою – на Волгу, к своемуземскому делу» (Герцен,т. XVI, с. 166–167). Упоминание здесь имен шекспировских героев также ведет к статье Тургенева, к его словам о людях, подобных Горацио, которые, приняв от Гамлетов «семена мысли, оплодотворяют их в своем сердце и разносят их потом по всему миру» (с. 346).
В либеральном лагере статья-речь Тургенева сочувствия не встретила. П. В. Анненков отзывался о ней очень холодно: «…знаменитая, более остроумная и блестящая, чем неотразимо убедительная речь Тургенева…» (Анненков и его друзья,с. 436). В еженедельнике «Наше время», занимавшем в 1860 г. еще умеренно либеральные позиции, критик М. И. Дараган упрекал Тургенева за то, что тот прославил «мечтательного» Дон-Кихота, а не «положительного» либерального оппортуниста – поборника малых дел. «Таких ли деятелей, ради бога, нам нужно в настоящее время? – вопрошал Дараган, имея в виду Дон-Кихота. – Разве возможно в наш век прошибить лбом стену? < …> Нам нужны деятели, но положительные, а не мечтательные < …> нам нужны люди, умеющие сообразить цель со средствами и соразмерить жертвы с пользой, от них приобретаемою» (Наше время, 1860, № 9, 13 марта, с. 134).
Вопрос о Гамлете и Дон-Кихоте как общественных типах рассматривался в полемической статье критика и публициста М. Ф. Де-Пуле «Нечто о литературных мошках и букашках. По поводу героев г. Тургенева», опубликованной в журнале братьев Достоевских «Время» [126]126
Статья опубликована анонимно; атрибуцию ее см. в кн.: Достоевский Ф. М. Статьи и материалы. Пб., 1922, с. 507.
[Закрыть]. (Под «мошками и букашками» автор подразумевал «лишних людей» в русской литературе от Чацкого до Рудина, к которым он, однако, относился сочувственно, противопоставляя их «ухорским героям» писателей-романтиков). Возражая Тургеневу, Де-Пуле находил, что Гамлет «раздвоен вследствие сознания великости идеи, возложенной на него», и в его бессилии повинны «размышление, разъедающаярефлекция, но никак не эгоизм». Тургенев, заявлял Де-Пуле, неправ, полагая, что «Дон-Кихоты находят – Гамлеты разрабатывают»; «наоборот: Гамлеты находят, т. е. размышляют, подвергают жизнь анализу, творят идеи, Дон-Кихоты разрабатывают, т. е. действуют и осуществляют эти гамлетовские идеи». Согласно Де-Пуле, задачи эпохи требуют появления людей не «мысли только,но мысли и дела».Он сочувствовал тургеневскому отношению к Дон-Кихоту, но не противопоставлял его Гамлету и считал, что на смену Рудиным должны прийти Дон-Кихоты, «т. е. этот же самый тип, только перерожденный, т. е. считающий отрадою жизни не праздномыслие,< …> а деятельность, жизнь во имя гамлетовских идей. < …> В состоянии ли наша жизнь выставить Дон-Кихотов не по натуре только, a de facto – это еще вопрос, в положительном решении которого мы крепко сомневаемся» (Время, 1861, № 2, отд. III, с. 127–130).
Сочувственно относился к статье Тургенева Н. С. Лесков, который в газетном обозрении «Наша провинциальная жизнь, утверждал что тип Дон-Кихота «верно повторяется» в украинских разбойниках, защищающих крестьян от притеснений власть имущих. «По закону все они преступники, – писал Лесков, – это так, но, вникая в их психические задачи, нельзя по поводу их не припомнить слишком известной статьи И. С. Тургенева „Гамлет и Дон-Кихот“, по которой Дон-Кихот правильно поставлен стоющим бо́льших симпатий, чем Гамлет» (Биржевые ведомости, 1869, № 307) [127]127
Подробнее об этом см.: СтоляроваИ. В. «Гамлет и Дон-Кихот». Об отклике Н. С. Лескова на речь Тургенева. – Т сб,вып. 3, с. 120–123.
[Закрыть].
Русские революционеры следующего за шестидесятниками поколения отнеслись к статье Тургенева иначе, чем их предшественники. По-видимому, им импонировала мысль Тургенева о значении Дон-Кихота для массы, сходная с народнической идеей героя и толпы. С другой стороны, возвеличиванию Дон-Кихота (в тургеневской интерпретации) способствовала, по-видимому, борьба вождей и идеологов народничества против новой волны «гамлетизма» (самый термин этот возник в это время), вызванной провалами и разочарованиями в движении народников, а затем, в 80-е годы, и общей политической реакцией в стране [128]128
См.: ЛевинЮ. Д. Русский гамлетизм. – В кн.: От романтизма к реализму. Л.: Наука, 1978, с. 228–234.
[Закрыть]. П. Л. Лавров в статье «И. С. Тургенев и развитие русского общества» после приведенного выше свидетельства о первом впечатлении от тургеневского «возвышения Дон-Кихота» писал: «Но теперь, имея за собою прошедшие с тех пор почти четверть века и позднейшие произведения Ивана Сергеевича, читатель открывает иной смысл в словах, казавшихся тогда странными», и далее цитировал места из статьи Тургенева о некоторой доле смешного в людях, призванных на великое новое дело, о следовании массы за теми, над кем она прежде глумилась, о попирании Дон-Кихотов свиными ногами. Лавров возражал и против полемических выпадов Добролюбова. «Конечно, Добролюбовы и их законные наследники в деле революционной мысли не хотели признать в своих рядах людей типа Дон-Кихота, „отличительная черта“ которого „непонимание ни того, за что он берется, ни того, что выйдет из его усилий“ < ...>, но партии, совершающие и особенно начинающие великое историческое дело, составляются не по собственным идеалам, а по тому фатальному процессу, которому прошедшее подчинило эволюцию вырабатывающего их общества» (Вестник Народной воли, 1884, № 2, с. 89, 116–117).
Солидаризировался с толкованием Тургенева и анархист П. А. Кропоткин, который в своих записках назвал его речь «блестящей» и, пересказав взгляд на Дон-Кихота и его отношение к массе, заключал: «И это вполне справедливо» ( КропоткинП. Записки революционера. Лондон; СПб., б. г., с. 352–353).
Показательно, что позднее марксистский критик В. В. Воровский, характеризуя общественное движение 1870-х годов, использовал установленные Тургеневым наименования социально-психологических типов. В статье «Лишние люди» (1905) он выделял две группы народнической интеллигенции – «разночинцев» и «культурно-народническое течение», генетически связанное с кающимися дворянами, и при этом писал: «Донкихотизму разночинцев культурно-народническое течение противопоставляло гамлетизм» ( ВоровскийВ. В. Сочинения. М.: Соцэкгиз, 1931. Т. II, с. 51). Здесь тургеневскому толкованию соответствовали не только понятия «донкихотизма» и «гамлетизма», но и их социальная атрибуция.
Этический пафос статьи Тургенева высоко ценил Л. Н. Толстой. В письме к А. Н. Пыпину от 10 января 1884 г. он писал, что Тургеневу была присуща «не формулированная, двигавшая им и в жизни, и в писаниях, вера в добро – любовь и самоотвержение, выраженная всеми его типами самоотверженных и ярче и прелестнее всего в Дон-Кихоте, где парадоксальность и особенность формы освобождали его от его стыдливости перед ролью проповедника добра» (Толстой,т. 63, с. 150). В. Ф. Лазурский, учитель детей Толстого, живший в Ясной Поляне, записал в дневнике 23 июня 1894 г.: «Выше всех <у Тургенева> он <Толстой> ставит „Довольно“ и статью „Гамлет и Дон-Кихот“. Говорил, что писал статью о Тургеневе, где рассматривал эти два произведения в связи одно с другим (настроение разочарования и потом указание пути спастись от сознания пустоты)» (Лит Насл,т. 37–38, с. 450; см. также дневниковую запись Толстого от 18 марта 1905 г. – Толстой,т. 55, с. 129).
Статью «Гамлет и Дон-Кихот» обычно упоминали авторы, писавшие о романе Сервантеса, хотя их интерпретация героя не совпадала с тургеневской (см., например: АвсеенкоВ. Происхождение романа. II. Сервантес– Рус Вестн,1877, № 12, с. 454, 461; ИвановВ. Кризис индивидуализма. – Вопросы жизни, 1905, № 9, с. 47). Но не только среди литераторов и публицистов произвела впечатление статья Тургенева. Проф. В. Л. Кирпичев, один из основателей русской инженерной науки, эпиграфом к своей программной статье «Значение фантазии для инженеров» поставил слова Тургенева о «смешных чудаках изобретателях» и о том, что «Дон-Кихоты находят, Гамлеты разрабатывают» (Изв. Киевского политехнического ин-та имп. Александра II, 1903, кн. III, отд. механический и инженерный, с. 7).
Первое издание трагедии Шекспира – в один и тот же год… – Здесь – неточность: «Гамлет» был впервые опубликован в 1603 г., первая часть «Дон-Кихота» – в 1605 г.
«Кто хочет понять – область», – сказал Гёте… – Цитата из эпиграфа к комментариям к «Западно-восточному дивану» (1819).
Хороший перевод «Дон-Кихота» – перед публикой… – Считая перевод «Дон-Кихота» на русский язык исключительно важным делом, Тургенев сам хотел осуществить его. Еще в 1853 г. он писал 9 (21) июля Анненкову, что подготовляет себя к переводу «беспрестанным перечитыванием этого бессмертного романа». К этому замыслу Тургенев возвратился через четыре года (см. письмо к В. П. Боткину от 17 февраля (1 марта) 1857 г.) и не оставлял его до конца жизни. В 1864 г. он говорил П. Д. Боборыкину: «Вот сколько лет мечтаю о том, чтобы сделать хороший перевод „Дон-Кихота“» (Новости и Биржевая газета, 1883, № 177, 27 сентября).
«О боже, боже! – кажется мне жизнь!»– «Гамлет», дейивие I, сцена 2, строки 131–134.
То кровь кипит, то сил избыток. – М. Ю. Лермонтов. «Не верь себе» (1839), строка 6.
…«our son is fat»– неточная цитата; в оригинале: «King. Our son shall win. – Queen. He’s fat, and scant of breath» (« Король. Наш сын победит. – Королева. Он тучен и задыхается». – «Гамлет», действие V., сцена 2, строка 301).
«Гамлет Баратынский»– выражение из «Послания Дельвигу» (1827) Пушкина, строка 137.
Полоний. Королева желает – иду к матушке. – «Гамлет», действие III, сцена 2, строки 398–407.
Les grandes pensées viennent du coeur. – Из «Размышлений и максим» (127) Вовенарга. Вовенарг Люк де Клапье (1715–1747) – французский писатель-моралист.
Я любил тебя когда-то – Я не любил тебя. – «Гамлет», действие III, сцена 1, строки 116–122 (цитата сокращена).
Брамарбас– маска хвастливого воина в немецком театре XVIII века.
Пистоль– действующее лицо в хрониках Шекспира «Король Генрих IV», ч. II, и «Король Генрих V», а также комедии «Виндзорские проказницы» – спутник Фальстафа, забияка, хвастун и трус, самозванный капитан.
«Сорок тысяч братьев – миллион холмов!»– «Гамлет», действие V, сцена 1, строки 291–293, 302–303 (неточные цитаты).
And thus – of thought… – «Гамлет», действие III, сцена 1, строки 84–85.
«Персилес и Сигизмунда»– рыцарский роман Сервантеса, опубликованный в 1617 г. посмертно. Тургенев, по видимому, полагал, что роман этот публиковался между выходом первой и второй частей «Дон-Кихота».
…умерли в один и тот же день, 26 апреля 1616 года. – Тургенев ошибался: датой смерти Шекспира и Сервантеса считается 23 апреля 1616 г. На самом деле Сервантес умер на десять дней раньше Шекспира. Недоразумение вызвано тем, что в Англии в 1616 г. действовал юлианский календарь, а в Испании грегорианский (см: ДержавинК. Н. и ИдельсонН. И. К вопросу о дне кончины Сервантеса и Шекспира. – В кн.: Сервантес. Статьи и материалы. Л., 1948, с. 211–213).
Один английский лорд… – Высказывалось предположение, что имеется в виду Джон-Джордж Шоу-Лефевр (1797–1879), чиновник английского парламента, с которым Тургенев, по-видимому, познакомился в 1857 г. (см.: ЗвигильскийА. Я. «Гамлет и Дон-Кихот». О некоторых возможных источниках речи Тургенева. – Т сб,вып. 5, с. 241–242).
«Послушай – с той поры – Как я тебя укрыл». – «Гамлет», действие III, сцена 2, строки 67–79.
Всё великое земное Разлетается как дым… – Ф. Шиллер, «Торжество победителей», перевод В. А. Жуковского (1828), строки 149–150.
«Все минется – останется». – Неточная цитата из первого послания апостола Павла к коринфянам (гл. XIII, стих 8).
<План романа «Два поколения»>
Печатается по фотокопии: ИРЛИ, Р. I, оп. 29, № 141, лл. 3–8.
Подлинник хранится в Национальной библиотеке в Париже (Bibl Nat).
Впервые опубликован в издании: Т, ПСС и П, Сочинения, т. VI, с. 379–388; см. также Лит Насл, т. 73, кн. 1, с. 39–58.
В конце 1840-х годов, будучи уже признанным мастером рассказа, автором цикла «Записок охотника», нескольких повестей, стихотворений, поэм и ряда произведений в драматическом роде, Тургенев задумал написать роман и даже сообщил об этом своим знакомым. Так, желая получить новое произведение Тургенева для «Современника», Некрасов 17 (29) декабря 1848 г. запрашивал автора: «Напишите, как называется Ваш роман, чтоб можно было объявить, если хотите дать его нам, на что я и надеюсь» (Некрасов,т. X, с. 121). Не исключена возможность, что письмо Некрасова подтолкнуло Тургенева определить название будущего романа. Во всяком случае, на черновом автографе «Гамлета Щигровского уезда» (1848) он сделал запись: «Борис Вязовнин. Роман. Глава первая» (ГПБ,ф. 795 (И. С. Тургенев), № 9, л. 2 об.) [129]129
Основываясь на этой записи, А. Г. Цейтлин пришел к ошибочному мнению, будто еще до «Двух поколений» у Тургенева был «замысел другого романа» ( ЦейтлинА. Г. Мастерство Тургенева-романиста. М., 1958, с. 72–73).
[Закрыть]. Следующий вариант названия романа, замысел которого, очевидно, занимал творческие помыслы Тургенева, был зафиксирован на первом листе рукописи «Mémorial de 1818 à 1853» («Памятные записи от 1818 до 1853» – см.: Mazon,p. 102, а также наст. изд., т. 11): «Борис Вязовнин, или Два поколения. Роман» (запись не датирована).
На рубеже 1840-х – 1850-х годов Тургенев начал также работу над комедией «Компаньонка» и 23 марта 1850 г. составил перечень действующих лиц этой комедии (см. наст. изд., т. 2, с. 524, 694–698).
По всей вероятности, содержание задуманных в это время произведений еще не было дифференцировано. Так, история жизни Бориса Вязовнина легла в основу повести «Два приятеля» (1853), а роман «Два поколения» вобрал в себя художественные заготовки, сделанные для комедии «Компаньонка», о чем свидетельствует почти полное совпадение действующих лиц этих произведений. (Об этом см. ниже.) Кроме того, приступая к составлению плана романа, Тургенев вместо заглавия «Два поколения» первоначально написал «Ком<паньонка>» (см. наст. том, с. 351, а также: МазонА. Работа Тургенева над романом «Два поколения». – Лит Насл,т. 73, кн. 1, с. 52).
Таким образом, план романа «Два поколения» был написан после 23 марта 1850 г. (авторская дата списка действующих лиц «Компаньонки»), но до ноября 1852 г., когда Тургенев начал уже писать роман.
О существовании среди парижских рукописей Тургенева плана романа «Два поколения» известно было из описания А. Мазона (1930). Он отметил, что на первой странице плана романа написано заглавие его – «Два поколения» и перечень действующих лиц с указанием дат рождения и возраста каждого из них к моменту начала действия. Мазон указал также, что на обороте первого листа и на следующих страницах расположен план романа по главам. Из плана видно, что Тургеневым был задуман роман в трех частях, состоящий в общей сложности из 25 глав. Началом действия романа «Два поколения» было намечено 12 июня 1845 г. (см.: Mazon,p. 54–55).
В обширной литературе, посвященной романам Тургенева, нередко встречаются упоминания и о «Двух поколениях» – произведении, текст которого до нас не дошел, так как, по-видимому, был уничтожен самим автором. С первой частью романа «Два поколения» были знакомы некоторые из современников Тургенева. Основываясь на критических отзывах С. Т. и К. С. Аксаковых, а также П. В. Анненкова и В. П. Боткина, содержащихся в их письмах к Тургеневу, Н. М. Гутьяр в статье «И. С. Тургенев в ссылке (1852–1853)» сделал попытку хотя бы в общих чертах восстановить содержание первой части романа. Исследователь писал: «Действие происходит в деревне, в богатом помещичьем доме, с подробного описания которого и начинает автор свой роман. Хозяйка его, Глафира Ивановна, женщина характера тяжелого, взбалмошная и непоследовательная, она производит впечатление чего-то отталкивающего, патологического. Деспотичная и не привыкшая уважать окружающих, она оказывает особенное доверие лишь соседу своему Чермаку – одному из главных героев романа. В невеселый дом ее вливается оживляющая струя с приездом лектрисы, Елизаветы Михайловны, девушки милой и грациозной. При счастливой наружности она отличается твердостью ума и характера, проявляя при этом некоторую пугливость к окружающим. Появление этого лица в семье невозможной барыни останавливает всеобщее внимание, она на многих производит сильное впечатление и прежде всего на 26-летнего сына Глафиры Ивановны – Дмитрия Петровича. Последний, воспитанный под тяжелой опекой своей матери, является человеком с слабым, капризным характером. Будучи неиспорченным по натуре, он не умеет и не может быть прямым и естественным. Застенчивый по природе, он часто груб и резок в обращении. Обладая живым нравственным чувством, он в состоянии нередко поступать вопреки ему. Воображая себя озлобленным, он в сущности лишь боится сознаться, что не может уважать себя. Капризно влюбляясь в Елизавету Михайловну, он так же капризно, по плану автора, впоследствии и ненавидит ее. Кроме названных лиц, в первой части выступают еще: управляющий имением Глафиры Ивановны – Василий Васильевич, француз, доктор, Леон (секретарь барыни), бурмистр Павел, какой-то Нилушка и другие» ( ГутьярH. M. И. С. Тургенев. Юрьев, 1907, с. 157).
Н. Л. Бродский, напечатав в статье «Тургенев – драматург. Замыслы» (Центрархив, Документы,с. 6–7) список действующих лиц задуманной, но не написанной Тургеневым комедии «Компаньонка» и сопоставив его с письмами к Тургеневу Аксаковых, Анненкова и Боткина, а также с отрывком из романа, напечатанным автором в 1859 г. под названием «Собственная господская контора» (см. выше, с. 7 – 17), пришел к выводу, что Тургенев в романе «Два поколения» «обработал в повествовательной форме сюжет < …> комедии „Компаньонка“» (Центр-архив, Документы,с. 7). Ю. Г. Оксман, присоединившись к мнению Бродского, также утверждал, что материалы этой незаконченной комедии были использованы Тургеневым в его романе 1852–1853 годов (Т, Сочинения,т. IV, с. 229–230; см. также наст. изд., т. 2, с. 694–697).
Публикуемый выше план романа с перечнем действующих лиц позволяет несколько уточнить и дополнить выводы Н. Л. Бродского и Ю. Г. Оксмана. Сравнивая перечни действующих лиц плана романа «Два поколения» и комедии «Компаньонка», можно заметить, что многие действующие лица перешли из пьесы в план романа даже без изменения фамилий. Это – Халабанская, Нилушка, M-r Dessert, Моржак-Лендрыховский, Кинтилиян, Léon, Васильевна, Метр Жан (Свергибус), Маша, Пуфка и Суслик. У некоторых из главных героев остались те же имена и отчества, но изменились фамилии. Так, например, Глафира Ивановна Гагина в списке действующих лиц «Компаньонки» именовалась Звановой; ее сын Дмитрий Петрович и двоюродный брат мужа, Василий Васильевич, также были Звановыми. Платон Егорыч Чермак был Чигасовым, Елизавета Михайловна Богданова носила фамилию Баум, чета Стяжкиных именовалась в «Компаньонке» Подоклюевыми и т. д. (см. наст. изд., т. 2, с. 524). В перечень действующих лиц романа Тургенев включил, однако, и несколько новых персонажей, отсутствовавших в комедии, а именно: Егора, графа Дмитрия Павловича (сначала он был назван Владимиром Николаевичем), доктора Шанского, бурмистра Онисима, охотника Владимира.
Анализ плана приводит к выводу, что задуман был роман социально-психологический, но значительно отличающийся от последующих тургеневских романов (особенно от «Рудина» и «Дворянского гнезда»), в центре которых стоит передовой деятель или рефлектирующий герой, подобный Василию Васильевичу («Гамлет Щигровского уезда») или Чулкатурину («Дневник лишнего человека»).
В романе «Два поколения» Тургенева интересовал, по-видимому, не столько Дмитрий Петрович Гагин, у которого в плане отмечен «слабый характер», в его столкновении с сильной женщиной (Елизавета Михайловна), сколько изображение помещичье-крепостнического быта. Постоянные приезды Тургенева в Спасское-Лутовиново давали ему широкие возможности наблюдать жизнь не только в имении его матери, но и в других усадьбах Орловской и Тульской губерний. О том, что в своем романе он «старался как можно проще и вернее изобразить то, что видел и испытал сам», Тургенев писал Анненкову 15 (27) марта 1853 г. Прототипом Дмитрия Петровича Гагина в известной степени является брат писателя, Николай Сергеевич Тургенев. А какими-то чертами характера его будущей жены – Анны Яковлевны Шварц (см. о ней: Т, ПСС и П, Письма,т. II, с. 692), служившей в качестве камеристки у В. П. Тургеневой, писатель воспользовался при создании образа лектрисы Елизаветы Михайловны. Не случайно он собирался вначале (в плане «Компаньонки») дать ей фамилию Баум, указывающую на ее немецкое происхождение (А. Я. Шварц также происходила из прибалтийских немцев). Возможно, что одним из прообразов Елизаветы Михайловны является и г-жа Риттер, надзирательница, взятая В. П. Тургеневой в ее московский дом (см. об этом: ЗабороваР. Б. Тургенев и его дядя H. H. Тургенев. – Т сб,вып. 3, с. 227). Эта же исследовательница называет в качестве прототипов четы Стяжкиных Авдотью Ивановну Лагривую и ее мужа, Арсения Семеныча Шанского – доктора А. Е. Берса. О прототипах других действующих лиц романа (Глафиры Ивановны, Василия Васильевича, Léon’a) см. в комментарии к «Собственной господской конторе» (наст. том, с. 387).
Работа над составлением плана и созданием первой части романа протекала в тот период, когда Тургенев постоянно читал и перечитывал Гоголя, когда создавались последние из рассказов, вошедшие в книгу «Записки охотника», а также «Муму» и «Постоялый двор» – произведения, принадлежавшие к гоголевскому направлению. В романе «Два поколения», насколько возможно судить о нем на основании плана, также должен был совершенно отчетливо проявиться именно гоголевский метод сатирического изображения не центральных героев, а всей окружающей их социальной среды (Гагина, приживалки, соседи-помещики). «В них я, если смогу, постараюсь выразить современный быт, каким он у нас выродился», – писал Тургенев С. Т. Аксакову 30 августа (11 сентября) 1853 года.
Из плана романа видно, что Тургенев собирался изобразить тяжелое положение бедной девушки – лектрисы Елизаветы Михайловны в доме богатой помещицы Гагиной. Лектриса, вскоре после своего приезда к Глафире Ивановне, привлекает общее внимание проживающих в усадьбе. Поочередно Елизавета Михайловна становится жертвой то ненависти со стороны приживалки Халабанской, то грубости Дмитрия Петровича, влюбленного в нее, но поверившего наглым наветам Чермака о ее двойной игре, интриганстве. В результате доноса, сделанного Стяжкиными Глафире Ивановне, а также сложных взаимоотношений с Дмитрием Петровичем, Елизавета Михайловна должна покинуть дом Гагиной и уехать в Москву. Там ее отыскивают сначала Дмитрий Петрович, затем Василий Васильевич, также влюбленный в нее. Глафиры Ивановны в это время уже нет в живых, но бывшая лектриса отвергает обоих претендентов на ее руку.
Таково вкратце должно было быть содержание трех частей романа «Два поколенчя», если б текст его целиком соответствовал публикуемому плану. Однако прежде чем устанавливать, насколько план был реализован Тургеневым при создании первой части романа, следует обратиться к предыстории и отдельным этапам работы писателя над этим произведением.
О том, что Тургенев размышлял о сущности разных повествовательных жанров – повести и романа – еще несколько ранее, в 1847 году, косвенно говорит его рецензия на «Повести, сказки и рассказы Казака Луганского». В этой рецензии Тургенев указывал, что В. И. Далю не всегда удаются его «большие повести», в которых следует «связать и распутать узел, представить игру страстей, развить последовательно целый характер» (наст. изд., т. 1, с. 279). Напечатанная в январской книжке «Современника» за 1852 год статья о романе Е. Тур (Е. В. Салиас) «Племянница» также явилась свидетельством тогдашнего пристального внимания и интереса Тургенева к жанру романа. Свои мысли о дальнейшей судьбе русского романа Тургенев отчетливо высказал именно в этой статье. Тургенев полагал, что для объективного изображения русской общественной жизни наиболее пригодны с точки зрения формы, особенностей художественной структуры романы «сандовского» и «диккенсовского» типов, т. е. романы социальные (см. наст. изд., т. 4, с. 477–478). У писателя существовало, однако, сомнение в том, достаточно ли «высказались уже стихии нашей общественной жизни, чтобы можно было требовать четырехтомного размера от романа, взявшегося за их воспроизведение». Тургенев считал, что «успех в последнее время разных отрывков, очерков, кажется, доказывает противное. Мы слышим пока в жизни русской отдельные звуки, на которые поэзия отвечает такими же быстрыми отголосками» (там же).