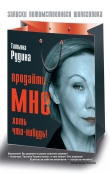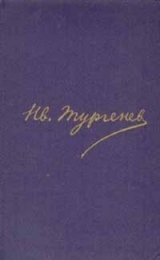
Текст книги "Том 5. Рудин. Повести и рассказы 1853-1857"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 40 страниц)
К 7 (19) октября Тургенев прибыл из Спасского в Москву, а 13 (25) октября выехал оттуда вместе с В. П. Боткиным в Петербург, где вскоре прочел «Рудина» редакционному кружку «Современника». На чтении присутствовали, в частности, В. П. Боткин, Н. А. Некрасов, И. И. Панаев. 17(29) октября 1855 г. Тургенев сообщал M. H. и В. П. Толстым: «Повесть я свою прочел – она понравилась – но мне сделали несколько дельных замечаний, которые я принял к сведению».
Всю вторую половину октября, ноябрь и декабрь Тургенев перерабатывает «Рудина», внося в его текст изменения и, в частности, дополняя его. В процессе переделок он вновь неоднократно читает роман своим приятелям, среди которых, как известно из «Воспоминаний…» Н. Г. Чернышевского, были, кроме В. П. Боткина и Н. А. Некрасова, А. В. Дружинин, Е. Ф. Корш, Н. X. Кетчер (см.: Чернышевский,т. I, с. 738).
В процессе переработки создается несколько вариантов текста «Рудина». Вопрос об их составе и соотношении с первоначальной, созданной в Спасском редакцией ввиду отсутствия автографов может быть в какой-то мере прояснен путем сопоставления текста сохранившейся копии первоначального плана романа с его окончательным печатным текстом. Выводы из этого сопоставления могут быть пополнены эпистолярными и мемуарными свидетельствами о направлении творческой работы Тургенева над «Рудиным» в Петербурге.
План был составлен, как указано выше, между 2 (14) и 5 (17) июня. 10 (22) июля 1855 г. Тургенев писал Н. А. Некрасову: «Очень мне будет любопытно знать, что вы <„приятели“> скажете о моей повести; я ее обдумывал долго – и в первый раз написал подробный план, прежде чем приступить к исполнению». Такой приступ к работе был в ту пору необычным для творческой практики Тургенева: будучи впервые применен в «Двух поколениях», позднее он стал характерным для его романов.
План предварен списком персонажей, «лиц» романа. Перечень этот, не в пример подробным «формулярам» в планах к последующим романам, очень краткий, неразвернутый, состоящий в основном из одних имен и фамилий, указания возраста и иногда семейного или общественного положения. Центральный герой романа первоначально был назван Дмитрием Петровичем Рудиным, что говорит о некоторой связи его образа с замыслом романа «Два поколения», где должен был фигурировать Дмитрий Петрович Гагин (см. в наст. томе примечания к «Двум поколениям», с. 525), и с ненаписанной комедией «Компаньонка», от которой дошел до нас список действующих лиц с персонажем Дмитрием Петровичем Звановым (см.: БродскийН. Л. Тургенев – драматург. Замыслы. – В кн.: Центрархив, Документы,с. 6–8, и наст. изд., т. 2, с. 524). Наталья Ласунская и в списке и в плане носит имя Маши, как и героиня созданной незадолго до «Рудина» повести «Затишье». Фамилии Александры Павловны Липиной и ее брата Сергея Павловича Волынцева долго варьируются. Среди ряда фамилий – Пасынковы. Александра Павловна же мыслилась незамужней. Пандалевский сначала именовался Падкалаевым. Басистов, названный так в окончательном тексте, был в списке Лещовым, потом – Басовым. Фамилия Лещова была на какой-то момент закреплена и за Лежневым. Возможно, что факт обозначения обоих героев в списке одной фамилией является результатом общности функции их образов в романе – воплощать общественные силы, соотнесенные в том или ином аспекте с Рудиным.
Другое значительное изменение касается возраста Рудина и Лежнева. По списку «лиц» Рудину – 27 лет, Лежневу – 40. В окончательном тексте возраст Рудина определяется в 35 лет, а Лежнева – в 30. Эта перемена обусловлена введением в роман студенческих воспоминаний Лежнева о кружке Покорского (см. об этом ниже), участниками которого выступают оба героя, причем Рудин как старший товарищ в ту пору является «учителем», высшим авторитетом для Лежнева.
В плане в основных чертах уже намечено композиционное построение романа. Действие развивается вокруг основных четырех моментов – начинается прогулкой Александры Павловны, описанием дома и салона Ласунской и кончается отъездом Рудина и разговором о нем. События следуют в том же порядке, лишь располагаясь более компактно внутри глав за счет объединения, а иногда и некоторого сокращения материала: вместо 14 глав по плану – в окончательном тексте 12 [92]92
См.: ДаниловВ. В. Хронологические моменты в «Рудине» Тургенева. – Изв. ОР ЯС Рос. Академии наук. Л., 1924–1925. Т. XXIX, с. 161–162.
[Закрыть].
Сжимая отдельные эпизоды, отбрасывая ненужные для основного действия или повторяющиеся перипетии, Тургенев проявлял характерное для него стремление к экономному использованию повествовательного материала. Так, в первой главе окончательной редакции он объединил содержание персон и большой части второй главы плана, начиная с прогулки Александры Павловны Липиной и посещения ею крестьянской избы и кончая «известием» об ожидаемом в доме Ласунской госте.
Относительно главы II Тургенев колебался и дал два ее плана. В первом варианте он хотел описать дом Дарьи Михайловны и ее гостей, в том числе и Рудина, во втором – продолжить разговор Липиной и Пандалевского об ожидаемом приезде в усадьбу Рудина. Пандалевский передал Александре Павловне и ее брату приглашение Ласунской приехать к обеду. Этот материал Тургенев перенес в первую главу окончательной редакции, а во второй ее главе оставил лишь описание дома Ласунской, дополнив его изображением «салона», которое по плану предполагалось дать в третьей главе.
Содержание главы IV (в тексте романа – III) упрощается: снимается сцена между Машей – Натальей и Рудиным в саду, так как аналогичная сцена намечена в главе VIII плана и затем реализована в главе VII окончательного текста романа. В плане главы XII (в тексте романа – XI) предполагалось после свидания Рудина и Натальи у Авдюхина пруда еще одно объяснение героя и героини. Оно исключено и в окончательном тексте заменено письмом-исповедью Рудина. Вместо прощального письма Рудина к г-же Ласунской, также указанного в плане этой главы, введена сцена их «официального» прощания. Но художественные соображения вызывают далеко не всегда сокращение плана при его реализации. В ряд глав плана вносятся в процессе работы значительные изменения и дополнения. Некоторые сюжетные линии, намеченные в плане, отбрасываются, другие же, наоборот, развиваются. Так, первоначально, параллелью к роману Рудина и Маши – Натальи должен был быть изображен роман Липиной и Пандалевского, что нашло отражение в плане глав III и X. Не считая, однако, по всей вероятности, Пандалевского по мелкости и незначительности его характера достойной для сопоставления с Рудиным фигурой, Тургенев устранил эту параллель. Рудина в отношениях его с Натальей в окончательном тексте оттеняет, с одной стороны, влюбленный в нее Волынцев, с другой – Лежнев, женившийся на Александре Павловне Липиной. В связи с этой переменой не реализуется осложняющая определившийся сюжет линия Маши – Натальи и Лещова – Лежнева, а также Рудина и Липиной, которая намечалась во II и X главах плана. В результате глава X плана фактически отпадает.
Расширяются главы III, VI и XIV плана. Особое значение имеет переработка главы VI, куда Тургенев вносит рассказ Лежнева о кружке Покорского и о Рудине как об участнике этого кружка. Это дополнение появилось в одной из промежуточных редакций в середине ноября 1855 г., о чем свидетельствует Н. А. Некрасов в письме к В. П. Боткину от 24 ноября 1855 г. (см. об этом ниже).
В этом же письме Некрасов сообщает о работе Тургенева над концом «Рудина», которая нашла отражение во второй половине главы XII и в первой части эпилога, вероятно, написанных Тургеневым заново. 3 (15) декабря 1855 г. он извещал В. П. Боткина: «Я уже многое переделал в „Рудине“ и прибавил к нему. Некрасов доволен тем, что я прочел ему, – но еще мне остается потрудиться над ним. К 15-му числу, я надеюсь – всё будет кончено».
План последней главы – XIV, соответствующей в тексте романа XII, предусматривает «разговор о Рудине». Тургенев при переработке вводит происходящую одновременно с этим разговором в доме Лежнева короткую сцену на проезжей дороге, где изображается один из характерных моментов скитальческой одинокой жизни Рудина, и пишет заново эпилог, рисующий заключительную встречу Лежнева с постаревшим Рудиным в гостинице губернского города. Из рассказа Рудина своему старому товарищу читатель узнает о новой стороне жизни героя – его неудавшихся попытках общественной деятельности. Концовка (главы XII, не отраженная в плане, была, вероятно, написана, как эпилог, в Петербурге во второй половине ноября – первой половине декабря 1855 г. Такое предположение, исходя из сопоставления с планом, высказал впервые М. К. Клеман (см.: Т, Рудин, 1936,с. 441). Рудин в финале главы XII окончательного текста изображен уже не таким, каким он был в усадьбе Ласунской, а постаревшим, вступившим в новый период своей жизни: «пора его цветения, видимо, прошла». Эта сцена, как и эпилог, выдержана в одном и том же грустном тоне и служит переходным звеном от характеристики Рудина, сделанной Лежневым в главе XII, к образу Рудина в эпилоге.
В конце того же года Тургенев вновь пересматривает всю первую часть романа и дополняет главу III «импровизацией» Рудина – его речью в салоне Ласунской о необходимости «надломить упорный эгоизм своей личности» и рассказанной им «скандинавской легендой». Около 10–11 (22–23) декабря 1855 г. Тургенев писал Некрасову: «…„Рудина“ (1-ю часть) пришлю тебе сегодня же. Я теперь ее окончательно прохожу – прочти (я замечу страницу) импровизацию Рудина – и скажи, так ли, – исправить еще можно». Тургенев продолжал работать над романом и в корректуре (см. записку его к Некрасову от декабря 1855 – января 1856 г.), а впоследствии пересматривал, подготавливая каждое новое издание.
Такова внешняя история работы Тургенева над его первым законченным романом, от первого наброска плана в начале июня до завершения окончательного текста в середине декабря 1855 г. [93]93
Роман явился темой музыкального замысла, оставшегося, однако, неосуществленным. В середине 1864 г. А. Г. Рубинштейн, находясь в Баден-Бадене, где жил Тургенев, задумал написать оперу на сюжет «Рудина»; либретто для нее (по сообщению композитора в письме к матери от 27 мая (8 июня) 1864 г.) согласился писать сам Тургенев; была написана интродукция к опере, но затем Рубинштейн оставил эту работу, от которой до нас не дошло никаких материалов (см.: БаренбоймЛ. А. Г. Рубинштейн. Л., 1957. Т. I, с. 291).
[Закрыть]
Работая над «Рудиным» летом и осенью 1855 г., Тургенев называл его в письмах этого времени к И. И. Панаеву, В. П. Боткину, Н. П. Еропкиной, Н. А. Некрасову и др. «повестью», «большой повестью», «пребольшой повестью», иногда – «большой вещью». Вслед за Тургеневым, «повестью» (в отличие от «романа», т. е. «Двух поколений») называет «Рудина» и Некрасов в письмах, относящихся к осени 1855 г. (см.: Некрасов,т. X, с. 232, 249, 259). Но в печати Некрасов не раз в то же время определяет «Рудина» как роман. Так, в «Заметках о журналах за октябрь 1855 года», сообщив, что Тургенев «окончил и отдал уже нам новую свою повесть, под названием „Рудин“», он замечает: «…по объему это – целый роман» (там же, т. IX, с. 352; ср. с. 374); и в «Заметках о журналах за декабрь 1855 и январь 1856 года» он также говорит о «Рудине», «который назван автором повестью», но «более относится к области романа» (там же, т. IX, с. 382). С подзаголовком «Повесть» (Часть первая) роман был опубликован в январском номере «Современника» 1856 г.; без определения жанра он вошел в том же году в издание «Повестей и рассказов» Тургенева. Но, несомненно, сам Тургенев, как и Некрасов, отдавал себе отчет в том, что «Рудин» выходит из жанровых рамок повести; в Т, Соч, 1860он включил его в третий том вместе с «Дворянским гнездом» и «Накануне». Однако в трех последующих изданиях – Т, Соч, 1865, Т, Соч, 1869, Т, Соч, 1874– Тургенев, отделив «Рудина» от других романов, поместил его в одном томе с повестями 1850-х годов, и только в последнем авторизованном издании (Т, Соч, 1880)снова включил его, на первом месте, в число романов. Об этом было сказано в «Предисловии» ко всем шести романам, помещенном в третьем томе издания, где Тургенев писал: «Решившись в предстоящем издании поместить все написанные мною романы („Рудин“, „Дворянское гнездо“, „Накануне“, „Отцы и дети“, „Дым“ и „Новь“) в последовательном порядке, считаю нелишним объяснить, в немногих словах, почему я это сделал. – Мне хотелось дать тем из моих читателей, которые возьмут на себя труд прочесть эти шесть романов сподряд, возможность наглядно убедиться, на сколько справедливы критики, упрекавшие меня в изменении однажды принятого направления, в отступничестве и т. п. Мне, напротив, кажется, что меня скорее можно упрекнуть в излишнем постоянстве и как бы прямолинейности направления. Автор „Рудина“, написанного в 1855-м году, – и автор „Нови“, написанной в 1876-м, является одним и тем же человеком».
Перемена в жанровом определении, даваемом Тургеневым своему произведению, была вызвана отнюдь не только формальными основаниями, тем более – не была случайной. Замена понятия «повести» понятием «романа» диктовалась переработкой «Рудина» по существу, произведенной в конце 1855 года, расширением и углублением его общественно-исторических рамок, выходом за пределы индивидуально-психологической проблематики. С другой стороны, начатый в 1853 г. роман «Два поколения», с первых шагов задуманный в широкой, эпической, романной форме, затем временно оставленный, но в момент начала работы над «Рудиным» не окончательно брошенный, в жанровом смысле противопоставлялся замыслу «Рудина» как произведение иного типа. Отсюда и длительные колебания Тургенева в определении жанра «Рудина» и его места в творчестве 1850-х годов. Лишь значительно позднее, когда окончательно выработался и получил широкое признание новый тип романа – «тургеневский», «Рудин», сопоставленный с «Дворянским гнездом», «Отцами и детьми» и другими произведениями того же плана, занял место среди прочих романов Тургенева как равноправное с ними явление (см.: ЦейтлинМ. А. Развитие жанра в романах Тургенева «Рудин» и «Дворянское гнездо». – Уч. зап. Московскою обл. под. ин-та, т. LXXXV; Труды каф. русской лит-ры. М., 1960. Вып. 6, с. 205–240; МатюшенкоЛ. И. О соотношении жанров повести и романа в творчестве И. С. Тургенева. – В кн.: Проблемы теории и истории литературы. М., 1971, с. 315–326).
С переработкой, расширением и углублением рамок новой повести связано и изменение ее заглавия. П. В. Анненков, видевший черновую рукопись «Рудина», до нас не дошедшую, сообщает: «Повесть была первоначально озаглавлена: „Гениальная натура“, что потом было зачеркнуто, и вместо этого рукой Тургенева начертано просто: „Рудин“» (Анненков,с. 408).
Заглавие «Гениальная натура», по мнению некоторых современных исследователей [94]94
См.: КлеманМ. К. Иван Сергеевич Тургенев. Очерк жизни и творчества. Л.: ГИХЛ, 1936, с. 84; ПрохоровГ. В. Творческая история романа «Рудин». – Т сб (Бродский),с. 127; БялыйГ. А. Тургенев и русский реализм. М.; Л.: Сов. писатель, 1962, с. 70 и др.; по последнему предположению М. О. Габель, Тургенев отказался от первоначального заглавия романа в начале работы над ним в связи с появлением фельетона о «гениальной натуре» в панаевских «Заметках и размышлениях Нового поэта но поводу русской журналистики» (Совр,1855. № 5) – см. ее статью «Творческая история романа „Рудин“». – Лит Насл,т. 76, с. 19–20.
[Закрыть], должно было звучать иронически, и Тургенев заменил его более нейтральным «Рудин», устранив тем самым декларативную авторскую оценку своего героя. Это в основном справедливое мнение нуждается в уточнении: расширяя и углубляя в процессе работы перспективу своего произведения, Тургенев должен был естественно отказаться от субъективно-оценочной формулировки заглавия ради вполне объективной и безоценочной. Определение Рудина должно было быть не подсказанным читателю, но вложенным в существо его изображения, в его оценку другими персонажами.
«Рудин» в том виде, в каком он был задуман и осуществлен в Спасском в июне-июле 1855 г., т. е. в той редакции, основой которой является составленный тогда план, был дальнейшим развитием и своего рода итогом целого ряда образов, тем и проблем, воплощенных в повестях и рассказах, стихотворных и прозаических, созданных Тургеневым в предшествующее десятилетие (см.: БродскийН. Л. Генеалогия романа «Рудин». – Памяти П. Н. Сакулина, Сборник статей. М., 1931., «Никитинские субботники», с. 18–35). При этом надо учитывать, что «Рудин» вырастал не только из авторского литературного опыта. Первый роман Тургенева был органически связан многими своими сторонами с предшествующими русскими повестями и литературными очерками 1840 – 50-х годов. Очень близкие к «Рудину» образы и сюжетные мотивы – настолько близкие, что можно говорить о прямых реминисценциях – находятся в «нравственной повести» И. Панаева «Родственники» (Совр,1847, № 1, с. 1 – 69; № 2, с. 213–260; см. в названной статье Н. Л. Бродского с. 24–32; см. также в кн.: Русская повесть XIX века. Л., 1973, с. 259–425). Рассказ о герое, по своему психологическому облику близком к Рудину, содержался также в указанной выше статье Панаева «Заметки и размышления Нового поэта по поводу русской журналистики» (см. с. 473, примеч. 3).
Вырабатывая принципы сюжетно-композиционной и образной системы «Рудина», Тургенев опирался не только на опыт своих русских предшественников, но учитывал и традиционные формы европейского романа, в первую очередь романов Ж. Санд. Психологическая завязка любовного конфликта в «Рудине» напоминает любовный треугольник в «Opace» (1843) Ж. Санд (см.: КаренинВладимир. Жорж Санд, ее жизнь и произведения. СПб., 1899, с. 19–20).
Однако, заимствуя некоторые элементы сюжета своего первого романа у Ж. Санд, Тургенев вступил с французской писательницей в творческое соревнование, стремясь, по его словам, к «полной Истине» художественного воспроизведения действительности, отсутствие которой он усматривал в произведениях Ж. Санд (см.: БатютоА. Тургенев-романист. Л., 1972, с. 295, 303–310).
Роман «Два поколения», писавшийся в 1852–1853 годах, носил, как можно думать (см. наст. том, с. 530–531), характер бытовой и психологический, но ни один из его персонажей не воплотил в себе достаточно рельефно типических черт «лишнего человека». Между тем Тургенев чувствовал необходимость довести до конца обработку этой важной для русской жизни темы, подвести некоторые итоги и дать дворянскому интеллигенту-соврсменпику свою оценку. К этому побуждали его не только литературные соображения (в их чистом виде никогда не имевшие для писателя решающего значения), но, прежде всего, та общественная обстановка, которая сложилась ко времени формирования замысла «Рудина». Впоследствии – в «Предисловии» к собранию романов в Т, Соч, 1880– Тургенев указывал на то, что «Рудин» написан «в деревне, в самый разгар Крымской кампании» – и это указание имеет существенное значение: осада Севастополя глубоко волновала современников, видевших в ней предвестие исторического перелома; неожиданная смерть Николая I в разгар войны – 18 февраля ст. ст. 1855 г. – была тотчас истолкована в русском обществе как самоубийство, т. е. признание крушения всей системы тридцатилетнего царствования; Тургенев отозвался о смерти Николая, как «о потрясающем событии, которое занимает теперь все умы» (письмо к M. H. и В. П. Толстым от 25 февраля ст. ст. 1855 г.; см. статью Вл. Данилова «„Рудин“ И. С. Тургенева и Крымская война». – Русский филологический вестник, 1912, № 1–2, с. 81 – 102). Молодой Лев Толстой, несравненно менее, чем Тургенев, разбиравшийся тогда в политической обстановке, еще в первый период обороны Севастополя писал в своем дневнике 23 ноября 1854 г., что «Россия или должна пасть или совершенно преобразоваться» ( Толстой,т. 47, с. 31). Очень точно охарактеризовал атмосферу пробуждения всеобщей общественной активности в связи с севастопольской эпопеей Н. В. Шелгунов, который писал в своих воспоминаниях: «… Россия точно проснулась от летаргического сна < …> все чувствовали, что порвался какой-то нерв, что дорога к старому закрылась < …> после Севастополя все очнулись, все стали думать и всеми овладело критическое настроение…» ( ШелгуновН. В. Воспоминания. М.; Пг., 1923, с. 67–68).
С другой стороны, именно в это время – с весны 1855 г. – стало очевидно для Тургенева и его ближайших друзей (П. В. Анненкова, В. П. Боткина, А. В. Дружинина, Д. В. Григоровича) появление в литературе новой общественной силы и нового, материалистического мировоззрения, в лице вошедшего в редакцию «Современника» Н. Г. Чернышевского. Его диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности», ставшая известной Тургеневу в июле 1855 г., т. е. в период интенсивной работы над «Рудиным», была воспринята писателем как манифест этой новой общественной и философской силы, как отрицание всей системы сложившихся эстетических воззрений.
Все эти общественно-политические и литературные события побуждали Тургенева пересмотреть еще раз близкие ему образы дворянских интеллигентов. Теперь перед ним стояла задача не только дать объективную оценку «лишнему человеку», но и показать, как этот герой будет действовать в новых исторических условиях. Рудин – это первый тургеневский герой, вышедший на арену общественной борьбы, герой, вся жизнь которого проникнута стремлением быть полезным отечеству.
На первом этапе работы Тургенева над образом Рудина – в летние месяцы 1855 г. – писатель поставил перед собой для формирования образа своего героя определенный прототип – М. А. Бакунина. Это подтверждает поставленная в плане, вместо фамилии Рудина, буква «Б», указывающая на Бакунина как на его прообраз так же, как далее вместо имени Дарьи Михайловны было сначала написано: «Ал. Ос», что указывало на ее реальный прототип – А. О. Смирнову (см. с. 490–491). Сам Тургенев не отрицал наличия общих черт между Рудиным и М. А. Бакуниным – особенно в первой, написанной в Спасском, редакции романа. В письме к М. А. Маркович от 16 (28) сентября 1862 г. он писал: «Что за человек Бакунин, спрашиваете Вы? Я в Рудине представил довольно верный его портрет: теперь это Рудин, неубитый на баррикаде < …> Жаль его: – тяжелая ноша – жизнь устарелого и выдохшегося агитатора». В то же время Тургенев не считал образ Рудина копией с Бакунина (на это намекает он в письме к С. Т. Аксакову от 27 февраля (10 марта) 1856 г.: «Мне приятно < …> что Вы не ищете в Рудине копии с какого-нибудь известного лица…»). Некоторые черты Бакунина до его отъезда за границу в 1840 г. действительно присутствуют в образе Рудина (дар красноречия и «диалектики», т. е. умение спорить; философская одаренность и аналитический ум; интеллектуальное воодушевление при «холодности чувств» и отсутствии темперамента; стремление господствовать над сверстниками и вмешиваться в их личную жизнь и пр., вплоть до легкости, с которой тот и другой занимают деньги и живут на чужой счет); но основные из этих черт у Рудина представляют не индивидуальные свойства именно Бакунина, а типичны для целого круга «людей 40-х годов», представителем которого является Рудин [95]95
Вопрос о Бакунине как прототипе Рудина освещен в статье Н. Л. Бродского «Бакунин и Рудин». – Каторга и ссылка, 1926, № 5 (26), с. 136–169. См. также «Воспоминания» Н. Островской. – Т сб (Пиксанов), с. 95.
[Закрыть].
О Бакунине как прототипе Рудина упомянул, не называя ни его, ни самого романа и его героя, Н. Г. Чернышевский в статье 1860 года, напечатанной в «Современнике» и посвященной книге Натаниэля Готорна «Собрание чудес, повести, заимствованные из мифологии» (Чернышевский,т. VII, с. 440–453). Здесь, давая «Рудину» общую резко отрицательную оценку, Чернышевский отметил, что героем этой повести, «как по всему видно, следовало быть человеку, мало писавшему по-русски, но имевшему самое сильное и благотворное влияние на развитие наших литературных (т. е. общественно-политических – в иносказании Чернышевского) понятий, затмевавшему величайших ораторов блеском красноречия, – человеку, не бесславными чертами вписавшему свое имя в историю, сделавшемуся предметом эпических народных сказаний» (там же, с. 449). Но Тургенев, продолжает Чернышевский, задумав повесть, которая «должна была бы иметь высокий трагический характер», стал, под влиянием друзей-советников, «переделывать избранный им тип, вместо портрета живого человека рисовать карикатуру, как будто лев годится для карикатуры» (там же). Подробный рассказ о работе Тургенева над «Рудиным» именно в связи с отражением в образе героя живых черт Бакунина содержится в воспоминаниях Н. Г. Чернышевского, написанных по просьбе А. Н. Пыпина в 1880-х годах – почти через 30 лет после описываемых событий [96]96
См.: Чернышевский,т. I, с. 723–741. Ср. в комментариях Б. М. Эйхенбаума к «Рудину» – Т, Сочинения,т. V, с. 280–284, где собран материал, относящийся к вопросу о Бакунине как прототипе Рудина.
[Закрыть]. Рассказ этот находится в значительном противоречии с тем, что писал Чернышевский о заключительном этапе работы Тургенева над образом Рудина в 1860 году, но возможно, что в нем точнее переданы многие факты, чем в полемической статье, недаром вызвавшей возмущение Тургенева. Но, каковы бы ни были фактические перипетии работы Тургенева над своим романом осенью 1855 г. и переработки образа его героя под влиянием советов друзей [97]97
На одном из чтений «Рудина» в кругу друзей присутствовал Л. Н. Толстой. Его воспоминание об этом событии записал в своем дневнике В. Ф. Лазурский: «Я помню, Тургенев, – рассказывал Толстой, – произвел на меня сильное впечатление „Записками охотника“. Потом я слушал „Рудина“; он читал у Некрасова. Были тут Боткин, Анненков; все глубокомысленно обсуждали…» ( Лит Насл,т. 37–38, с. 450).
[Закрыть](о чем мы, за отсутствием рукописей, можем судить лишь по очень скупым косвенным данным), общая направленность этой переработки шла от более точного соответствия образа Рудина своему прототипу к уменьшению прямых черт сходства между Рудиным и Бакуниным и, следовательно, к большей обобщенности и большей исторической значимости образа героя романа.
Здесь имело свое значение и то обстоятельство, что в период обсуждения в дружеском кругу первой редакции «Рудина», осенью 1855 г., Бакунин, выданный русским властям австрийским правительством, был заключен в Шлиссельбургской крепости, и давать его сатирический, отрицательный портрет было бы несвоевременно и неуместно (об этом говорит, рядом прозрачных намеков, Чернышевский в своих воспоминаниях). Некоторые отрицательные черты – рудименты первоначальной памфлетной характеристики – в образе Рудина остались; на них указывал Чернышевский как в статье 1860 года, так и в позднейших воспоминаниях. Но эти черты приобрели другое значение – из памфлета на Бакунина они превратились в необходимые элементы критики «человека 40-х годов», каким его видел Тургенев в период завершения работы над романом, и уже очень отдаленно напоминали немногим знавшим обстоятельства дела читателям о прототипе Рудина.
Переработка романа, произведенная Тургеневым в октябре – декабре 1855 г., определялась не только советами друзей и соображениями, связанными с образом героя в его отношениях к прототипу – Бакунину, но и другими обстоятельствами, влияние которых отражается в дополнениях к роману сравнительно с его планом и первоначальной редакцией. Первым и главным из них явилась смерть Т. Н. Грановского (4 октября ст. ст. 1855 г.) и его похороны в Москве, 7 октября, на которых Тургенев присутствовал. Об огромном впечатлении, произведенном на него этой неожиданной смертью, Тургенев писал 11 (23) октября 1855 г. Некрасову и 16 (28) октября 1855 г. С. Т. Аксакову и отозвался на нее некрологической статьей, написанной через несколько дней, – «Два слова о Грановском. Письмо к редакторам „Современника“» (см. наст. том, с. 325).
Смерть Грановского должна была оживить в памяти Тургенева воспоминания о московских философских кружках второй половины 1830-х годов. В этих кружках сам Тургенев, как известно, не принимал участия, но знал о них от своих друзей, их бывших руководителей и участников, с которыми сблизился в 1838–1840 гг. в Германии и Италии, – Станкевича, Грановского, Бакунина, Ефремова, а также от московских своих друзей – Боткина и К. С. Аксакова. К сведениям о московских кружках присоединялись и личные впечатления от петербургского круга Белинского 1840-х годов. Отсюда – желание и сознание необходимости дать изображение того времени, когда сформировались характеры и воззрения как Рудина, так и Лежнева, т. е. стремление углубить образ Рудина и поставить его в историческую перспективу, отсутствовавшую, вероятно, в первой редакции романа. Некоторые черты Грановского прямо отразились в Рудине: Грановский, по словам Тургенева в его некрологической статье о нем, «владел тайною истинного красноречия» (наст. том, с. 327); Рудин, как сказано в главе III по поводу его рассказа-импровизации «о значении просвещения», «владел едва ли не высшей тайной – музыкой красноречия» (наст. том, с. 229). Ап. Григорьев, стоявший вне круга друзей Тургенева по «Современнику», признавал несколько позднее, что Рудин «напоминает манеры, приемы и целый образ одного из любимейших людей нашего поколения», т. е. Грановского ( ГригорьевАп. Собр. соч. / Под ред. В. Ф. Саводника. М., 1915. Вып. 10, с. 20) [98]98
Человека рудинского закала, одного из прототипов Рудина увидел в Грановском и М. Де-Пуле (см.: его рецензию на книгу А. В. Станкевича «Т. Н. Грановский», М., 1869. – СПб Вед,1869, № 161, 14 (26) июня).
[Закрыть]. Эти сопоставления отнюдь не означают, что Грановский мог быть прототипом Рудина. Но некоторые черты, присущие обоим, указывают на типичность последнего, на его обобщенно-историческое значение – тем более, что сцена импровизации Рудина и его «скандинавская легенда» введены Тургеневым, по-видимому, в процессе переработки романа осенью 1855 г.
В том же направлении углубления исторической основы романа шло произведенное в октябре – декабре 1855 г. расширение «Рудина» двумя значительными эпизодами: рассказом Лежнева о своей молодости и общении с Рудиным в кружке Покорского (в главе VI) и «Эпилогом», содержащим описание последней встречи Лежнева с Рудиным в губернской гостинице. К первому из этих эпизодов примыкает и разговор о Рудине между Лежневым, его женой, Басистовым и Пигасовым (в главе XII), намеченный в плане (гл. XIV) как заключение всего романа.
Эти добавления (и, очевидно, в особенности главу VI) имел в виду Некрасов, когда писал В. П. Боткину 24 ноября (6 декабря) 1855 г.: «А Тургенев славно обделывает „Рудина“. Ты дал ему лучшие страницы повести, натолкнув его на мысль развить студенческие отношения Лепицина и Рудина. Прекрасные, сердечно-теплые страницы – и необходимейшие в повести! Теперь Тург<енев> работает за концом <над эпилогом>, который также должен выйти несравненно лучше. Словом, повесть будет и развита и закончена. Выйдет замечательная вещь. Здесь в первый раз Тург<енев> явится самим собою – еще все-таки не вполне, – это человек, способный дать нам идеалы, насколько они возможны в русской жизни. Ты это сам увидишь, прочитав, каков теперь вышел Лепицин» (Некрасов,т. X, с. 259) [99]99
Фамилия Лепицина не упоминается ни в плане «Рудина», ни в каких-либо материалах о нем. М. К. Клеман в комментариях к редактированному им изданию «Рудина» (Т, Рудин, 1936,с. 440) объяснил фамилию «Лепицин» как «начальный вариант фамилии персонажа, планом не предусмотренного – Покорского»; текст письма, однако, показывает, что персонаж, названный Лепициным, уже существовал в романе до переработки и теперь только развит, – т. е. заставляет признать правоту других комментаторов, отождествляющих Лепицина с Лежневым.
[Закрыть].
Введение в роман рассказанного Лежневым эпизода, посвященного «славному времени» московского философского кружка середины 1830-х годов и изображению его главы – Покорского – внесло существенную перемену в концепцию «Рудина» и в его идейное значение. Тургенев взглянул на своих героев не как участник их жизни, но со стороны, создав вокруг них объективно осознанную атмосферу и оценивая их сущность и значение в исторической перспективе. Характерна в этом смысле коренная разница в изображении московского кружка – при одинаковости материала – в устах Василия Васильевича («Гамлет Щигровского уезда», 1848) и в устах Лежнева в романе, написанном семь лет спустя, в иных обстоятельствах. «Гамлет» относится к философским интересам и занятиям 1830-х годов с беспощадной иронией и полным отрицанием. Лежнев (и через него, в данном случае, сам автор) видит то положительное влияние, какое имели философские занятия и кружковые споры людей того же времени для формирования общественно-философских воззрений целого поколения. Соответственно переоцениваются и отдельные деятели этого интеллектуального движения и вводятся такие положительные его представители, как Покорский.
По признанию самого Тургенева, реальным прототипом Покорского был Н. В. Станкевич (см. в наст. томе «<Воспоминания о Н. В. Станкевиче>», с. 360). Несомненно, между ними есть много общего – ряд черт, сближающих их между собой: высокая моральная чистота, правдивость, большое личное обаяние, требовательность к себе и другим, активная любовь к людям, заинтересованность в них и способность на них воздействовать и нравственно перевоспитывать; сильный философский ум, увлечение немецкой философией (притом не ради ее самой, но в качестве орудия для осмысления жизни и построения ее согласно высоким этическим идеалам). Но, воссоздавая образ Покорского, Тургенев вносит в него и иные черты – черты человека, стремящегося к активной деятельности и даже к борьбе, свойственные скорее Белинскому (как понимал его сам Тургенев), чем склонному к созерцательности Станкевичу. Сходство Покорского с Белинским усиливается и социальной характеристикой Покорского – бедняка, студента-пролетария, что вовсе не свойственно принадлежавшему к барской среде Станкевичу (см. в статье Н. Л. Бродского «Белинский и Тургенев» – в сб.: Белинский историк и теоретик литературы. М.; Л., 1949, с. 337: «Покорский – образ не только Станкевича, но и Белинского…». «Можно думать, что вдохновенные страницы „Рудина“ о глубочайшем воздействии, которое оказывал кружок на его членов, были подсказаны Тургеневу впечатлениями петербургского кружка Белинского, обаянием личности главы кружка». См. также статью Н. Л. Бродского «Поэты кружка Станкевича». – Изв. отд. рус. яз. и слов. 1912, т. XVII, № 4). Тем самым устанавливается, с точки зрения переломного момента 1855 года, исторически прогрессивная и общественно нужная роль людей 1830 – 1840-х годов, сверстников и товарищей Рудина, а значит и его самого. Утверждается их ценность как людей с пробудившимся сознанием, пропагандистов «доброго слова», пробуждающих этим «словом» других – хотя бы Наталью и Басистова – последователей философской теории Гегеля, диалектику которого хорошо усвоил Рудин, умевший объяснить общую связь явлений, закон разумной необходимости и защищавший идеи общественного прогресса.