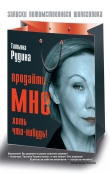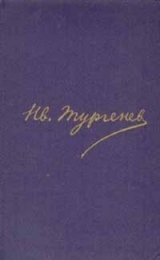
Текст книги "Том 5. Рудин. Повести и рассказы 1853-1857"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
Условные сокращения
Горбачева, Молодые годы, Т– Горбачева В. Н. Молодые годы Тургенева. (По неизд. материалам). Казань, 1926.
Станкевич, Переписка– Переписка Николая Владимировича Станкевича. 1830–1840 / Ред. и изд. Алексея Станкевича. М., 1914.
Стасюлевич– Стасюлевич M. M. и его современники в их переписке. СПб., 1911–1913. Т. I–V.
Т, Рудин, 1936– Тургенев И. С. Рудин. Дворянское гнездо. 2-е изд. М.; Л.: Academia, 1936.
Творч путь Т– Творческий путь Тургенева. Сборник статей под редакцией Н. Л. Бродского. Пг.: Сеятель, 1923.
Ausgewählte Werke– Iwan Turgénjew’s Ausgewählte Werke. Autorisierte Ausgabe, Mitau – Hamburg, E. Behre’s Verlag, 1869–1884.
Dolch– Dolch Oscar. Geschichte des deutschen Studententhums von der Gründung der deutschen Universitäten bis zu den deutschen Freihetskriegen. Leipzig, 1858.
Tagebücher– Varnbagen K.-A. Tagebücher, 1861–1905, Bd. I–XV.
Список иллюстраций
И. С. Тургенев. Фотография А. Бергнера, 1856 г. Фронтиспис.
«Переписка». Титульный лист рукописи, автограф, 1854 г. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук СССР, Ленинград
Титульный лист тетради с повестями И. С. Тургенева «Постоялый двор», «Два приятеля», «Яков Пасынков», автограф. Национальная библиотека, Париж
«Поездка в Полесье». Страница чернового автографа. Национальная библиотека, Париж
«Ася». Страница чернового автографа. Национальная библиотека, Париж
Собственная господская контора
Впервые опубликовано: Московский вестник, 1859, № 1, с. 8–12.
В собрание сочинений впервые включено: ТургеневИ. С. Полн. собр. соч. Третье изд. СПб., 1891. Т. X, с. 219–232.
Автограф неизвестен.
Печатается по тексту первой публикации.
Датируется 1852–1853 гг. – временем написания романа «Два поколения» (см. наст. том, с. 530). О том, что «Собственная господская контора» является отрывком из этого не дошедшего до нас произведения, свидетельствует не только подзаголовок («Отрывок из неизданного романа»), но и письмо Тургенева к П. П. Васильеву от 14 (26) июля 1870 г., в котором писатель сообщал: «…сколько я помню, был действительно помещен отрывок из сожженного мною романа под названием „Собственная господская контора“ в журнале < …>, издававшемся год или два в Москве под заглавием, если не ошибаюсь – „Московского вестника“».
Отрывку «Собственная господская контора» в плане романа «Два поколения» соответствует окончание первой главы первой части: «Г<агина> хочет заниматься. Переход в контору. Léon. Кинтильян. Гнев, неудовольствие. Требуется Васил<ий> Васильевич». На полях написано: «Конт<ора>» и «Эту главу на две»(см. наст. том, с. 353).
Обескураженный отрицательными отзывами о его романе «Два поколения» Н. X. Кетчера, В. П. Боткина и других своих друзей и знакомых (см. с. 531–533), Тургенев не собирался печатать даже отрывков из этого произведения. По-видимому, он просто уступил настоятельным просьбам редактора «Московского вестника» – H. H. Воронцова-Вельяминова, а также ближайших сотрудников – Н. А. Основского и И. В. Павлова, просивших Тургенева поддержать новое издание. Это подтверждается, в частности, письмом Тургенева к Е. П. Ковалевскому от 25 сентября (7 октября) 1858 г., в котором писатель сообщал, что участники «Московского вестника» ему «знакомые люди» и что он тоже «обещался участвовать в этом журнале». Во всяком случае некоторые сомнения Тургенев испытывал даже накануне выхода в свет первого номера «Московского вестника». 15 (27) февраля 1859 г. он писал И. В. Павлову: «Глава из моего брошенного романа, боюсь, несколько устарела – по крайней мере мне самому так показалось».
При ее появлении «Собственная господская контора» почти не вызвала печатных критических откликов. В объявлении «Московских ведомостей» о выходе в свет № 1 «Московского вестника» об этом отрывке из «неизданного романа И. С. Тургенева» лишь упоминалось (Моск Вед,1859, № 42, 18 февраля, с. 320). В «Заметках Нового поэта» сообщалось, что в литературном отделе первых двух номеров «Московского вестника» уже помещено «несколько небольших, но замечательных произведений», в частности «превосходный отрывок из неизданного романа И. С. Тургенева: „Собственная господская контора“» (Совр,1859, № 3, отд. III, с. 203). О выходе в свет пяти первых номеров «Московского вестника» писали «С.-Петербургские ведомости» (1859, № 64, 22 марта, с. 274), причем в числе других литературных произведений также указана была «Собственная господская контора». Позднее в фельетоне «Русская литература» той же газеты, подписанном буквами H. H., указывалось, что «Московский вестник» «замечателен блистательными именами своих сотрудников», из которых многие «украсили уже страницы журнала своими статьями». По мнению автора, «резче других выдаются своими достоинствами статья г. Оптухина < …>, рассказ г. Плещеева < …> и в особенности рассказ И. С. Тургенева „Собственная господская контора“ (отрывок из романа)» (СПб Вед,1859, № 117, 31 мая, с. 517).
Как уже упоминалось выше, в плане романа «Два поколения» (наст. том, с. 351) отрывку «Собственная господская контора» соответствует окончание первой главы первой части романа. Именно об этом окончании и об эпизоде из 7 главы первой части упоминал Анненков, когда писал Тургеневу 6 (18) июля 1853 г.: «Вы спрашиваете: цензурна ли, или нет ваша повесть <„Два поколения“>? И да, и нет – смотря по тому, что будет в целом. Если выйдет частность, случай, исключение – нет; если похожее на дело общее, на возможность существования во многих углах – да, принимая уже, разумеется, осторожность изложения в обоих случаях главным делом < …> Поэтому, сдается мне, барыня в своей конторе не будет пропущена, а барыня на прогулке будет пропущена, хотя в последней барыня гнуснее, и от нее более тошнит, чем от первой барыни» (Рус Обозр,1894, № 10, с. 491).
Основные персонажи отрывка «Собственная господская контора» значатся под теми же именами в перечне «Главных действующих лиц» плана романа «Два поколения». Это Глафира Ивановна (в плане указано, что ее фамилия – Гагина, возраст – 52 года, она вдова, богатая помещица). Об управляющем Василии Васильевиче в плане сообщается, что он также Гагин, что ему 44 года, он отставной штаб-ротмистр и двоюродный брат покойного мужа Глафиры Ивановны. Секретарь Левон (Léon) Иванов в плане фигурирует без фамилии, о нем сказано очень кратко: Léon, секретарь. Кинтилиан, главный приказчик, в плане назван управляющим и уточнен его возраст: 54 года (в «Собственной господской конторе» он – «человек лет пятидесяти с лишком»). Бурмистр Павел в плане романа назван Онисимом; о Суслике сказано, что это мальчик 15 лет. В разговорах этих действующих лиц упоминается Дмитрий Петрович (в плане романа указано, что он – сын Гагиной, поручик в отставке, 26 лет) и Аграфена (в плане романа – Аграфена Никитишна, главная служанка, 36 лет). Почти все эти персонажи входят также в список действующих лиц комедии «Компаньонка», задуманной Тургеневым еще в 1850 году (см. наст. изд., т. 2, с. 524, а также в этом томе, с. 351–352). Тематически отрывок «Собственная господская контора» связан с очерком «Контора» (1847), вошедшим в книгу «Записки охотника» (1852).
После чтения первой части романа (в 1853 г.) современники Тургенева в своих письмах к нему отмечали мастерство автора в создании образов Глафиры Ивановны и Василия Васильевича. Так, например, Анненков 12 (24) июня 1853 г. (письмо это ошибочно опубликовано с датой 1 июня) с удовлетворением отмечал, что «сама барыня – тип новый», который, «будучи разработан впоследствии, несомненно, сделается еще выпуклее и оригинальнее» (Рус Обозр,1894, № 10, с. 489–490). В. П. Боткин, который в целом отрицательно отнесся к первой части романа, отмечал в письме к Тургеневу от 18 (30) июня 1853 г. «яркое и несравненно сильнее всех нарисованное лицо Глаф<иры> Ив<ановны>» (Боткин и Т,с. 42). Относительно образа Василия Васильевича писали Тургеневу С. Т. и К. С. Аксаковы. Первый из них 4 (16) августа 1853 г. сообщал, что, по его мнению, «превосходны» «Глафира Ивановна < …> и Василий Васильевич»; в последнем он видел «истинный тип такого рода по преимуществу русских натур!» Из второстепенных лиц С. Т. Аксаков отмечал, между прочим, Леона и бурмистра, которые «очень хороши» (Рус Обозр,1894, № 10, с. 482). У К. С. Аксакова наибольшее сочувствие вызывал образ Василия Васильевича – лицо, которое «чуть ли < …> не лучше всех и написано» (там же, с. 484).
Характерно, что С. Т. Аксаков почувствовал жизненность, правдивость тех впечатлений Тургенева, которые легли в основу образа Глафиры Ивановны. В цитированном выше письме к Тургеневу от 4 (16) августа 1853 г. он высказывал такое мнение: «Глафира Ивановна в первых главах не могла быть сочинена; в ней есть такие черты, которые в действительности встретиться могут…» Далее С. Т. Аксаков подчеркивал, что «Глафира Ивановна в первых главах великолепна…» (Рус Обозр,1894, № 10, с. 482).
Отзыв С. Т. Аксакова интересен именно тем, что в нем подчеркнута «несочиненность» образа Глафиры Ивановны. Действительно, ее прототипом была мать писателя – Варвара Петровна Тургенева, о которой П. В. Анненков, лично ее знавший, писал: «Это была женщина далеко недюжинная и по-своему образованная», но «подверженная гонениям и оскорблениям в молодости, озлобившим ее характер, она была совсем не прочь от домашних радикальных мер исправления непокорных или нелюбимых ею подвластных. Сама она, по изобретательности и дальновидному расчету злобы, была гораздо опаснее, чем ненавидимые фавориты ее, исполнявшие ее повеления. Никто не мог равняться с нею в искусстве оскорблять, унижать, сделать несчастным человека…» (Анненков,с. 386–387). Сходство Гагиной с В. П. Тургеневой усиливается и тем, что своеобразная речь ее очень близка к слогу писем и дневников матери Тургенева (см.: Богдановы,с. 26).
Прототипом управляющего Василия Васильевича явился, по-видимому, дядя писателя, Николай Николаевич Тургенев, который при жизни В. П. Тургеневой в течение нескольких лет управлял Спасским-Лутовиновом. В детстве и в молодые годы Тургенев был очень привязан к Николаю Николаевичу, положение которого в доме матери писателя было нелегким, как и Василия Васильевича у Глафиры Ивановны.
Собственная господская контора. – О том, что в Спасском у В. П. Тургеневой комната, смежная с кабинетом, носила название «собственной барыниной конторы», упоминает В. Н. Житова в «Воспоминаниях о семье И. С. Тургенева» (Житова,с. 104).
…секретарь барыни, Левон Иванов – Léon… – Прототипом его был главный конторщик В. П. Тургеневой – Леон (Лев) Иванович Лобанов (см.: ПонятовскийА. И. Тургенев и семья Лобановых. – Т сб,вып. 1, с. 273–274).
Кроме Левона – Василий Васильевич… – В рукописи «Порядок в доме на 1848 год», принадлежавшей В. П. Тургеневой, читаем: «От 11-ти часов занимающиеся делами приходят без докладу к госпоже в контору и до 2-х часов идут занятия по конторе, донесения, доклады и проч.» (ИРЛИ,Р. II, оп. 1, № 451, л. 3 об.).
…дяди Глафиры Ивановны – свое имение… – В. П. Тургенева получила Спасское по наследству от своего дяди – Ивана Ивановича Лутовинова (см.: Житова,с. 23, 24).
…главный приказчик, Кинтилиан… – Это же имя носил управляющий конторой в имении В. П. Тургеневой. В одной из официальных бумаг, выданных «Спасской главной конторой» 8 ноября 1848 г., стоит подпись: «Управляющий конторой Кинтилиан Александров сын Саломин руку приложил». (Сообщил А. И. Понятовский.)
«12 июля 184* года – июля 11-го, во вторник… – В первой публикации месяц и день недели указаны ошибочно. Должно было быть: 12 и 11 июня и вместо вторника – понедельник. Это подтверждается сопоставлением данного текста с планом «Двух поколений» (см. наст. том, с. 351), где момент начала романа, соответствующий отрывку «Собственная господская контора», отнесен к 12 июня 1845 г., которое в том году приходилось на понедельник. Кроме того, на следующей странице текста «Собственной господской конторы» (с. 10), где речь идет о «Заметках барыни», Глафира Ивановна приказывает Левону прочитать то, что она ему вчера продиктовала, и он читает: «понедельник, 11-го июня». Ошибки могли попасть в печатный текст из рукописи, представленной Тургеневым в редакцию «Московского вестника», так как писатель нередко допускал такого рода неточности, в частности, в своих письмах.
…села Введенского… – Введенье – религиозный праздник, так же как и Спас. Очевидно, наименование селу здесь дано по ассоциации со Спасским – имением В. П. Тургеневой.
…барыня гремит четками… – В. П. Тургенева в письме от 24 августа (5 сентября) 1840 г. просила сына прислать ей «четки», «по коим» она намеревалась «молиться и < …> перебирать в руках» (ГПБ,ф. 795, № 93). Эта просьба повторена была ею и в письме к И. С. Тургеневу от 30 ноября (12 декабря) 1840 г. (там же).
…настоящий управляющий – мне надо… – В. Н. Житова вспоминает, что В. П. Тургеневу тревожили «поиски главного управляющего над всеми имениями. С Николаем Николаевичем Тургеневым, своим деверем, она примириться не хотела…» (Житова,с. 100–101). Об этом же свидетельствует письмо В. П. Тургеневой к И. С. Тургеневу от 24 апреля (6 мая) 1843 г., в котором она писала сыну: «Я говорю очень просто и внятно. Что я, оставшись вдовою от отца вашего, могла бы не иметь деверя, живущего в доме и управляющего всем – и что же бы? Пропала что ли? – не пропала бы, взяла бы управителя < …> как и все вдовы. Почти ни у кого нет деверьев управляющими, все они с невестками не ладят» ( ГПБ,ф. 795, № 96). См. так же: ЗабороваР. Б. Тургенев и его дядя H. H. Тургенев. – Т сб,вып. 3, с. 226–227.
Сказать матерям – откупиться… – По словам В. Н. Житовой, в Спасском также были «свой оркестр, свои певчие, свой театр с крепостными актерами…» (Житова,с. 25). Д. Н. Мамин-Сибиряк в историческом очерке «Город Екатеринбург» рассказывает о том, что антрепренер Соколов для первой труппы, игравшей в этом городе, сумел «законтрактовать в имении Тургеневых (Спасское-Лутовиново) человек пять девочек-подростков, обученных в домашней театральной школе < …> Приобретение Соколова оказалось вообще очень удачным, и ученицы крепостной театральной школы оказались прекрасными актрисами, так что впоследствии пришлось заплатить за их выкуп на волю матери великого писателя И. С. Тургенева очень дорого, и эти деньги были собраны в Екатеринбурге» ( Мамин-СибирякД. Н. Собр. соч. в 12-ти т. / Под ред. Боголюбова Е. А. Свердловск, 1951. Т. XII, с. 273; см. также: ГромовВ. А. Судьба одной артистки. – Орловский комсомолец, 1962, № 186, 19 сентября).
…вдовьим участком или опридчим… – Опридчий (участок) – по-видимому, местное (орловско-курское) произношение старорусского термина – опричнины, т. е. вдовьей части, выделенной по наследству. Ср. у В. О. Ключевского в т. 2 «Курса русской истории»: «Княгини – вдовы < …> получают от князей – завещателей, мужей своих < …> опричнины,т. е. владения, принадлежавшие им вполне…» ( КлючевскийВ. О. Соч. в 8-ми т. М., 1957. Т. II, с. 30). В. П. Тургенева также называла свою часть имения «вдовьей» в письме к сыну от 24 апреля (6 мая) 1843 г. (ГПБ,ф. 795, № 96). Подробнее см.: Лексикологические заметки к текстам Тургенева. 21. Опридчий (автор – М. А.). – Т сб,вып. 5, с. 339–340.
Опять Василий Васильевич – невыносимо! – Отношение Глафиры Ивановны к Василию Васильевичу и его деятельности в качестве управляющего чрезвычайно напоминает отношение В. П. Тургеневой к H. H. Тургеневу. 10 августа ст. ст. 1844 г. В. П. Тургенева писала М. М. Карповой: «… всё еще плохо моя контора меня слушает, всё еще я второе лицо, а как прикажет Ник<олай> <(иколаевич>. Странное дело, я почти всех зубов своих лишилась – но! один безобразит меня, стоит как кол. Сколько его ни качаю, не трогается, а вырвать не имею силы. Точно так и Ник<олай> Н<иколаевич> – не могу достичь поставить его на свое место, т. е. мужчина в дому, как соль, хотя эта соль непромытый бузун» (ИРЛИ,Р. I, оп. 29, № 15, л. 30).
Вошел Суслик. – В. Колонтаева в «Воспоминаниях о селе Спасском» упоминает о том, что «в услужении у Варвары Петровны состояли < …> мальчики, обязанности которых не были строго определены, но которые состояли, как говорится, „на побегушках“» (ИВ,1885, № 10, с. 51). Упомянут также в числе действующих лиц в плане романа «Два поколения» (наст. том, с. 352).
Переписка
Источники текста
Переписка. Повесть. Черновой автограф. Хранится в рукописном отделе ИРЛИ,ф. 93, оп. 3, № 1261.
Отеч Зап,1856, № 1, отд. 1, с. 1 – 28.
Т, 1856,ч. 3, с. 3 – 50.
Т, Соч, 1860–1861, т. III, с. 114–145.
Т,Соч, 1865, т. III, с. 153–189.
Т, Соч, 1868–1871,ч. 3, с. 153–188.
Т, Соч, 1874,ч. 3, с. 155–188.
Т, Соч, 1880,т. VII, с. 89 – 124.
Т, ПСС, 1883,т. VII, с. 95 – 133.
Впервые опубликовано: Отеч Зап,1856, № 1, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 1 января 1856 г.).
Печатается по тексту Т, ПСС, 1883.Выбор источника текста определен указанием Тургенева в письме от 14 (26) декабря 1882 г. А. В. Топорову, занимавшемуся делами издания: «Вместе с этим письмом отправляется VII (7-й) исправленный том». Речь идет о томе VII последнего прижизненного издания сочинений писателя.
По другим источникам в текст, взятый за основу, внесены следующие исправления:
Стр. 29, строка 30:«и не могу себе представить» вместо «не могу себе представить» (по всем источникам до Т, Соч, 1874).
Стр. 34, строка 22:«Он рассказывает» вместо «Он рассказывал» (по всем источникам до Т, Соч, 1874).
Стр. 40, строки 33–34:«беспрестанно вздрагивать» вместо «постоянно вздрагивать» (по всем источникам до Т, Соч, 1880).
Стр. 41, строка 32:«на мое безалаберное» вместо «на безалаберное» (по всем другим источникам).
Стр. 42, строки 10–11:«тянулись чуть зыблясь по темному морю» вместо «тянулись по темному морю» (по черновому автографу, Отеч Зап, Т, 1856, Т, Соч, 1860–1861, Т, Соч, 1865).
Стр. 47, строка 17:«каким мы ее» вместо «как мы ее» (по всем другим источникам).
Рукопись чернового автографа «Переписки» ( ИРЛИ) содержится в двух тетрадях (в первой – 14 листов, во второй – 6).
На первом листе рукою Тургенева написано: «Perepiska. Переписка. Издано Т. 1844». На этом же листе зачеркнута первоначальная надпись: «Первый акт Д. Жуана». Весь лист испещрен беспорядочными, большей частью зачеркнутыми надписями и рисунками. На 13 л. об. в левом верхнем углу рукою Тургенева вписана генеалогия, подробно раскрывающая родственные отношения двух лиц: Семена и его жены Марфы. По всей вероятности, эта развернутая генеалогия связана с каким-то неизвестным и неосуществленным замыслом Тургенева.
На первом листе второй тетради написано: «Переписка. Кончена 8-го декабря 1854. – (начата в 1844!!!)» [83]83
Важнейшие варианты чернового автографа «Переписки» см.: Т сб,вып. 2, с. 61–70.
[Закрыть].
Таким образом, начало работы над повестью отделено от момента ее завершения десятилетним периодом.
Почерк и цвет чернил позволяют утверждать, что Предисловие, I, II и часть III письма (кончая словами: «я не вижу никакого выхода из моего положения») написаны одновременно, судя по указанию Тургенева – в 1844 г.; окончание III, IV, V и начало VI письма (кончая словами: «да винить-то нас все-таки нельзя») написаны в следующий, но, очевидно, не очень отдаленный по времени этап работы. Вероятнее всего, работа над этими письмами велась в конце 1849 – начале 1850 г., так как 10 (22) января 1850 г. Тургенев писал А. А. Краевскому:
«Кстати, говорил я Вам об одной небольшой вещице под названьем „Переписка“? – Я вам и ее могу выслать». И в другом письме к тому же адресату, от 23 марта (4 апреля) 1850 г.: «Зато я Вам предлагаю, кроме моей благодарности < …> статью под назвапием „Переписка“, которую я либо вышлю Вам до отъезда, либо привезу сам…»
Окончание VI и VII письмо писались в апреле 1852 г., так как на 7 л. имеется авторская помета: «Ап<рель> 1852», а на 8 л. на полях написано рукою Тургенева: «Муму. – Переписка» (рассказ «Муму» написан в 1852 г.).
Кроме того, в письме к И. С. Аксакову от 28 декабря 1852 г. (9 января 1853 г.) Тургенев писал: «Уединение, в котором я нахожусь, мне очень полезно – я работаю много – и, кроме „П<остоялого> д<вора>“, написал первые три главы большого романа и еще небольшую вещь под названием „Переписка“». О «Переписке» как о повести, близкой к завершению, писал Тургеневу в том же 1852 г. Н. А. Некрасов (см. письмо от 21 октября (2 ноября) 1852 г. – Некрасов,т. X, с. 180).
Начиная от слов в VII письме: «А он? Ищите его!» – текст повести писался отдельными отрывками, в расположении которых не всегда соблюдена последовательность.
По первоначальному замыслу всех писем должно было быть четырнадцать. На 1 л. об. Тургенев записал их номера столбиком и, начиная с VII, рядом с номером кратко обозначал содержание каждого письма. В ходе работы Тургенев изменил номер XI письма на XIV; письма XI и XII (окончательной пагинации) содержатся в меньшей из двух тетрадей рукописи и являются, по всей вероятности, позднейшими вставками. Всё это дает основание утверждать, что общее количество писем определилось только на последнем этапе работы Тургенева над «Перепиской», т. е. в 1854 году.
Таким образом, в работе Тургенева над «Перепиской» отчетливо прослеживаются по крайней мере четыре этапа, которые можно датировать 1844, 1849–1850, 1852 и 1854 годами (см.: ГромовВ. А. «Переписка». – Т сб,вып. 1, с. 240–243).
Первоначальный замысел «Переписки» тесно связан с художественными и идейными поисками Тургенева, относящимися к середине 1840-х годов, в частности с его первой повестью «Андрей Колосов» (1844) и со статьей-рецензией о «Фаусте» Гёте (1845; см.: наст. изд., т. 1 и 4). В художественном отношении Алексей Петрович – это образ, в котором развиты характерные черты психологического облика рассказчика из «Андрея Колосова». Алексей Петрович – это «лишний человек». В дальнейшем «лишний человек» по-разному варьировался на протяжении всего творчества Тургенева. Герой же типа Андрея Колосова, умеющий разумно и точно определять свое место в жизни, не привлекал внимания писателя вплоть до создания образа Инсарова в «Накануне» (1860).
Идейно-философские поиски Тургенева, во многом определявшиеся близким общением с Белинским, выразились в «Переписке» в стремлении автора вскрыть причины, порождавшее «лишних людей», и в страстном призыве жить действительной реальной жизнью, а не отвлеченными идеалами, выработанными в искусственной изолированности от повседневного человеческого бытия. К острой постановке этой проблемы Тургенева побуждали недавнее увлечение немецкой идеалистической философией и как отзвук этого увлечения – «философический роман» с Татьяной Бакуниной ( БродскийН. Л. «Премухинский роман» в жизни и творчестве Тургенева. – В кн.: Центрархив, Документы,с. 107–121), а также несомненное воздействие Белинского, который в 1840-х годах объявил в своих статьях непримиримую войну «идеалистическому романтизму» во всех его проявлениях (см.: Русская повесть XIX века. Л., 1973, с. 269–270).
Анализ рукописи приводит к выводу, что в процессе работы над повестью первоначальный замысел ее усложнялся и расширялся в соответствии с новыми проблемами, волновавшими Тургенева. Так, в письмах, работа над которыми велась в 1849 – 1850-х годах, одновременно с созданием «Дневника лишнего человека», Тургенев уделил много внимания размышлениям Алексея Петровича над смыслом жизни и смерти. Эти же мысли волновали и героя «Дневника лишнего человека» (1850; см.: наст. изд., т. 4).
В начале 1850-х годов Тургенев неоднократно возвращался к раздумьям об участи русской дворянской интеллигенции. По его мнению, ее трагическая судьба определялась исторической судьбой русского народа. Он писал К. С. Аксакову 16 (28) октября 1852 г., что видит «трагическую судьбу племени» и понимает смысл «великой общественной драмы», разыгравшейся в современном русском обществе. В тех частях «Переписки», которые писались в самом начале 1850-х годов, Тургенев также говорил о том, что «обстоятельства» «определяют» участь людей (с. 26) и что в современном обществе не одни Марья Александровна и Алексей Петрович находятся в трагическом положении (с. 37). Трагическая судьба – типическое явление русской жизни. В ходе осуществления первоначального замысла значительно усилилось трагическое восприятие Тургеневым любви. Любовь представляется теперь Тургеневу как сила стихийная, являющаяся одним из проявлений извечных законов природы, над которыми человек не властен и которые являются для него одновременно источником и радости и страдания (см.: БялыйГ. А. Тургенев и русский реализм. М.; Л.: Советский писатель, 1962, с. 95–99).
Впервые эта мысль была развита Тургеневым в «Петушкове» (1847) и затем в «Трех встречах» (1852).
Тургенев много размышлял над «Перепиской» и всякий раз, возвращаясь к работе над ней, правил куски, написанные ранее (об этом свидетельствует цвет чернил и позднейшая карандашная правка).
Наибольшей правке подверглись страницы рукописи, посвященные главному герою – Алексею Петровичу. Необходимо подчеркнуть, однако, что основные психологические черты облика героя, намеченные еще в 1844 году, не изменились.
В первоначальном варианте Тургенев уделял значительно больше внимания раскрытию индивидуалистической рефлексии героя. В окончательном тексте он вычеркнул несколько таких мелочных саморазоблачений Алексея Петровича. Так, в черновом автографе после слов: «и тешилось мое дрянное самолюбие» (с. 25) было: «Я, кажется, добился наконец смирения и перестал воображать себя средоточением вселенной. Каждый человек самому себе дорог и до конца жизни собой не налюбуется; но многие люди (и первый я, грешный) сверх того еще одарены страстью сообщать другим все свои впечатления. Они с таким умилением, так нежно, томно, снисходительно, так аппетитно рассказывают вам о своих привычках, даже странностях, даже слабостях, как будто никто – разве уж какой-нибудь самый ограниченный и завистливый чудак – не может не принимать живейшее участие в их рассказах. „Я всегда по утрам пью зельтерскую воду; у меня, знаете ли, по утрам не совсем хороший вкус во рту бывает; и ведь странное дело! Спрашивал я у докторов: отчего бы это“?» Вместо: «больше одним – торжество убеждения» (с. 27) в черновом автографе читаем: «больше одним из тех ничтожных существ, в которых привычка, дошедшая до бессознательности, отравляет самое стремление к истине, молодость безобразно слита с старостью, раздражительность живет рядом с жалким лукавством, обессиленной мысли не знаком покой естественной деятельности, как не знакомы ни искренняя радость, ни искреннее страдание, ни искреннее удовлетворение действительных убеждений».
Не сразу были найдены нужные слова и в том месте повести, где Тургенев раскрывал причины, сделавшие героя «лишним человеком». Первоначально Тургенев больше внимания уделял раскрытию объективных причин, обусловливающих появление «лишних людей». В соответствии с этим в черновом автографе после слов: «определенного направления» (с. 27) – было начато: «Постановленные с самого начала в ложное положение, преданные в жертву глубокому противуречию…» Но потом, сосредоточив выяснение социальных предпосылок, делающих возможным существование «лишних людей», в начале VI письма, Тургенев развил мысль о нравственной ответственности каждой личности за свою судьбу. После слов: «… нельзя же требовать от каждого, чтоб он тотчас понял бесплодность ума, „кипящего в действии пустом“» – было: «и не по природному влечению, а по выбору посвятил себя чему-нибудь дельному [науке] – врожденная любовь к своей „личности“ торжествует».
Значительной правке, притом позднейшей, подвергся отрывок VI письма, где герой размышляет о смысле прожитой им жизни (с. 25–26). В первоначальном варианте это рассуждение заканчивалось определением смерти, сделанным в материалистическом духе. Алексей Петрович писал там: «Молодость моя прошла, и как тому прохожему на горе мне всё видно назади, да и впереди мерещится многое, о чем живому теплому телу, не разложенному еще на первобытные земли и соли – вспоминать очень жутко».
В первоначальном варианте повести был указан также возраст героя – «лет под тридцать», в окончательном тексте о его возрасте ничего не сказано.
Не менее тщательно работал Тургенев и над образом героини повести Марьи Александровны.
Высказана была точка зрения, что изображение «философического романа» с Татьяной Бакуниной претерпело в творчестве Тургенева некую эволюцию от сатирического образа старой девы-философки в рассказе «Татьяна Борисовна и ее племянник» (1847) до образа Марьи Александровны в «Переписке» (см.: КрестоваЛ. В. Т. А. Бакунина и Тургенев. – Т и его время,с. 48–49). В действительности же образ Марьи Александровны задуман Тургеневым раньше, чем был написан рассказ «Татьяна Борисовна и ее племянник». Характеристика героини «Переписки» в трагическом аспекте ясна уже из второго письма, написанного Тургеневым в 1844 г. К особенной точности и ясности художественного воплощения своего замысла Тургенев стремился в письме IX, где раскрывается истинная сущность облика героини, подвергавшейся преследованиям со стороны обывательской среды, ее окружавшей.
Возможность изображепия героини-«философки» почти одновременно в двух различных аспектах (трагическом в «Переписке» и комическом в «Татьяне Борисовне и ее племяннике») объясняется тем, что и в реальных «философках», типичной представительницей которых была Татьяна Бакунина, Тургенев видел и положительные и отрицательные стороны, так же, впрочем, как и в «лишних людях». Нужно также принять во внимание то обстоятельство, что повесть заканчивалась Тургеневым в 1854 году, когда он, живя на даче под Петергофом, общался с О. А. Тургеневой и задумывался о возможной женитьбе на ней. Исследователи уже отмечали, что в XI письме, которое, как сказано выше, является позднейшей вставкой, отразились некоторые реальные факты биографии Тургенева, а образ героини, Марьи Александровны, дополнился чертами, характерными для О. А. Тургеневой (см.: Истомин,с. 113; НазароваЛ. Н. Тургенев и О. А. Тургенева. – Т сб,вып. 1, с. 296–297).
В черновой рукописи героиня названа Марией Павловной. Очевидно, только готовя повесть к печати, Тургенев заметил, что в «Затишье» героиня названа этим же именем, и заменил его на «Марья Александровна». Отчество, вероятно, было также выбрано с намеком на Ольгу Александровну Тургеневу.
Черновой автограф «Переписки» позволяет сделать вывод, что в первоначальном варианте автобиографический элемент в повести присутствовал еще в большей степени.
Так, в первом варианте Тургенев прямо указал, что Марья Александровна писала письма из села Ш., что легко расшифровывается как село Шашкино (Мценского уезда, Орловской губернии), где в 1842 г. гостила Татьяна Бакунина и где протекал ее «философский роман» с Тургеневым.