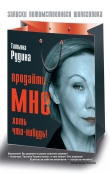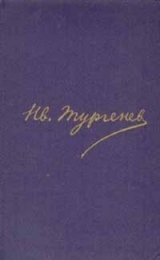
Текст книги "Том 5. Рудин. Повести и рассказы 1853-1857"
Автор книги: Иван Тургенев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 40 страниц)
Точно так же в первом варианте портрет-танцовщицы, которую полюбил герой, ассоциировался с внешним обликом Полины Виардо. В первоначальном тексте у героини были вместо золотисто-пепельных – черные волосы, вместо светлых – черные глаза и говорила она на ломаном испанско-французском наречии (намек на испанское происхождение П. Виардо).
Как всегда, значительной правке в рукописи подверглись пейзажи – русский и итальянский. При этом правка, как правило, вела к развитию и уточнению художественного образа. Так, например, в окончательном тексте о ручье, бегущем по долине, сказано: он «едва может пробраться сквозь густые травы и цветы…» (с. 43), а в первоначальном варианте было: он «едва пробирается сквозь спутанную зелень».
Через всю черновую рукопись проходит двоякое написание: «философка» и «филозофка». При этом «филозофкой» героиня называлась только в тех случаях, когда это определение употреблялось ее врагами в ироническом смысле (см. с. 34, 35, 42). В журнальном тексте «Отечественных записок» этот оттенок не соблюден.
Закончив работу над черновой рукописью «Переписки» 8 (20) декабря 1854 г., Тургенев обратился к Е. А. Черкасской с просьбой помочь ему найти переписчика. 17 (29) января 1855 г. он ей писал: «Любезная княгиня, у меня есть до Вас покорная просьба – мне моя „Переписка“ непременно нужна завтра к обеду – то сделайте одолжение, распорядитесь так, чтобы она была готова завтра часа – в 2 часа, а я за ней зашлю или сам заеду…».
Несмотря на то что еще в 1850 г. Тургенев обещал «Переписку» А. А. Краевскому для «Отечественных записок», он отдал ее в «Современник» Некрасова и уже в начале февраля ст. ст. 1855 г. получил ее корректуру. Об этом мы узнаем из письма Тургенева к M. H. и В. П. Толстым, которым он писал 8 (20) февраля 1855 г.: «…корректуру „Переписки“ отдайте Боткину – когда он за нею явится».
По неустановленным причинам «Переписка» не появилась в ближайшем, мартовском номере «Современника», и только в конце мая И. И. Панаев представил повесть на рассмотрение и одобрение цензору В. Н. Бекетову. 3 (15) июня 1855 г. И. И. Панаев писал Тургеневу: «…я должен сказать тебе, что показывал твою „Переписку“ Бекетову, и он пропускает всё, – только выкидывает безделицу!! – последнее письмо за слишком резкий его тон < …> Актрису, говорит, любить нехорошо, или об такой любви не надо говорить с увлечением < …> Что будешь делать?.. А я, признаюсь, посягал на „Переписку“, зная, что от тебя не скоро добьешься чего-нибудь» ( Лит Насл,т. 73, кн. 2, с. 108). И, не дождавшись ответа от Тургенева, вторично писал о том же 15 (27) июня 1855 г.: «Не переделаешь ли ты последнее письмо в „Переписке“ – и в таком случае можно бы ее печатать < …> Как ты думаешь?.. Если у тебя нет „Переписки“, я тебе пришлю корректуры с отметками Бекетова» (там же).
В архиве Петербургского цензурного комитета не сохранилось никаких документов, раскрывающих цензурную историю «Переписки», точно так же, как неизвестна и корректура повести с пометами цензора В. Н. Бекетова, о которой писал И. И. Панаев. Тургенев категорически отказался что-либо переделать в «Переписке» и, пользуясь этим предлогом, передал повесть А. А. Краевскому. Он писал по этому поводу И. И. Панаеву 13 (25) июня 1855 г.: «Я должен тебе сказать, что я рад отказу Бекетова; если б он пропустил „Переписку“ – и она бы у вас явилась, – я был бы поставлен в весьма ложное и неприятное положение к Краевскому, которому эта повесть – пока – принадлежит».
«Переписка» была опубликована без каких-либо изменений в первом номере «Отечественных записок» за 1856 г. В том же году «Переписка» была включена Тургеневым в третью часть «Повестей и рассказов». При подготовке повести для перевода в издании 1858, ScènesТургенев в последнем, XV письме дописал абзац, который и был впервые опубликован во французском переводе. Здесь после слов: «потому что умираю рабом» («…car je meurs esclave») – вставлено: Admirez up peu mon sort. Dans ma jeunesse, je voulais escalader le ciel et y trouver Dieu; puis j’ai rêvé le bien du genre humain, celui de la partie; puis je me suis résigné à m’arranger une vie d’intérieur; et voilà qu’une vile taupinière m’a jeté par terre; que dis-je? dans la tombe. Ah! quel talent particulier nous avons pour finir ainsi, nous autres Russes! (c. 262; русский текст см. на с. 47: «Экая, как подумаешь – кончать таким манером»).
По неизвестным причинам этот абзац не вошел в издание Т, Соч, 1860–1861и был включен в русский текст повести только в 1865 г., но – вероятно, по цензурным условиям – без слов «et y trouver Dieu» (в русском тексте должно было быть: «В первой молодости я непременно хотел завоевать себе небо и найти там бога»). Во всех последующих изданиях своих сочинений Тургенев печатал «Переписку» без изменений, с несколькими малозначительными стилистическими поправками.
«Переписка» сразу же после опубликования ее в первом номере «Отечественных записок» за 1856 г. привлекла внимание критики.
«Московские ведомости» первые известили своих читателей о выходе в свет новой повести Тургенева. В обзоре, посвященном первым книжкам русских журналов за 1856 г., рецензент писал: «Замечательный талант г. Тургенева известен всем и каждому, и мы не будем распространяться о новой его повести. Скажем только, что она отличается тою же тонкостию анализа, тою же изящною отделкою, которые у г. Тургенева никогда не переходят в излишество и доставили ему заслуженную и громкую известность» (Моск Вед,1856, № 10, 24 января). Вслед за «Московскими ведомостями» «Переписке» Тургенева посвятили небольшую рецензию «С.-Петербургские ведомости». В. Р. Зотов, охарактеризовав героя новой повести Тургенева, с особым вниманием отнесся к ее героине. Рецензент подчеркнул незаурядный ум Марьи Александровны, сильное чувство, блестящее воображение, «энергию воли и характера». Он, однако, не уловил идейно-художественную концепцию «Переписки» и потому писал, что повесть имеет неоправданный конец. Он так обосновывал свою точку зрения: «Однажды узнавши эту женщину (Марью Александровну), к другой можно было почувствовать только минутную прихоть, простое увлечение. Гораздо натуральнее было разочароваться в самой Марье Александровне, свидевшись с нею, найдя, что в жизни она совсем не та, как на бумаге: на мысли и на чувства так же легко надеть маску, как и на лицо. Я даже думал, что рассказ кончится именно таким образом, но автор дал ему другой оборот, развязал трагически эту маленькую драму сердца; на это у г. Тургенева были, конечно, свои причины, и драма, даже в таком виде, производит сильное впечатление» ( СПб Вед,1856, № 30, 7 февраля).
Более глубокое суждение о «Переписке» содержалось в обзорной статье «Библиотеки для чтения» (1856, № 2, Журналистика). Автор обозрения первых книжек журнала за 1856 г. А. И. Рыжов (см.: ЕгоровБ. Ф. Критическая деятельность А. И. Рыжова. – Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, № 65, 1958, с. 76–77) писал, что Тургенев в своей новой повести «очерчивает характер еще одного современного человека и характер девушки». По его мнению, герой повести – «это личность, погибшая от анализа, несмотря на присущие ей условия светлой и даже страстной жизни». Рецензент в заключение сделал вывод, что «Переписка» является «шагом вперед» на пути овладения ее автором «положительным светлым лиризмом» (Б-ка Чт,1856, № 2, с. 71, 72).
После выхода в свет «Повестей и рассказов» И. С. Тургенева в 1856 г. критики еще раз высказали свое мнение о «Переписке», сопоставляя ее теперь с другими произведениями писателя, вошедшими в это издание.
А. В. Дружинин в статье, посвященной анализу творчества Тургенева в связи с появлением первого издания его сочинений, писал, что герой «Переписки», Алексей Петрович, «имеет кое-что сходное с личностями, на изображении которых столько раз останавливался г. Тургенев в последние года своей деятельности» (Б-ка Чт,1857, № 5, отд. V, с. 29). По определению Дружинина, Алексей Петрович – это «больное дитя современного общества» (там же, с. 33), страждущее, подобно многим из предшествовавших героев Тургенева, «недугом воли». Причину страданий героя, который сам по себе «хороший и достойный», «правильно развитый по уму и сердцу» (там же, с. 32), Дружинин видел в том, что у Алексея Петровича отсутствовали нравственная энергия и сознание долга.
Что касается художественной формы «Переписки», то Дружинин считал ее наиболее соответствующей характеру дарования Тургенева. Он писал: «…письменная, или, как говорилось в старину, эпистолярная,манера повествования дается г. Тургеневу легче всякой другой манеры. Она дает простор мысли и лиризму, она легче допускает импровизацию, наконец, она не требует той объективности в изображении лиц, к которой мы так привыкли за последнее время» (там же, с. 34).
С. С. Дудышкин в своей статье о «Повестях и рассказах» И. С. Тургенева причислил героя «Переписки» к разряду «лишних людей» и в его характеристике исходил, как и в характеристике Веретьева (см. комментарии к «Затишью», наст. изд., т. 4), из мысли о необходимости «деятельности» и «примирения с жизнью». Дудышкин отмечал, что Тургенев, изображая Алексея Петровича, сделал, с его точки зрения, шаг вперед на пути «разоблачения» «лишних людей». Он писал: «Виной тому, что этот господин сделался лишним, не одна пошлость жизни, не одно общество, не одни люди – нет, и сам этот милый идеал начинает являться с слабой стороны. Уже автор казнит его» (Отеч Зап,1857, № 1, отд. II, с. 17). Дудышкин считал «Переписку» «лучшим и полнейшим произведением» Тургенева, свидетельствовавшим, что ее автора больше не интересовали «игра в страсти» и поиски «сильных ощущений». Однако и в «Переписке», утверждал Дудышкин, Тургенев не обнаружил «полного понимания жизни» (там же, с. 19).
Во многом сходную оценку «Переписки», но с другой, славянофильской точки зрения дал в «Русской беседе» К. С. Аксаков. Он так же, как и С. С. Дудышкин, с удовлетворением отметил, что в «Переписке» Тургенев продолжал разоблачение «лишнего человека». К. С. Аксаков писал, что в таких рассказах Тургенева, как «Петушков», «Дневник лишнего человека», «Гамлет Щигровского уезда», «Переписка», сказывается «уже не хвастовство эгоизма < …>, а, напротив, сознание дрянности человеческой! В них выражается большею частью то бессилие, та мелкая ложь, которые у нас сопровождают и проникают часто и ум и чувство и составляют болезнь нашего века. Какая перемена, какая разница, и разница спасительная, с предыдущим содержанием повестей и рассказов. Долой маску и геройский костюм! Вот оно, изнуренное лицо современного человека, не отмеченное ни властительною мыслию, ни глубокою любовью братскою» ( Рус беседа,1857, т. I, отд. IV, с. 20).
В 1867 г., в связи с выходом в свет «Дыма» Тургенева, в «Отечественных запкеках» появилась анонимная статья под названием «Аскетизм у г. Тургенева» (автор – Б. И. Утин), в которой герой «Переписки» назван в ряду других героев Тургенева, переживших любовь, идущую «против всякого разума и достоинства жизни». Автор статьи писал, что так «любит герой „Переписки“ свою танцовщицу, Петушков – свою Василису, „лишний человек“ – свою Лизу, так любит, наконец, и Литвинов Ирину в „Дыме“» ( Отеч Зап,1867, № 7, отд. II, с. 54).
В последующие периоды изучения творчества Тургенева исследователи писали о том, что в «Переписке» Тургенев «на смену мужским типам выдвигает на первый план идеальные женские типы» ( Истомин,с. 115).
В советские годы специальных статей, посвященных «Переписке», не появлялось. Об этой повести более или менее подробно говорится в общих монографиях о творчестве И. С. Тургенева. Точные сведения о времени создания «Переписки» впервые были введены в научный оборот только в 1929 г. Б. М. Эйхенбаумом (см.: Т, Сочинения,т. VII, с. 358).
Г. А. Бялый отмечает большое значение «Переписки», считая, что в этой повести впервые сказано о социальной обусловленности «лишних людей» и намечена постановка вопроса об их исторической роли. Бялый приходит к иыводу, что в «Переписке» «даны уже все элементы будущего романа Тургенева как особого жанра… Здесь объяснено и истолковано, каков герой и какова героиня, каковы должны быть взаимоотношения между ними, какова должна быть завязка и развязка этих отношений, как будет совершаться суд над героем и по какому кодексу он будет судим» (см.: БялыйГ. А. Тургенев и русский реализм. М.; Л.: Советский писатель, 1962, с. 60–66).
…никогда не прикидывался Байроном. – Творчество английского поэта-романтика Джорджа Байрона (Byron; 1788–1824), участника революционно-освободительного движения в Италии и Греции, оказало влияние на всю европейскую литературу начала XIX в., в том числе и на русскую. Байрон создал образ молодого человека – замкнутого индивидуалиста, разочарованного в общественной жизни, но в то же время наделенного бунтарским духом и свободолюбием.
Подражание Байрону стало массовым явлением в эпигонской романтической поэзии и в быту (см.: РозановM. H. Очерк английской литературы XIX в. Ч. 1. Эпоха Байрона. М., 1922).
…вот в чем вопрос. – Слова из монолога Гамлета в одноименной трагедии Шекспира: «То be, or not to be: that is the question» («Быть или не быть, вот в чем вопрос», акт III, сцена I).
…«кипящего в действии пустом»… – Цитата из 7-й главы «Евгения Онегина» Пушкина. Там: «…современный человек… С его озлобленным умом, Кипящим в действии пустом» (строфа XXII).
…И мы бывали в Аркадии… – Перефразировка первой строки стихотворения Шиллера «Résignation» (1784): «Auch ich war in Arkadien geboren» («И я рожден в Аркадии»). Аркадия – центральная часть Пелопоннеса в Древней Греции. В искусстве и литературе Аркадия изображалась страной райской невинности, патриархальной простоты нравов и мирного счастья.
Не плакать сладостно – страны обетованной? – Перефразировка двух строк из стихотворения А. А. Фета «Когда мои мечты за гранью прошлых дней» (1844) из цикла «Элегии и думы». У Фета:
Я плачу сладостно, как первый иудей
На рубеже земли обетованной.
Облаком волнистым… – Стихотворение А. А. Фета (1843), которое Тургенев цитирует с поправкой, по его настоянию внесенной Фетом в издание «Стихотворений» 1856 г. (см.: Фет А. А. Полное собрание стихотворений. «Библиотека поэта». Большая серия, 1959, с. 760; БлагойД. Д. Тургенев – редактор Фета. – Печать и революция, 1923, кн. 3, с. 45–65; БухштабБ. Я. Фет. Очерк жизни и творчества. Л., 1974, с. 33).
«…так близко, так возможно»– неточная цитата из 8-й главы «Евгения Онегина» Пушкина. Там: «А счастье было так возможно, так близко!» (строфа XLVII).
«Женский ум лучше многих дум»… – народная поговорка, зафиксированная в «Толковом словаре» Даля в несколько отличном варианте: «Женский ум лучше всяких дум».
…ношу мужскую одежду и вместо «здравствуйте» отрывисто говорю: «Жорж Занд!»… – Жорж Занд (или Санд) – литературный псевдоним писательницы Авроры Дюде-ван (1804–1876). В начале литературной деятельности Жорж Санд носила мужской костюм, подчеркивая тем самим свое право наравне с мужчинами на свободу мысли и чувства.
…всё стремлюсь «туда»... – Призыв «туда, туда» (нем. Dahin, dahin) восходит к песне Миньоны из романа Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера» (1793–1796). В 1817 г. Жуковский вольно перевел эту песню под названием «Мина». Вот ее первый куплет:
Я знаю край! там негой дышит лес,
Златой лимон горит во мгле древес
И ветерок жар неба холодит,
И тихо мирт и гордо лавр стоит…
Там счастье, друг! туда! туда
Мечта зовет! Там сердцем я всегда!
К песне Миньоны обращался и Пушкин, который неоднократно варьировал ее начало: «Ты знаешь край?..» – создавая поэтический образ южной (крымской и итальянской) природы. (Об этом см.: ЖирмунскийВ. М. Гёте в русской литературе. Л., 1937, с. 140.) В среде русских романтиков призыв «туда, туда!» воспринимался как восторженный порыв в страну вечной красоты и гармонии. В «Былом и думах» Герцен назвал один из разделов главы, в которой повествуется о его приготовлениях к бегству из николаевской России, «Dahin, dahin» (ч. IV, глава XXXII).
…серенаду Шуберта… – Речь идет о песне Шуберта «Ständchen», написанной на слова немецкого поэта Людвига Рельштаба (1779–1860). Эта песня пользовалась большой популярностью в России. Ее неоднократно исполняла в своих концертах в Москве и Петербурге Полина Виардо (см.: Сев Пчела,1845, № 94, 28 апреля). Текст песни был переведен на русский язык в 1840 г. Н. П. Огаревым под названием «Sérénade» («Песнь моя летит с мольбою…»); на слова Огарева исполняется до сих пор.
…муж, дети, горшок щей – вот что нужно женщине…»– Ср. у Пушкина в «Отрывках из путешествия Онегина»:
Мой идеал теперь – хозяйка,
Мои желания – покой,
Да щей горшок, да сам большой.
…иезуиты утверждают, что всякое средство хорошо, лишь бы достигнуть цели. – Иезуиты – члены католического монашеского ордена, основанного в XVI в. в Париже в целях распространения католицизма и упрочения власти папства. Разработанная иезуитами система морали была ими названа «приспособительной», так как давала возможность произвольно толковать основные религиозно-нравственные требования и совершать любое преступление во имя высшей цели – утверждения «славы божией». Иезуитам приписывается девиз – «цель оправдывает средства» (см.: МихневичД. Е. Очерки по истории католической реакции (иезуиты). 2-е изд. М., 1955).
…петь «Аделаиду» Бетховена… – Романс на слова Маттисона (см. примеч. к «Якову Пасынкову», с. 411), сочиненный Бетховеном в 1796 г. (ор. 46).
…хроматическая гамма– гамма с полутоновым расстоянием между ступенями, насчитывающая двенадцать звуков в пределах октавы (в диатонической гамме – семь).
Я вспомнил свое пребывание в Неаполе… – Эти строки автобиографичны: Тургенев тоже был в юности в Неаполе – в апреле месяце ст. ст. 1840 года (ср. описание Неаполя в его письме к Н. В. Станкевичу от 14, 15 (26, 27) апреля 1840 г.).
…как Репетилов, попросил, чтобы везли меня куда-нибудь! – Перефразировка слов Репетилова из «Горя от ума» Грибоедова (действие IV, явл. 9).
Вспомните, кто не дал на этот вопрос ответа… – Во французском тексте (1858, Scènes,с. 263) переведено: «Rappelez-vous la question posée par Pilate, et restée sans réponse» («Вспомните вопрос, заданный Пилатом и оставшийся без ответа»). Речь идет о вопросе, заданном Пилатом Иисусу: «Что есть истина?», на который Иисус не ответил (см.: Евангелие от Иоанна, глава 18, ст. 38). В текстах русских изданий эти слова отсутствуют – очевидно, по цензурным причинам.
Яков Пасынков
Источники текста
«Яков Пасынков (рассказ Ивана Тургенева)», черновая рукопись, хранящаяся в отделе рукописей Bibl Nat,Slave 87, л. 88-121, см.: Mazon, 4. D. 2; фотокопия – ИРЛИ,Р. I, оп. 29, № 160.
Дополнение к 1-й главе «Якова Пасынкова» («Прибавление к Пасынкову») от слов «Бывало он придет» и кончая словами «к моему рассказу». Черновой автограф хранится в отделе рукописей ГБЛ,ф. 306, И. С. Тургенев, картон 1, ед. хр. 2, л. 56–57.
Отеч Зап,1855, № 4, отд. 1, с. 195–230.
Т, 1856,ч. 3, с. 51–116.
Т, Соч, 1860–1861,т. III, с. 146–187.
Т, Соч, 1865,ч. III, с. 191–239.
Т, Соч, 1874,ч. 3, с. 189–235.
Т, Соч, 1880,т. 7, с. 125–171.
Т, ПСС, 1883,т. 7, с. 134–185.
Впервые опубликовано: Отеч Зап,1855, № 4, с подписью: Ив. Тургенев (ценз. разр. 31 марта 1855).
Печатается по тексту Т, ПСС, 1883,т. 7 (см. с. 384) со следующими исправлениями по другим источникам:
Стр. 52, строки 1–2:«г-жа Злотницкая» вместо «Злотницкая» (по всем источникам до Т, Соч, 1880).
Стр. 52, срока 20:«мне очень больно» вместо «мне больно» (по всем другим источникам до Т, Соч, 1880).
Стр. 65, строка 27:«крестьянских девочек» вместо «крестьянских девушек» (по черновой рукописи).
Стр. 70, строка 42:«взбежал» вместо «вбежал» (по всем источникам до Т, Соч, 1874).
Стр. 75, строка 18:«ну, изволь» вместо «изволь» (по всем другим источникам).
Как указал сам Тургенев на первой странице рукописи, «Яков Пасынков» был написан в течение двенадцати дней, с 13 по 25 февраля ст. ст. 1855 г., но и в этот короткий срок Тургенев работал над повестью с перерывами.
В письме к M. H. и В. П. Толстым от 14 (26) февраля 1855 г. Тургенев писал: «Начал одну вещицу – да только три страницы написал – и остановился. Когда Боткин уедет, у меня больше будет времени».
Ю. Г. Оксман высказал предположение, что в рассказе «Яков Пасынков» Тургенев в какой-то мере развил ранний неосуществленный замысел пьесы «Вечеринка» (см. наст. изд., т. 2, с. 693). Содержание этой пьесы Тургенев в 1848 г. рассказал Н. А. Тучковой-Огаревой, о чем она пишет в своих воспоминаниях: «Тургенев любил читать мне стихотворения или рассказывать планы своих будущих сочинений; помню до сих пор канву одной драмы, которую он собирался написать, и не знаю – осуществилась ли его мысль: он хотел представить кружок студентов, которые, занимаясь и шутя, вздумали для забавы преследовать одного товарища, смеялись над ним, преследовали его, дурачили его; он выносил всё с покорностью, так что многие, ввиду его кротости, стали считать его за дурака. Вдруг он умирает; при этом известии сначала раздаются со всех сторон шутки, смех. Но внезапно является один студент, который никогда не принимал участия в гонениях на несчастного товарища. При жизни последнего, по его настоянию, он молчал, но теперь он будет говорить о нем. Он рассказывает с жаром, каков действительно был покойник. Оказывается, что гонимый студент был не только умный, но и добродетельный товарищ; тогда встают и другие студенты, и каждый вспоминает какой-нибудь факт оказанной им помощи, доброты и проч. Шутки умолкают, наступает нелегкое, тяжелое молчание. Занавес опускается. Тургенев сам воодушевлялся, представляя с большим жаром лица, о которых рассказывал» ( Тучкова-ОгареваH. A. Воспоминания. М.: Гослитиздат, 1959, с. 280–281).
Как свидетельствует рассказ Тургенева о содержании задуманной им пьесы «Вечеринка», в его новой повести только образ Якова Пасынкова напоминает благородный облик умершего студента. Все другие действующие лица, фабула и форма повествования не имеют никакой связи с неосуществленным замыслом пьесы.
Образ Якова Пасынкова, главного героя рассказа, тесно связан и с биографией самого Тургенева и с его творчеством.
Яков Пасынков – типичный представитель не только молодежи, окружавшей Тургенева в его студенческие годы, ознаменовавшиеся увлечением немецкой идеалистической философией (см.: Горбачева, Молодые годы Т),но и поколения, к которому принадлежали Станкевич, Белинский, Грановский.
Создавая образ Якова Пасынкова, Тургенев во многом сделал его похожим на Белинского, в особенности на тот портрет критика, который он сам созвал в своих воспоминаниях. Тургенев писал о Белинском: он «был идеалист в лучшем смысле слова. В нем жили предания того московского кружка, который существовал в начале тридцатых годов и следы которого так заметны еще доныне < …> По понятию Белинского, его наружность была такого рода, что никак не могла нравиться женщинам; он был в этом убежден до мозгу костей, и, конечно, это убеждение еще усиливало его робость и дикость в сношениях с ними. Я имею причину предполагать, что Белинский, с своим горячим и впечатлительным сердцем, с своей привязчивостью и страстностью, Белинский, все-таки один из первых людей своего времени, не был никогда любим женщиной. Брак свой он заключил не по страсти. В молодости он был влюблен в одну барышню, дочь тверского помещика Б-на; это было существо поэтическое, но она любила другого и притом она скоро умерла. Произошла также в жизни Белинского довольно странная и грустная история с девушкой из простого звания; помню его отрывчатый, сумрачный рассказ о ней… он произвел на меня глубокое впечатление… но и тут дело кончилось ничем».
Облик Белинского: его верность идеалам юности, его застенчивость, его неудачная личная жизнь и отношение к женщинам, даже роман с девушкой из «простого звания» – всё это характерно и для Якова Пасынкова.
Тургенев, говоря о Пасынкове, подчеркивал: «В устах его. слова: „добро“, „истина“, „жизнь“, „наука“, „любовь“, как бы восторженно они ни произносились, никогда не звучали ложным звуком. Без напряжения, без усилия вступал он в область идеала…» (наст. том, с. 60). Будучи сам искренне увлечен благородным стремлением ко всему прекрасному, Пасынков оказывал и на других благотворное влияние.
Именно эту черту подметил Тургенев и в Белинском. В своих воспоминаниях Тургенев рассказывал о страстной увлеченности Белинского философскими и общественными проблемами, требующими разрешения. Вспоминая об одной из дискуссий с Белинским, Тургенев писал: «„Мы не решили еще вопроса о существовании бога, – сказал он мне однажды с горьким упреком, – а вы хотите есть!..“ Сознаюсь, что, написав эти слова, я чуть не вычеркнул их при мысли, что они могут возбудить улыбку на лицах иных из моих читателей… Но не пришло бы в голову смеяться тому, кто сам бы слышал, как Белинский произнес эти слова; и если, при воспоминании об этой правдивости, об этой небоязни смешного, улыбка может прийти на уста, то разве улыбка умиления и удивления…»
Яков Пасынков увлечен Шиллером и с восторгом читает его «Résignation» (1784) – одно из наиболее популярных в студенческих философских кружках стихотворений.
Характерно, что Белинский в пору увлечения немецкой идеалистической философией неоднократно писал об этом же произведении. Например, в статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“» (1836): «Шиллер был душа пламенно верующая, а посмотрите, какое безотрадное, ужасное отчаяние проглядывает в каждом стихе его дивного „Résignation“» (Белинский,т. 2, с. 160). И спустя несколько лет в письме к Н. В. Станкевичу (1839): «В „Résignation“он <Шиллер> принес в жертву общему всё частное – и вышел в пустоту» (там же, т. 11, с. 386).
Любимое музыкальное сочинение Пасынкова – «Созвездие» Шуберта (см. ниже, с. 411). Этот факт тоже не случаен. Песни Шуберта были очень любимы в кружке Станкевича (см.: Станкевич, Переписка,с. 310, 372, 392 и др.) и в частности Белинским. В одном из писем к В. П. Боткину он писал, имея в виду песню Шуберта «Шарманщик» из сборника «Зимние путешествия» (1826–1828): «Бывают минуты, когда душа моя жаждет звуков. Дорого бы я дал, чтобы послушать в твоей комнате „Leiermann“; мне кажется, я зарыдал бы, если бы, проходя по улице, услышал под окном его чудные, грациозные звуки, которые глубоко запали в мою душу» (Белинский,11, с. 446).
По внешнему облику Яков Пасынков (узкие плечи и впалая грудь, болезненный вид) также напоминает Белинского. Тургенев подчеркивал неуклюжесть и светскую неловкость своего героя, перевернувшего в гостиной у Злотницких столик. Аналогичный случай произошел и с Белинским, который в гостиной князя В. Ф. Одоевского опрокинул столик и пролил при этом стоявшее на нем вино (об этом эпизоде рассказывают А. И. Герцен – см. «Былое и думы», ч. IV, гл. XXV – и И. И. Панаев – см. «Литературные воспоминания». М.: Гослитиздат, 1950, с. 299).
Известно, что в начале 1840-х годов Белинский вел непримиримую борьбу с «романтическим идеализмом» (см.: ГинзбургЛ. Я. Белинский в борьбе с романтическим идеализмом. – Лит Насл,т. 55, с. 191); тем не менее это не мешало ему считать, что период увлечения немецкой идеалистической философией имел свое положительное значение. В одном из писем к Тургеневу (1847) Белинский писал по этому поводу: «…этот идеализм и романтизм может быть благодатен для иных натур, предоставленных самим себе. Гадки они – этот идеализм и романтизм, но что за дело человеку, что ему помогло отвратительное на вкус и вонючее лекарство, даже и тогда, если, избавив его от смертельной болезни, привило к его организму другие, но уже не смертельные болезни: главное тут не то, что оно гадко, а то, что оно помогло» (Белинский,т. 12, с. 343). В этом же письме Белинский писал, что тот, кто «возрос в грязной положительности и никогда не был ни идеалистом, ни романтиком на наш манер», не может ощутить всей сложности человеческих взаимоотношений (ср. точку зрения Белинского на Адуева-старшего в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года»).
Таким образом, изображая «последнего романтика», Якова Пасынкова, похожим на Белинского, Тургенев не нарушал исторической достоверности.
Связь рассказа «Яков Пасынков» с творческими замыслами Тургенева этих лет прослеживается в двух направлениях. Во-первых, в «Якове Пасынкове» затронута та же тема, что и в романе «Рудин», где изображен кружок московских романтиков во главе с Покорским. Во-вторых, этот рассказ отражает идейные поиски Тургенева, приведшие его к созданию речи «Гамлет и Дон-Кихот» (1860), замысел которой относится к началу 1850-х годов (см.: НазароваЛ. Н. К вопросу об оценке литературно-критической деятельности И. С. Тургенева его современниками. – Вопросы изучения русской литературы XI–XX веков. M.; Л.: АН СССР, 1958, с. 164). Образ Якова Пасынкова – это один из первых вариантов тургеневских Дон-Кихотов, для которых характерно отсутствие эгоизма, самопожертвование и вера в высокие человеческие идеалы [84]84
Повесть Тургенева и в особенности ее главный герой Яков Пасынков оказали влияние на французского писателя и переводчика произведений Тургенева Ксавье Мармье. В одном из своих романов, написанных в пору близкого общения с русским писателем, «Обручение на Шпицбергене» (1859), К. Мармье привел в качестве эпиграфа ко второй главе слова Якова Пасынкова: «Жалок тот, кто живет без идеала» (см.: ПриймаФ. Я. Русская литература на Западе. Л., 1970, с. 110).
[Закрыть].
Дошедшая до нас черновая рукопись «Якова Пасынкова» [85]85
Основные варианты чернового автографа «Якова Пасынкова», см.: Т сб,вып. 3, с. 5 – 12.
[Закрыть]а также варианты прижизненных изданий позволяют проследить историю создания этого рассказа.
Работая над образом Якова Пасынкова, Тургенев постепенно дополнял первоначальную канву, стремясь усилить романтическую окраску психологического облика героя и подчеркнуть его внутреннее благородство.
Так, в окончательном варианте текста он полнее раскрыл душевную чистоту и искренность веры Пасынкова в добро, истину, науку, любовь («В устах его слова – другой души!..», с. 60, строки 30–36), вписал рассуждение героя о достоинствах поэзии Пушкина и Лермонтова («Пушкин выше – Лермонтов хорош», с. 75, строки 24–28) и дополнил его биографию эпизодом первой любви к юной немке («Я был поверенным – О, счастливые дни»; см. с. 60–61, строки 42–38). Тургеневу важно также было подчеркнуть созерцательность натуры Пасынкова, и он вставил дополнительное рассуждение героя на эту тему («Я брат – не творить», с. 77, строки 36–39). Тургенев много работал и над местом рассказа, где идет речь о том, что и в зрелом возрасте Пасынков не изменился и остался «весел душой». Так, вместо текста: «Как ни охватывал – нетронутой красе» (с. 63, строки 17–19) в черновом автографе первоначально было: «и жизненный холод, горький холод опыта – он не коснулся нежного цветка, таинственно расцветшего в сердце доброго Якова».
Особенно существенным является дополнение, сделанное Тургеневым, очевидно, в не дошедшей до нас беловой рукописи или в корректуре «Отечественных записок» («Помню я одну ночь сердце переполнилось», с. 62, строки 21–36). Это дополнение подчеркивало романтическую окраску устремлений Якова Пасынкова, необходимым элементом которых были ночные дружеские излияния и размышления о величии мироздания. Увлечение немецкой идеалистической философией в студенческих кружках сопровождалось усилением религиозной экзальтации (см.: Горбачева, Молодые годы Т,с. 18–24); поэтому Тургенев заставил своего героя в сделанном дополнении процитировать стихи, прославляющие «творца». В рукописном тексте осталось еще одно указание на повышенное религиозное чувство рассказчика. Вместо совета, который он дает Якову Пасынкову, искать утешение в искусстве (см. с. 61, строки 36–37), в рукописи остался неисправленным текст, содержащий совет искать утешение в религии.