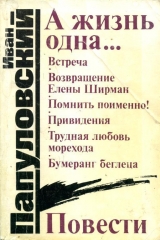
Текст книги "А жизнь одна..."
Автор книги: Иван Папуловский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
– Там. Еще в голень ноги…
Профессор постучал тонкими чуткими пальцами по краю стола, ласково повторил:
– В голень ноги… А пуля парабеллума шесть лет сидит в голове, чуть-чуть до мозжечка не дошла, – это как, по-вашему, называется?!
Операцию откладывали, переносили с месяца на месяц. Профессор, не скрывая своих чувств, сказал:
– Мы к животным туда не лазим, надо ведь череп вскрывать, мозг поднимать… Но и так оставить нельзя!
Двенадцать суток Роби лежал без сознания, сестры и Расма не отходили от его постели. И он, всем смертям назло, выжил! Правда, сразу получил вторую группу инвалидности, много лет сидел без работы, но остался человеком, не потерял жадного интереса к жизни, к делам в деревне, в районе, в стране. Потом ему разрешили заняться надомничеством – стал делать сувениры, игрушки из дерева, жести, глины. Даже про самолет, который в школе строил с друзьями, вспомнил однажды и смастерил целую эскадрилью действующих моделей с резиновыми моторчиками.
Как инвалиду Великой Отечественной ему дали квартиру в соседнем городке, и, когда родился сын, Айвар, они уже были горожанами. Расма окончила-таки университет, работала педиатром в городской поликлинике, жизнь вошла в нормальное русло.
– Сколько лет понадобилось, сколько страданий испили, понимаешь? – почти кричал Заречный, искренне переживая за Роби и Расму. Глаза Саши горели, он не стыдясь глотал слезы, до предела взвинтив и меня.
Сорок с лишним лет назад встретился на нашем пути паренек-десантник Роберт Тислер, сорок с лишним лет мы ничего не знали о его дальнейшей судьбе, а сейчас, казалось, не было для нас роднее, ближе человека. Память вернула нас туда, в синявинские урочища и непроходимые болота, мы снова оказались на войне.
Все предусмотрели тогда гитлеровские генералы – и свежую армию Манштейна перебросили из Крыма, и мощные осадные орудия подвезли, и приказ «сровнять Петербург с землей» подготовили. Над сжатым в тиски блокады, голодным, израненным Ленинградом нависала новая смертельная опасность. И операцию, которая должна была покончить с великим городом на Неве, назвали «Волшебный огонь». В этом огне, по замыслу Гитлера, сгорят все непокорные ленинградцы, вся Балтика станет немецкой, освободятся силы для нового похода на Москву.
Месяц с лишним гремело, свистело, ухало на узком участке фронта между берегом Ладоги и Синявинскими высотами. Неимоверно трудно, просто невыносимо тяжело было пробиваться к Неве через топкие болота, через надежно оборудованную немцами на всю глубину систему дотов и дзотов, основных и запасных позиций, но войска Волховского фронта медленно и упрямо шли вперед, к ленинградцам, к Ленинграду. И Манштейн позднее напишет горькое признание: вместо штурма Ленинграда его армии пришлось вести тяжелое сражение южнее Ладожского озера. А его солдаты скажут: «Лучше месяц воевать в Севастополе, чем один день под Синявином…»
Наша выжидательная позиция располагалась вдоль большой вырубки – метров двести в длину и около сорока в ширину. Здесь мы готовили танки к бою, сюда подвозились горюче-смазочные материалы и боеприпасы. И отсюда, взвыв моторами, наши машины уходили на исходные рубежи, уходили в бой.
Где-то числа пятнадцатого или шестнадцатого сентября через вражеские позиции прорвался тремя «тридцатьчетверками» взвод лейтенанта Меркулова – из нашей роты. Он ушел далеко вперед, круша гитлеровцев огнем и гусеницами. И уже в те дни стал для всех нас живой легендой. Говорили, что танкисты совсем немного не дошли до пробивавшихся навстречу ленинградцев, наверное, они уже видели Неву, но были сожжены фашистами.
Помню, как убивался, беззвучно плакал механик-водитель с танка самого Меркулова, узнав о судьбе взвода. Высокий, худощавый, но довольно жилистый сибиряк, перед выходом в бой он неудачно сманеврировал танком. Я сам видел эту горькую сцену: заросший окладистой бородой лейтенант Меркулов стоял перед своим танком с поднятой кверху рукой и подавал команды водителю, сдававшему машину назад. Меркулов сигналил: вправо, влево, потом поманил ладонью на себя, чуть-чуть вперед. И в этот момент из-под гусеницы сорвалась расщепленная, почти голая ветвь сосны и острием полезла прямо в люк механика. Водитель инстинктивно подставил ладонь, чтоб отвести от себя острый сук – и взвыл от боли: сук проткнул ему ладонь насквозь…
Меркулов отбросил злополучный сук от танка, по-звериному рявкнул водителю:
– Вылазь!..
Вся рота знала, как любили они друг друга, как хорошо воевали еще между Чудовом и Новгородом, а сейчас дикая ярость захлестнула лейтенанта.
Санитар перевязал руку, водитель от боли прыгал перед танком чуть ли не на одной ноге и умолял Меркулова не снимать его с машины. Но лейтенант был неумолим, он посадил за рычаги новичка из резерва и с ним ушел в свой последний бой, из которого не вернулся.
Вот тут-то и появился у наших «тридцатьчетверок» Роби Тислер со своим отделением автоматчиков. И фотограф из армейской газеты. Снимок, бережно хранимый Сашей Заречным, сделан был в этот день.
Всего около недели фронтовой жизни, под постоянными бомбежками, артиллерийскими и минометными обстрелами провели мы вместе с отделением десантников, которым командовал младший сержант Роберт Тислер. Два раза ходили с ним в бой и в третий – прорывались ночью из окружения. Вот тогда и подошел ко мне Заречный. Темная высота маячила впереди, что-то ярко горело в километре от нас прямо на шоссе. Под ложечкой неприятно сосало, щемило, ведь никто не знал, прорвемся ли мы через вражеский заслон и все ли прорвемся. А пехотинцы-автоматчики деловито разместились на броне танков позади башен, делились друг с другом оставшимися сухарями.
– Как дома на печке устроились, не хватает, чтоб теща подала им туда блины!.. – восхищенно сказал Заречный.
Заречный, который только вчера отличился в последнем бою на острие нашего прорыва под Синявином. Он один с утра до вечера просидел в подбитом танке, уложив десятка два фашистов, пытавшихся захватить его машину. Он был из плоти и крови, боялся боли, боялся смерти, но все это уходило куда-то в сторону, когда надо было действовать, когда надо было воевать. Заречный уже умел воевать и по-прежнему умел восхищаться другими. Впрочем, с ним всю жизнь было так…
Часов пять просидели мы с Сашей у меня дома, потом бродили по Кадриоргу, и мой друг восхищался новым обликом Нарвского шоссе, «Русалкой», Екатерининским дворцом и парком, а возле домика Петра, закрытого на ремонт, разразился неожиданно:
– На следы деятельности Петра по сей день натыкаешься всюду, – говорил Саша восторженно. – Умел шить ботинки, строить корабли, на болоте возвел настоящую Пальмиру на севере, был и швец, и жнец, и на дуде игрец. Не царь, а работник, ученый, полководец!..
– Но все-таки царь, – подзадорил я.
– Да, конечно, – вздохнул Заречный. – Но кадры подбирал не по происхождению и знатности, а по деловым качествам!
– Это в фильме…
– Это было так, вот что важно, понимаешь? За все великое пора забыть, что он был царь. Патриот, прежде всего.
Но это – маленькое отступление в историю. Мы весь день прожили на войне. Той, которую прошли, которая не отпускает и не отпустит нас.
– А Роби и Расмы уже нет, – печально сказал Саша, взяв меня за локоть.
Мы стояли возле Лебединого пруда в Кадриорге, наблюдая, как пара изумительно белых, гордых птиц величаво подплывала к своему островку, как выгибали они свои длинные шеи, время от времени окуная головы с длинными красными клювами в воду. Дружно, изящно.
Есть птицы, которые так преданы партнеру, что если погибает одна – не живет и другая. Примерно так случилось с Роби и Расмой. Она не вынесла его преждевременной смерти от инсульта (сказалось, наверное, ранение в голову) и тихо, как-то даже незаметно, ничем явным не болея, скончалась через месяц после похорон мужа. Не дождавшись внуков, которых очень хотела нянчить.
– По нашему квадрату бьет, – то ли мне, то ли себе сказал Заречный, и опять рвущая душу печаль прозвучала в его голосе. – Сколько нас осталось? А тут еще Рейганы да Картеры!.. Очень хочется верить, что благоразумие возьмет верх. Не хочу, чтобы сын Роби, эта Регина, их друзья, твои и мои внуки узнали войну, не хочу! Кстати, Айвар обещал заехать к тебе – прими его ласково. Славный сын у Роби и Расмы.
Ветер с моря разлохматил все еще густые, но изрядно посеребренные волосы Саши, карие глаза прищурились, тонкие губы плотно сжались. Он опять был далеко от этого пруда, от всего сегодняшнего великолепия. Я понял, что он вновь ушел на войну.
Таллин, 1984
2. Возвращение Елены Ширман
1. ПАМЯТЬ
Я вернусь еще к тебе, Россия,
Чтоб услышать шум твоих лесов,
Чтоб увидеть реки голубые,
Чтоб идти тропой моих отцов.
Из стихов неизвестного поэта, найденных в концлагере Заксенхаузен
В объемистом томе «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне» стихи-эпиграф помещены почти рядом с произведениями Елены Ширман. Под одной обложкой со стихами Мусы Джалиля, Юрия Инге, Павла Когана, Михаила Кульчицкого, Алексея Лебедева, Георгия Суворова… В моем сознании все эти имена встали в одну строку, засияли в одном ореоле много лет спустя после трагической и героической смерти поэтов. Жили мы – люди, родившиеся в двадцатых, в одном времени, одними чувствами. Удивительно ли скрещение наших судеб и знакомств?..
Я хорошо помню Елену Ширман, поэтессу и литературного консультанта пионерских газет. Это о ней в середине шестидесятых годов большой советский поэт Илья Сельвинский сказал:
«До войны Елена училась в Литературном институте имени А. М. Горького и работала в моем семинаре. Многие студенты этого семинара впоследствии стали известными писателями. Кто сейчас не слышал о поэзии Когана, Кульчицкого, Наровчатова, Воронько, Окунева, Снеговой, Слуцкого, Яшина!.. Елена вращалась в этой сильной студенческой группе на равных по культуре и дарованию».
Когда началась война, все студенты из семинара Ильи Сельвинского и он сам пошли на фронт добровольцами.
«От моего семинара, – писал Сельвинский, – таким образом, остались одни девушки. Все, кроме одной. Этой одной была Елена Ширман…»
Татарский поэт Муса Джалиль, будущий Герой Советского Союза и лауреат Ленинской премии, весенним днем 1942 года ехал на редакционном грузовичке со станции Малая Вишера в расположение 2-й ударной армии, пробившей брешь в немецкой обороне на западном берегу реки Волхов и вклинившейся на десятки километров в расположение врага. По той же дороге, пару месяцев спустя, на выручку окруженной фашистами, преданной генералом Власовым 2-й ударной армии спешил от Малой Вишеры маршевый танковый батальон, в котором скромное место стрелка-пулеметчика «тридцатьчетверки» занимал я. Под печально известным местечком Мясной Бор прорывались друг другу навстречу Муса Джалиль с пехотинцами и наша 29-я танковая бригада. Не вышел из фашистского окружения автор «Моабитской тетради», раненым попал в плен. Мне почему-то кажется, что не одни стихи сближают судьбы поэта и его читателей – ровесников и фронтовых побратимов…
На Балтике, во время перехода из Таллина в Кронштадт, погиб на торпедированном судне краснофлотский поэт Юрий Инге. Это случилось 28 августа 1941 года – в тот день в газете «Красный Балтийский флот» появилось последнее стихотворение поэта-моряка. И через много лет общие друзья рассказывали мне о нем были-легенды в городе Таллине, откуда он ушел в последний путь.
Три месяца спустя на подводной лодке погиб и другой поэт – автор «Красного Балтийского флота» – Алексей Лебедев. Незадолго до смерти он писал:
…И если пенные объятья
Назад не пустят ни на час
И ты в конверте за печатью
Получишь весточку о нас —
Не плачь, мы жили жизнью смелой,
Умели храбро умирать…
О солдатском поэте Георгии Суворове тепло вспоминали Николай Тихонов, Алексей Сурков, Михаил Дудин.
Я читал его стихи на войне – под Ленинградом. Мы почти три года были с ним на одних участках фронта. Когда лавина наших дивизий, рванув под Пулковом и с Ораниенбаумского «пятачка», погнала фашистов через Ропшу и Русско-Высоцкое, Волосово и Кингисепп, снимая окончательно блокаду, армейский поэт и журналист Георгий Суворов стал командовать взводом бронебойщиков и преуспел в этом тяжком ратном деле. Хорошо помню те морозные снежные дни – дни наступления, дни ликования. И дни невосполнимых потерь. Под Волосово сгорел в танке храбрый комбриг-61 полковник Хрустицкий, – об этом я узнал тогда же, в день гибели отважного офицера-танкиста. И только сравнительно недавно – о том, что 13 февраля 1944 года, на центральном участке нашего наступления, под Нарвой, отражая контратаку фашистских танков, осколками снаряда был смертельно ранен лейтенант Суворов…
Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а все-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло.
В воспоминаньях мы тужить не будем.
Зачем туманить грустью ясность дней?
Свой добрый век мы прожили, как люди.
И для людей.
Строки лейтенанта Георгия Суворова. Поэта, прожившего на свете всего двадцать пять лет…
Елена Ширман была немного старше. Она написала немало стихов и сказок, еще больше писем – необыкновенных, ободряющих и поднимающих дух; и сегодня, вспоминая о ней, о Кульчицком и Когане, о Инге и Суворове, я ловлю себя на мысли о том, как много они успели – и сказать, и сделать в короткие сроки, столь скупо отпущенные им судьбой…
Полвека назад немецкий поэт Райнер Мария Рильке, которого Елена Ширман любила и переводила, написал:
…Знай же: нет преграды для души.
Неслыханная даль с тобой сольется,
и голос твой, что прозвенел в тиши,
в тех звездах отдаленных отзовется.
Их давно нет в живых, поэтов поколения и судьбы Елены Ширман, – даже могил иных никто не знает и не сыщет, – но как они дороги нам, живущим, как будоражат память их живые образы, как будят мысль их неповторимые голоса, что «прозвенели в тиши» и в «звездах отдаленных» отзовутся!
…На моем столе лежат редкие фотографии. Вот хотя бы эти три. С одной, из темного круга, с сердечной добротой смотрит молодая женщина в простеньком светлом платье, с упавшей на плечо волной густых вьющихся волос. Как светла и щедра улыбка женщины – на нее Елена Михайловна не скупилась при жизни…
А вот вторая фотография. На фоне заснеженной площадки перед многоэтажным домом в Ростове настоящий донской казак в полушубке, отороченном черным мехом, в казачьей шапке и ботинках с крепко зашнурованными длинными голенищами. Если бы не эти ботинки да серая юбка – ни дать ни взять удалой хлопец из буденовских войск, готовый на славу и подвиг!
Третий снимок нашли в сарае бывшей немецкой комендатуры в станице Ремонтной Ростовской области, откуда Елену Михайловну и ее родителей увезли на казнь. Последний снимок, последний год среди живых…
Есть и еще фотографии. На них Лена то одна, то с сестрой Алитой, то рядом с молодыми еще Александром Фадеевым, Юрием Либединским, Владимиром Киршоном, Владимиром Ставским. Каждое имя – яркая страница в истории нашей литературы. К ним, по Сельвинскому, можно добавить и тех, кто учился вместе с Леной и с кем она была «равна по культуре и дарованию».
С особым волнением перебираю эти старые фотографии, перечитываю все, что было напечатано о Елене Михайловне за последнее десятилетие в газетах, журналах, сборниках – от югославской «Борбы» до казахстанского «Простора», и во всем узнаю дорогие мне черты удивительного человека, чьи ум и душевная щедрость в свое время открыли для меня, тогда еще мальчишки, необыкновенный мир высоких стремлений и чувств, озарили на долгие годы настоящее и будущее. Помню, в начале октября 1964 года звонит мне один товарищ из Тарту:
– Вчерашнюю «Комсомолку» читал? Нет?! Да ты что?
– Ты – из Свердловска ведь? – продолжает допрашивать мой тартуский собеседник. – И в школе ФЗО учился – редактором стенгазеты, старостой группы был? Был ведь?
– Был…
– И Елену Михайловну Ширман знаешь?
– Елену Михайловну?! Ширман? Да откуда к тебе… Она – жива? Говори же скорей – жива?
– Нет, но…
Я бросил трубку. Нашел газету. Там были опубликованы письма Елены Ширман к школьнице Ляле Яненко, а в них несколько раз упоминался я:
«Хорошие письма мне шлет Ваня из Свердловска. Он как раз хочет идти в трудрезервы… В 16 лет без отца – помогает матери вырастить пятерых братишек и сестренок, работает и учится заочно…»
…Память уже переносила меня в далекое предвоенное прошлое, в год сороковой…
2. ХОЗЯЙКА «СТРАНЫ ЮНОНИИ»
Стоят надо мной вершины,
Доступные, как мечты.
Лежат подо мной стремнины
Нетроганной красоты.
И, к камню прижавшись грудью,
Над пропастью я кричу:
«Пусть будет не так, как будет!
Пусть будет, как я хочу!»
Елена Ширман. «Над пропастью»
Да, она умела делать так, как хотела, как считала нужным. Вот и сказочную «страну Юнонию» она создала потому, что так, казалось ей, было лучше всего – собрать вокруг себя, приобщить к прекрасному большую группу ребят, впервые взявшихся за перо. Должность литературного консультанта пионерских газет позволяла неунывающей студентке Литературного института завязывать самые неожиданные знакомства. И это было важно, в первую очередь, для юных поэтов и прозаиков, чьих имен не знал еще никто. Ибо пропуском в «страну Юно», «страну Юности» могли быть только стихи, рассказы и сказки, написанные тобою собственноручно.
Елена Михайловна не случайно стала хозяйкой «Юнонии», она сама придумала ее, когда была еще руководителем литкружка на Сельмаше, в Ростове-на-Дону. А работа во всесоюзной газете «Пионерская правда» просто раздвинула границы ее кипучей деятельности, умножила возможности.
Однажды шестнадцатилетний уральский парнишка Ваня Папуловский получил из Москвы увесистый пакет со своими «произведениями», а в «сопроводиловке» прочитал:
«Из рассказа можно что-то сделать, если посидеть над ним основательно. А вот стихи просто никуда не годятся. Но ты не огорчайся, не всем же быть поэтами…»
Больше тридцати лет прошло с той поры, а строки эти помнятся. Никогда еще так просто, без околичностей не писали московские литконсультанты. А эти тысяча и один вопрос:
«Кто ты и сколько тебе лет? Есть ли братья и сестренки? Умеешь ли плавать и бываешь ли в тире? Кто твои самые любимые писатели, композиторы?..»
С композиторами вышла промашка. В одном из писем к Ляле Яненко, опубликованных «Комсомольской правдой», Елена Михайловна сообщала:
«…Ванюша прислал мне письмо из ФЗО. У него большая радость – его приняли в ряды ВЛКСМ… Твое письмо он получил и готовится ответить. Но его смутил твой вопрос насчет любимых композиторов… ему стыдно сознаться, что он почти никого из них не знает (ох, я его тайну выдала!..)»…
В течение, наверное, одного-двух месяцев незнакомая поэтесса из столицы стала для меня самым дорогим другом. Больше того: она немедленно связалась со своими свердловскими друзьями-писателями – Ниной Аркадьевной Поповой, Еленой Евгеньевной Хоринской, Клавдией Васильевной Рождественской и повела серьезный разговор о том, как подготовить меня к поступлению в Литературный институт имени А. М. Горького. Тот самый, где она на последнем курсе училась в семинаре Ильи Сельвинского.
Да, только для этого надо было закончить среднюю школу. И категорический совет Елены Ширман – «продолжать учение во что бы то ни стало… ведь можно работать и учиться в заочной средней школе» – нельзя было не выполнить.
Но суровая проза быта постоянно напоминала о себе. Слабая здоровьем мать не могла одна прокормить шестерых ребятишек, и мне, как старшему в семье, приходилось искать дополнительные заработки. Работал я тогда в Свердловском ботаническом саду в должности препаратора за сто целковых в месяц, но этого было мало, и я стал еще ночным сторожем на загородных территориях сада.
Лето сорокового года на Урале выдалось теплое. На жирном черноземе аккуратных грядок, парников и теплиц зрели помидоры, огурцы, дыни, тянулись к солнцу пахучие левкои, астры, гладиолусы. Нравилось мне в этом ярком многоцветье природы. А Елена Ширман еще писала:
«Наблюдай за всеми красками, впитывай, запоминай все запахи!..»
Днем было чудесно. А как начнет смеркаться, беру в руки берданку с холостыми патронами и начинаю обход владений. В шестнадцать лет на далекой пустынной окраине города да еще с ружьем в руках чувствую себя героем. Только что же это такое? Впереди шорох, даже слышится треск забора, а я ничего и никого не вижу!..
«У тебя куриная слепота, это же ясно, – пишет Елена Ширман, – тебе нужны витамины…»
Почти одновременно с письмом пришла посылка – с Кубани, от лейтенанта Красной Армии Михаила Васильченко. Имя это мне было известно: оно стояло на титульном листе прекрасно изданного сборника сказок «Изумрудное кольцо» рядом с именем Елены Ширман.
Копченая колбаса, шпиг, сахар, витамины. Записка от Миши Васильченко:
«Елена Михайловна шлет тебе это для подкрепления здоровья, а от себя добавляю пачку папирос…»
Влетело же ему за эту пачку папирос от хозяйки «страны Юнонии»!
Миша Васильченко был одним из первых граждан чудесной страны. Летом 1935 года ростовские пионеры поехали в лагерь, и там Елена Михайловна услышала его: превосходно рассказывал этот пятнадцатилетний паренек с украинским говорком русские народные сказки. Попросила записать – ничего не получилось. Тогда взялась сама. Отсеяла все, что где-то уже встречалось, отшлифовала до блеска язык, – и пошли с тех пор по свету, очаровывая детей и взрослых, герои «Изумрудного кольца» – крестьянский сын Данила, солдат Илья, богатыри Крутогор, Дубовер да Покати-Горошко. Сеяли всюду добрые семена, гнали взашей царей да богачей и никому не давали в обиду простой народ…
На удивление много и часто писала Лена, Ширман, наставляя адресата на путь и интересуясь буквально всем.
Вскоре стали приходить письма и стихи от других ребят и девчат, которые, оказывается, тоже были друзьями и воспитанниками Лены, поверяли ей все думы и тайны. И, наверное, так же, как я, внимали каждому ее слову. Граждане «страны Юнонии» устанавливали круговую связь.
Мы жили в замке из света и воздуха. Окружающий мир был прекраснее райских кущ, и Правда и Справедливость царствовали в нашей Стране Юности на равных началах с товарищем Поэзией. Из-под пера обитателей необыкновенного замка выходили баллады и романтические повести, стихи и рассказы о сильных и смелых людях, побеждающих Мрак и Смерть.
В творчестве – самая большая радость, самое великое счастье. Так внушала своим питомцам хозяйка «страны Юно», не позволяя никому из них упасть духом, отступить перед трудным перевалом. Ребята, которые ни разу не видели ни друг друга, ни самого дорогого им человека – Елену Михайловну, чувствовали себя членами единого крепкого коллектива.
Это было удивительно, почти неправдоподобно, но это было!
В течение одного только года, предшествовавшего началу Великой Отечественной, я получил от Лены Ширман не менее полусотни сердечных писем – от записок в пол-листочка до увесистых посланий в десять – пятнадцать страниц. Писала она, помнится, зелеными чернилами, четким крупным почерком, на простой, почти газетной бумаге. Писала обо всем – отвечала на трудные вопросы любого характера, давала глубоко продуманные советы: как помочь матери в воспитании младших сестренок и брата, как самому выйти из крутого положения (например, потерял свой первый паспорт…), что читать, чему учиться. И особенно учила собранности – как беречь время, совмещать работу с учебой, успевать за день все…
Теперь мы, бывшие «юнианцы», можем лишь поражаться, как она сама успевала работать в газете, сочинять стихи, учиться на последнем курсе Литературного института и писать часто, подробно, много к а ж д о м у и з н а с. Она словно спешила жить, спешила отдать всю себя людям – даже таким, как мы, незадачливые юные сочинители.
Хорошо сказал о ней Илья Сельвинский:
«Что поражает прежде всего в ее поэзии? Личность! С самых отроческих лет четко определившаяся личность… Елена Ширман – крупный характер, очень полно и всесторонне выразивший себя в горячих, жарких, огневых стихах… Она остро чувствовала ответственность перед своим временем».
Невозможно, конечно, положить на весы все, что сделала для людей, для своих многочисленных питомцев Елена Михайловна, щедрая хозяйка «страны Юнонии», – ведь она была л и ч н о с т ь ю, к р у п н ы м х а р а к т е р о м и в поэзии, и в жизни. Она была всегда сама собой. И то, что она была, что она, с ее пониманием мироздания, чести, товарищества, давала нам уроки жизни, осталось с нами навсегда. Стало так, как она хотела!..








