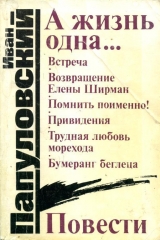
Текст книги "А жизнь одна..."
Автор книги: Иван Папуловский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 19 страниц)
4.
Перед самым Новым годом Гендрик Петрович заехал в правление колхоза «Партизан». Накануне выпал обильный снег, ударил мороз, крепкий и свежий. Мохнатым инеем красил брови и ресницы. Обстучав снег с сапог, полковник вошел в жарко натопленную комнату.
Гуннар расхаживал из угла в угол, взволнованный и чем-то раздраженный. В креслах, у его стола, сидели маленькая, сгорбленная старушка и шапочно знакомая Гендрику Петровичу доярка Эрна Латтик.
– Не помешаю?
– Наоборот, поможешь! – сказал Гуннар.
Старушка, нервничая, расстегивала и вновь застегивала пуговицы пальто, потом сбросила с волос тяжелую шаль, обнажив совсем седую голову и, казалось, шире раскрыв такие же седые неулыбчивые глаза. Эрна время от времени поглаживала то руки ее, то колени.
Гуннар остановился перед Гендриком Петровичем.
– Вот ты, бывший чекист, полковник, – сказал он, – можешь объяснить им, что бандитские главари военных лет давно переловлены и расстреляны и что вообще в нашей маленькой республике немыслимо карателю и убийце, кто бы он ни был открыто ходить двадцать лет среди людей и не быть опознанным? Можешь ты это сделать, а?..
– Нет, вообще не могу.
Гендрик Петрович сказал это тихо, но эффект произвел такой, что Гуннар мгновенно осекся, удивленно взглянул на друга.
– Не могу, потому что надо знать конкретные обстоятельства, чтобы судить, что возможно и что невозможно.
Яростно щелкнув суставами пальцев, председатель «Партизана» снова прошелся по кабинету. Седая старушка благодарно посмотрела на бывшего чекиста. Но глаза ее остались печальными. Столько невысказанной боли стояло в них!
– Рассказывайте! – попросил Купер.
– Я мать катриской учительницы, той, что живьем закопали… – сказала старушка и добавила: – Лучше бы уж меня…
В общем, она узнала в Освальде карателя и убийцу. Да-да, старушка хорошо запомнила лицо бандита, его голубые глаза, жесткие завитушки черных густых волос. А то, что поседел… так сединой материнское сердце не обманешь.
– Знакомый портрет Цыгана! – тихо, словно про себя, произнес Купер.
Старушка все-таки расслышала.
– Ага, похож на цыгана. Похож… – повторила она. И медленно, словно через силу, стала рассказывать вновь о пережитом.
…В Катри Цыган появлялся несколько раз – и все в сорок первом году. Из местных кайтселийтчиков, входивших в его банду, ни один не вернулся домой. Но если Освальда Сиреля сейчас привезти в Катри, там найдутся люди, которые вспомнят и узнают его, – в этом старенькая Хелене Паю была уверена. И Гендрик Петрович уже почти не сомневался в том, что она права.
Но кто же тогда казнен был в сорок шестом – за убийство семьи парторга Иннувере? Могла ли произойти ошибка? И как могла? Невероятно!
Нет, чекист и теперь не хотел поддаваться чувству.
– Не будем торопиться, – сказал он. – Не вправе мы обвинять человека только потому, что он похож на бандита, тем более если официально известно, что тот бандит мертв.
– Он жив, он здесь! – выкрикнула с болью седая старушка. – Да поверьте мне – здесь он! Здесь!
Дверь открылась, и в кабинет вошел Освальд Сирель. Холеное, раскрасневшееся от мороза лицо его сияло отменным здоровьем, одет он был по-рабочему, в ватнике и валенках, – только что ездил на фермы.
– Мир народу! – весело приветствовал он всех.
А старушка, увидев Освальда, откинулась на спинку кресла, закатила глаза, теряя сознание.
– Что с ней? Воды, нашатырного спирту!.. – крикнул Освальд.
Он сбросил с плеч ватник, налил в стакан воды и передал его Эрне, а сам полез в аптечку, висевшую в приемной, за дверью председателя.
Нашатырный спирт и вода помогли Хелене Паю прийти в себя, она глубоко вздохнула и медленным взглядом обвела присутствующих.
Гендрик Петрович внимательно следил за лицом агронома. Следили за ним и Гуннар и Эрна.
– Арестуйте его сейчас же, арестуйте!.. – выкрикнула старушка. – Это ты убил мою дочь, мою единственную… ты!.. – бросила она в лицо Освальду. Поднялась и пошла на него.
Освальд невольно отступил на шаг, взглянул на председателя и чекиста. От внимания Гендрика Петровича не ускользнуло, как преобразилось лицо Освальда. Сдвинулись брови, обозначилась жесткая складка. Но все это только на миг.
– Что… Что т-такое? – недоуменно пожал он плечами. Глаза его теперь уже искали поддержку у Гуннара и Гендрика Петровича. – Кто эта бабушка?
Он уже вполне овладел собой.
– Что с вами, милая? – спросил он ласково. – Вы за кого-то меня приняли, не правда ли? За кого же?
Старушка, обессилев, вновь опустилась в кресло. Молчала.
– За убийцу ее дочери, – хмурясь, сказал Гуннар. – Она мать пионервожатой из деревни Катри… Кайтселийтчики убили ее дочь в сорок первом.
Лицо Освальда стало мучнисто-синеватым. На лбу выступил пот. «Помнит… знает, о ком речь!.. – пронеслось в голове Гендрика Петровича. Но тут же он остановил себя. – Да от такого обвинения и чистый человек ошалеет».
Агроном обессиленно плюхнулся на ближайший стул, широко разбросав обутые в валенки ноги.
– Бывает же такое, – сказал он наконец. – Ну и ну… Так что это за деревня Катри? Какие там люди были – свидетели страшного дела? Где они?..
«Сказал: «свидетели», – отметил про себя Гендрик Петрович». И это слово стало для него еще одним доказательством вины Сиреля.
– Я думаю, нам не следует начинать самим следствие, главный агроном, – прервал Освальда Гендрик Петрович. – А чтобы разобраться и отвести от вас подозрения, предлагаю вызвать прямо сюда оперативных работников. Не возражаете?..
– Какие могут быть возражения!.. – поспешно ответил Освальд. – Наоборот, я заинтересован…
Гендрик Петрович снял телефонную трубку. Набрал знакомый номер. Освальд был уже спокоен и холоден. Только брови совсем сошлись над переносицей и двойная складка врезалась глубже.
– Предлагают приехать в райцентр. Поедем, – сказал Гендрик Петрович, закончив разговор. – Поехали, – почти приказным тоном добавил полковник, обращаясь к Освальду и жестом приглашая Эрну и старушку Паю.
…Председатель колхоза «Партизан» весь день был не в себе. Дома не ел, не пил, отвечал жене невпопад.
– Да что с тобой сегодня? – рассердилась Хельми.
Гуннар рассеянно погладил ее волосы и опять весь ушел в свои думы. Он все еще верил Освальду. Не хотел допускать сомнений. И откуда только выкопала Эрна эту древнюю старушку? Да не перепуталось ли у нее от горя и старости все в голове?
Нелепый случай может надолго выбить из колеи его агронома – вот этого Гуннар боялся пуще всего. И с нетерпением ждал знакомого пофыркивания машины Освальда за окном: приедет сразу – так они условились при расставании.
Только поздно ночью в доме председателя резко зазвонил телефон. Гуннар торопливо схватил трубку. На другом конце провода говорил районный прокурор. И по тому, как суровело, наливалось кровью лицо Гуннара, как опять внезапная, так не свойственная ему растерянность прозвучала в его охрипшем голосе, Хельми поняла, что произошла катастрофа. Какая же?
Голос прокурора зазвучал громче. Слышен был в комнате:
– Вашего главного агронома придется до выяснения задержать, улики оказались достаточно вескими.
– Арестовали Освальда? – изумилась Хельми.
– Задержали, а не арестовали, – сердито буркнул муж.
– Объясни. Расскажи. Я же тебе не чужая!
Гуннар рассказывал. Хельми слушала и не верила ушам своим. Освальд – и вдруг преступник? Ну нет! Освальд так тактичен, внимателен, добр – разве преступники бывают такие? Абсурд!
Хельми родилась в семье сельского школьного учителя – человека добропорядочного, считавшего свою профессию самой благородной на свете. Учить детей первым основам знаний, открывать перед ними сложный мир всего сущего было его жизненной потребностью, и он даже в годы оккупации продолжал работу в школе. В политику, по его словам, никогда не вмешивался, но не стал отговаривать своего единственного сына, когда тот впопыхах забежал домой сообщить родителям, что немцы близко и он с ребятами должен уйти в лес. Старый учитель отлично понял, с какими ребятами и в какой лес уходил его любимец и надежда. Достал из жилетного кармашка золотые часы – самую дорогую вещь в доме – и передал сыну. Сдерживая слезы, поцеловал горячий лоб сына, сказал: «Иди… и будь здоров!»
Брата Хельми теперь знает только по фотографиям – пропал без вести. Ходили слухи, что он погиб при отступлении, но где и как – никто не знает. Немцы и омакайтсчики[3]3
«Омакайтсе» («Самозащита») – профашистская организация, сотрудничавшая с гитлеровскими оккупантами.
[Закрыть] не раз допрашивали старого учителя и его жену, но репутация самого учителя, «не признающего политики», спасла семью от серьезных потрясений.
Теперь уже никого, кроме Гуннара, не осталось из родных у Хельми. Но отец успел благословить ее вступление в комсомол, завещал единственной дочери свою профессию, подчеркнув при этом, что надо в первую очередь учить детей деревенских, потому что в городе учителей предостаточно…
С Гуннаром Хельми нередко ездила в Таллин и в Тарту, побывали они в Москве и Ленинграде, но привычно и естественно жить казалось ей в милой сердцу деревне. Где рядом шумит-гудит дремучий лес, ветер раскачивает тяжелые колосья в поле. Где нет чужих – каждого знаешь от рождения до смерти.
Полным счастливого очарования был последний год. Хельми передала в старшие классы своих малышей, которых учила четыре года. Сколько людской благодарности было высказано молодой учительнице, сколько шуток и тостов было произнесено по этому поводу Гуннаром и, конечно, Освальдом!.. Как нежно Освальд говорил о детях, какие высокие слова находил для них, учителей!
А сейчас Освальд в тюрьме? Его обвиняют в страшных преступлениях? Да нет же, тысячу раз нет!
5.
Приближался новогодний вечер. В доме Гуннара переливалась разноцветными огнями красавица елка, украшенная руками Хельми. Однако настроение было далеко не праздничное. Хельми, переломив себя, хотела пригласить гостей, но Гуннар сказал, что поздравит молодежь на открытии новогоднего вечера в колхозном клубе, а дома они будут встречать Новый год втроем.
– Ты и я, – сосчитала Хельми, – но кто же еще?
– Еще полковник Купер.
Хельми поморщилась.
Она недолюбливала этого полковника. Старый чекист ей, общительной и веселой женщине, казался и в добрые времена слишком суровым, да и скучным гостем для праздника. Он уже совершил все, что ему надлежало в жизни совершить, ей же были по сердцу люди с будущим. А внезапный арест Освальда, арест, как она думала, несправедливый, резко настроил Хельми против Купера. Пожалуй, это было решающим…
Сейчас Хельми заново изучала каждую черточку на высохшем, будто дубленом лице Гендрика Петровича, оценивала его точно рассчитанные движения. Чем больше она присматривалась к полковнику, тем явственнее чувствовала, что не в штатский темный пиджак, а в китель, стянутый скрипучими ремнями портупеи, должен был быть одет этот хмурый человек.
Тень Освальда Сиреля стояла между ним и ею. Новогоднего веселья не получалось. Прослушав бой кремлевских курантов, мужчины молча чокнулись друг с другом и залпом выпили. Хельми только коснулась бокала губами.
Были тосты, но не те, какие обычно произносил Освальд, – не веселые, не смешные, будто встретились не у елки в теплом доме, а на перекрестке фронтовых дорог и раздумывали о судьбах Родины, а то и всего человечества…
…Ссора произошла под утро, когда уже пора было расходиться. Хельми проскучала новогоднюю ночь и едва сдерживала раздражение. Искала только повода, чтобы сорваться.
– Спасибо вам за все, – сказал Гендрик Петрович. – Мне было хорошо. Хотелось бы, чтобы весь новый год был таким же хорошим.
Хозяйка дома внимательно посмотрела на него и вдруг выпалила:
– Вам-то хорошо! А каково бедному Освальду в тюрьме?
– Жалеете его?
– Жалею. А вам что, это чувство незнакомо?
Полковник вздохнул.
– Знакомо, дорогая. Да ведь жалеют друзей… Жалеют порой и тех добрых людей, которые совершают ошибки… тяжкие. Но жалеть убийц, фашистов жалеть – этого я не понимаю и не принимаю.
Хельми прикусила губу. Бросила вызывающе:
– Но какое отношение имеет это к нашему доброму Освальду?
Гуннар молчал.
– Разве мало двойников на свете? Какой-то выжившей из ума старухе Освальд показался похожим на одного негодяя!.. И этого, по-вашему, достаточно, чтобы посадить человека в каталажку?
Гендрик Петрович не спеша встал, прошелся по комнате. Остановился перед Хельми.
– Как вы думаете: если б вы встретили человека, которого запомнили двадцать лет назад, показался бы он вам незнакомым? Вряд ли. Ну ладно, есть люди с невыразительными, незапоминающимися лицами, но Освальд такой, что его не забыть, не спутать. Я сам отлично помню его…
– Отлично помните, – с горечью повторила Хельми. – А потом выяснится, что память подвела. И как тогда исправить ошибку? Нет, надо верить живым людям больше, чем памяти.
На том и разошлись, недовольные друг другом, каждый со своим камнем на сердце.
О том, что главный агроном арестован и по его делу ведется следствие, колхозники «Партизана» проведали лишь после Нового года. О сути обвинения никто, кроме председателя, его жены, парторга и доярки Эрны Латтик, в колхозе не знал. Следователь просил молчать, пока истина не будет установлена окончательно.
На одном из заседаний правления Аксель Рауд высказал от имени своей бригады требование: объяснить, за что арестован нужный колхозу отличный работник, хороший человек.
Гуннар ответил коротко:
– Точно не знаю. Но связано это со временем оккупации. Что-то там неясно.
– Даже те, кто служил в немецкой армии, давно Советским государством амнистированы, – сказал Рауд. – Почему агронома арестовали теперь? Может быть, ты, уважаемый парторг, объяснишь? – обратился он к Видрику Осила.
Видрик только что вошел в помещение. Крепыш в больших роговых очках на широком носу с горбинкой, он известен был своей прямотой и откровенностью резких суждений. Но на этот раз и Видрик уклонился от прямого ответа.
– Следствие пока не закончено. А раз так, всякая болтовня во вред, – отрезал он.
И Видрик, и Гуннар еще надеялись, что невиновность Освальда будет доказана.
Вскоре Гуннара пригласили для дачи свидетельских показаний.
– Какую фамилию носил Освальд Сирель в вашей части? – спросил его следователь по особо важным делам.
Гуннар задумался. Но припомнить не смог. Может быть, и не слышал никогда.
– Кучерявый его все звали. Кучерявый, и всё, – сказал Гуннар.
– Кучерявый не фамилия, – недовольно сказал следователь.
Гуннар только развел руками.
– Недолго мы были вместе.
– Попробуем по-другому. – предложил следователь. – Я буду называть фамилии. А вы, если какая-нибудь из них окажется знакомой с тех давних времен, остановите меня. Эрм? Элк? Инт? Отс? Мяэ? – Все короткие, как выстрелы.
– Нет, нет, нет!
– Урб? Уус? Укк?
– Укк? – переспросил Гуннар. – Похоже, Укк, помню. Укк был. Слышал на перекличке.
– Так, может быть, Кучерявый и Укк – одно лицо? Одно?
– Не знаю, – признался Гуннар. – Не помню Укка.
Сейчас ему уже казалось, что Укк действительно фамилия Освальда. Сирелей ведь в отряде не было. Однако логика такая была слишком зыбкой. Больше походила на самовнушение.
– А все-таки… Ну о чем вы сейчас думаете? – спросил следователь.
– Хочу вспомнить Укка и не могу, – ответил Гуннар.
– Ладно, вы свободны. Спасибо, до свидания, – сказал следователь.
Пять человек из деревни Катри опознали в Освальде убийцу учительницы.
– Ошибка. Страшная ошибка, – твердил Освальд.
Его спросили, что он знает о расстреле эшелона с женщинами и детьми.
– Да ничего не знаю. И не слыхал даже, – чуть не плакал Освальд.
Не нашлось людей, кроме Гуннара, из тех, кто служил вместе с ним в истребительном батальоне в первые дни войны, – иные погибли, иных развеяло по всей стране. Никакими документами и никем из живущих людей не подтверждались его пребывание в госпитале и служба в Советской Армии – на Украине и в Белоруссии.
Однако кое-что говорило и в пользу Освальда. Он утверждал, что в 1944-м, осенью, после контузии, был демобилизован и отправлен на родину, в освобожденную Эстонию. Больше года работал на железной дороге – восстанавливал пути, сооружал склады, строил жилье. Нашлись и люди, и документы в архивах, подтверждающие справедливость его слов.
…Подняли дело расстрелянного Михкеля Укка. Прочли его показания. Родился он и жил до 1940 года в Латвии. У отца хозяйство было крепкое, батраков, конечно, держал, но и сам от зари до зари гнул спину. Михкель поступил в военное училище не кончил… Все советская власть поломала. Все отобрала. И землю, и власть… А для чего человек живет, как не для богатства и власти? Отец хотел не чужой, а свой дом сжечь, не чужой, а свой скот порезать, чтобы врагам не достались; только поджег, а его свой же батрак топором… Мать – хворая – в дыму задохнулась. Сам Михкель едва в Эстонию ушел – а то б в Сибирь. Одинок, как волк. Как волк и горло перегрызал. «Ни о чем не жалею. Пощады не прошу!..»
Трудно было не доверять таким показаниям. Не вело от них никакой ниточки к Освальду. На том, казалось, и конец.
Но следователь-чекист, начинавший самостоятельную службу еще в отделе Гендрика Петровича и веривший свято в интуицию своего учителя, не прекратил дела. Не прекратил, хоть и вопреки здравому смыслу. Искал Укков по всей Прибалтике. Нашел двух честных работяг. А в латышской деревне, где жил раньше Михкель Укк, вдруг услышал историю, которая осветила все по-новому.
– Приезжал в 1941-м, как же, ходил тут – форма у него новенькая была, вроде офицерская, и собака еще. Землю отцовскую ногами мерил, а слова ни с кем не вымолвил, – рассказывал старый дед Янис, про которого говорили, что только горб его спас от солдатчины и смерти в минувшее лихолетье. – Вон и дед Лаурис со своей старухой тоже видели его тогда… Да вот беда – может, это был Михкель, а может, и не он…
У следователя брови полезли на лоб.
– То есть… как это – не он?
– Так ведь их, сынок, два брата было, близнецы. Михкель и Ивар. Только Михкель-то грубиян был, а Ивар вроде ласковый и хитрун… По голосам, ну, по словам еще только отличали их. А так мать-покойница и то, бывало, путала… Ушли из деревни оба в сороковом, значит, когда советскую власть у нас восстановили…
Теперь кое-что прояснилось. Но только кое-что.
Следователь выложил Освальду все, что узнал. Ждал, как же подследственный станет теперь оправдываться, изворачиваться. Но Освальд изворачиваться не стал. Опустил голову, задумался. Потом заговорил глухо:
– Надоела ложь. Записывайте… Чистую правду. Да, отец – кулак, кровопийца. Михкель – брат, проклятый людьми бандит. Однако мы с ним хоть и были близнецы, а разные люди. Враги. Меня в семье изгоем считали. Я только с батраками дружил. Да, со страху, от растерянности уехал с Михкелем вместе в Эстонию, на землю предков. Только сразу мы рассорились. Я сказал: буду честно новой власти служить. Справедливая власть. А он грозился: пристрелю. Сбежал я от него. Больше не виделись. Работал я в таллинском порту грузчиком. Началась война – добровольно в истребительный батальон записался…
Освальд-Ивар, так он рассказывал теперь, после осколочного ранения потерял сознание, очнулся – никого вокруг, одни мертвецы. К счастью, рана оказалась неопасной. Да что делать? Как найти своих? Ушли далеко. Долго он скрывался в лесах Эстонии и на Псковщине, пытался перейти линию фронта или попасть к партизанам, но не удавалось. Спасибо, кое-где на хуторах подкармливали, но прятать боялись. Однажды, уже весной 1943 года, немцы захватили его спящим в старом стоге соломы и под страхом смерти мобилизовали в фашистскую часть. Но он не участвовал ни в каких боях: не доверяли ему оружия. Когда началось освобождение Советской Эстонии, он сбежал. Да… Не хватило мужества во всем открыться, боялся, что его станут преследовать за службу у немцев, поэтому и сменил фамилию Укк на Сирель, заодно сменил и имя. Работал честно, сил не жалел. О судьбе брата Михкеля не знал и не знает ничего. Теперь ясно, что все обвинения, которые предъявляются ему, Освальду-Ивару, относятся к его брату Михкелю.
Чем дальше говорил Сирель, тем становился спокойнее. Голос его звучал все увереннее.
В общем, он, Освальд-Ивар, никаких преступлений против своего народа не совершал. Что делать, не повезло ему: ранение в бою под Сидекюла спутало все карты, помешало его патриотическим намерениям. Виноват только в том, что некоторое время состоял в фашистской части, но там он исполнял чисто хозяйственные работы. После войны старался честным трудом искупить и эту вину. Что касается жителей деревни Катри, которые признали в нем убийцу учительницы, так причина тому, несомненно, в сходстве с ненавистным ему братом.
Сверка фотографий Освальда и его брата сходство целиком подтверждала. Не было оснований сомневаться в искренности признания Сиреля-Укка. Точнее, не было прямых оснований. А интуиция подсказывала: возможно, это признание – заранее заготовленный на всякий случай вариант. Подсказывать-то подсказывала, а следствие зашло в тупик. Стало ясно: если дело дойдет до суда, Освальда оправдают за отсутствием улик. Интуиция следователя, как известно, уликой не является.
К началу сева главный агроном колхоза «Партизан» Освальд-Ивар Сирель-Укк предстал пред светлыми очами своего председателя. Держался так, как и положено без вины виноватому, ждал сочувствия товарищей по работе…








