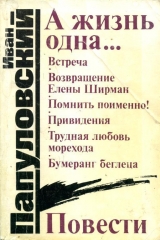
Текст книги "А жизнь одна..."
Автор книги: Иван Папуловский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
10.
Все заметнее стали редеть славные ряды ветеранов Великой Отечественной. От старых ран, от новых болезней, просто по возрасту уходят они из жизни. Не столь уж много бывших участников обороны Москвы и Ленинграда, великих сражений в Сталинграде и на Курской дуге, в Белоруссии и за Днепром, на Висле и Одере, в Берлине и Праге «дотянуло» до наших дней.
Случилось так, что капитан в отставке Николай Иванович Крылаткин после кончины известного генерала стал председателем совета ветеранов армии. Вначале испугался столь солидной ноши, а потом даже гордился оказанным ему доверием, организовывал новые встречи ветеранов, привлек целые пионерские дружины для оказания помощи престарелым и одиноким бывшим фронтовикам.
– Ну, батя, тебе бы сейчас еще генеральское звание, – посмеивался над дедом мой отец. – А что – предшественник-то твой ведь генералом был!..
– Брысь, мелюзга, – отмахивался дед.
А мне вспомнилось, как отец, учась еще в седьмом классе, очень удивился, когда увидел увеличенный портрет Николая Ивановича на стенде в школьном музее под красочно оформленной надписью: «Родители наших учащихся – орденоносцы Великой Отечественной войны». А ведь был его первенцем, дружили они по-мужски преданно и крепко, и отцовские рассказы о войне подраставший Ваня слушал с восхищением, да вот как-то ни разу не задумался над тем, что отец его может стоять в ряду тех, кого зовут героями Великой Отечественной. Впрочем, не трудно догадаться, почему так случилось: ведь Николай Иванович обычно рассказывал не о себе…
И все-таки понял, почувствовал мой отец, как всем своим существом жил его родитель воспоминаниями о войне, об однополчанах. И даже разобрался, что не ко всем из них относился он с братской нежностью. Особенно не жаловал дед бывшего соученика из параллельного класса Олега Царева. Читатель, может быть, помнит пройдоху, который с легкостью необыкновенной пошел в народное ополчение и растерялся, струсил при первом же налете фашистской авиации, а потом всю войну прослужил на маленькой тыловой станции. После войны он возглавил дом народного творчества, стал респектабельным деятелем культуры, удачно женился – жена помогла ему получить высшее образование, работая на двух работах. Дед хорошо знал и уважал эту женщину, а Царев, «выйдя в люди», бросил ее с ребенком и женился на другой, потом на третьей. И ведь попадали же под влияние прохвоста хорошие женщины – одна выучила, другая одевала с иголочки. Но первых двух обманул и оставил Царев, зато третья сама прогнала его…
Как личную обиду воспринимал дед моральное падение некоторых участников войны, презрительно говорил:
– Честь на мягкую мебель променял? Думал, за твои заслуги боевые тебе все прощаться будет?
Не любил горлопанов, выскочек, корыстолюбивых и нахальных. И не стеснялся сказать им прямо, что о них думает.
Совсем недавно вновь появился Царев на пороге дедова дома. Мама сказала мне, что Николай Иванович не сразу признал в благообразном, но явно опустившемся старом человеке бывшего школьного кумира, а признав, встал в дверях:
– У нас неприемный день, гражданин!..
Гость ошалело посмотрел на хозяина, потом жалко улыбнулся: «Извините, не знал…» Но дед все-таки впустил его в квартиру, часа два они сидели взаперти, потом сухо распрощались без обещаний повидаться еще. И никто не знает, о чем они говорили те два долгих часа.
В совете ветеранов возник у Николая Ивановича конфликт с одним из его членов, который с годами все складнее и складнее повествовал о своих подвигах. Невольно возникало сомнение…
– Врет ведь беспардонно, но уж здорово хорошо!.. – с усмешкой рассказывал про него дед. – Не только школьники – взрослые принимают за чистую монету.
Я видел этого человека – даже в старости он оставался высок и строен, седые волосы шли к его загорелому, почти коричневому лицу, карие глаза не утрачивали блеска.
На каком-то собрании, где Н. (назовем его так) расхвастался уже перед бывалыми фронтовиками и предложил отдать в какой-то районный музей свою старую шинель, Николай Иванович не выдержал:
– Друг ты наш боевой, – сказал он не без ехидства, – ведь шинель в музее – это уже святая реликвия, но твоя-то шинель, по-моему, от меридиана Казани ближе к фронту не была?
У Н. округлились глаза, он беспомощно и смешно вытянул губы, силясь что-то сказать, но так и не произнес ни слова. До сей минуты не знал он, что один из проницательных журналистов навел в архивах справки и выявил, что искусный рассказчик множества боевых историй всю Отечественную просидел в райвоенкомате в Татарии. Делал очень нужную работу, даже на фронт просился – до того, как увидел первых раненых фронтовиков, а потом уж никуда и не просился…
Однажды, еще когда была жива бабушка, а я ходил в школу, дед прочитал в «Правде» заметочку из Калинина: токарь-расточник Василий Петрович Щепкин обучил своей профессии тридцатого ученика…
Дело было в пятницу вечером, я пришел на выходные к деду и бабушке. Помню, включил телевизор, а бабушка Аня устроилась в своем любимом кресле напротив, приготовив вязанье. Дед с газетой уселся на диване. И вдруг он что-то забормотал себе под нос, потом вскочил, взволнованно прошелся перед нами по комнате.
– Нет, ты смотри, что делается! – сказал он громко и хлопнул газетой по своей ладони. – Щепкин Василий Петрович! Токарь-расточник! Наставник!
Бабушка из-под очков посмотрела на него внимательно, отложила вязанье.
– Твой Вася Щепкин? Тот ефрейтор? – почти шепотом спросила она.
– Он! Он! Мой Вася Щепкин! Он же был из Калининской области! Только отчества его я не помню. Петрович! Василий Петрович! Почему бы нет?
Я даже выключил телевизор.
– Из Восточной Пруссии, деда, этот Вася Щепкин, да, деда? – спросил я.
– Верно, внучек, из Восточной Пруссии!..
Ефрейтор Вася Щепкин, Василий Петрович Щепкин, – это он на восточно-прусской земле вместе со своим взводным Николаем Крылаткиным ворвался в подвал каменного дома, откуда били по нашим наступавшим войскам три немецкие пушки. Это он раскроил череп фашисту, стрелявшему в деда. И это он с последней противотанковой гранатой подобрался к фашистской самоходке «фердинанд», расстреливавшей в упор старый дом, занятый взводом Николая Ивановича…
Много еще было разных дел, в которых храбрость и смекалку проявил ефрейтор Вася Щепкин. После Восточной Пруссии дед потерял из виду своего боевого друга, ждал, что вот на какой-нибудь новой встрече однополчан из рагулинской дивизии наконец увидит и обнимет его. Но годы шли, а Вася Щепкин не объявлялся.
На телеграмму в Калинин Василий Петрович Щепкин ответил телеграммой-молнией, а в первую же субботу уже сидел у нас в обнимку с дедом – веселый, быстрый в движениях пожилой мужчина с наголо бритой головой, шутливо называвший себя «Фантомасом».
– Вася, Вася… вот ты каким стал, друг мой сердечный!.. – повторял Николай Иванович умиленно. – Но где же твои кудри, Вася, ведь я б тебя без кудрей на улице не узнал.
– Дурные кудри покинули умную голову, – шутил Василий Петрович, а сам тоже внимательно разглядывал деда. Вздохнув, глубокомысленно изрек: – А ты – молодец, сохранился. Даже глаза твои рассиние ничуточки не потускнели. Ей-бо, молодец!..
Бывший ефрейтор Щепкин на несколько лет был старше своего командира взвода, но на «заслуженный отдых» они вышли в один год. И бравый старый солдат, не утративший живости характера, приехал к деду в Москву на День Победы да так и остался у него почти до конца лета. Я был у родителей, когда Василий Петрович с легким дорожным чемоданчиком, лучезарно улыбаясь, появился на пороге квартиры. Он будто впервые оглядел так понравившийся ему «синий зал», покрутил своей наголо бритой головой:
– Д-да-а, хорошо устроился ты в этом раю, лейтенант, ей-бо, хорошо!
Он привык называть своего взводного по тогдашнему воинскому званию, не желая знать, что в запас и в отставку дед ушел капитаном. Но надо было слышать, сколько уважения и доброй солдатской любви звучало в обыкновенном слове «лейтенант», которым чаще всего называл Николая Ивановича ефрейтор Щепкин!..
И дед молча улыбался, синие глаза его добродушно прищуривались – он безмерно радовался присутствию верного боевого друга и, наверное, все еще видел его тем бесшабашно удачливым, находчивым и бесстрашным бойцом из сорок четвертого года, каким вспоминал целых три десятилетия до первой послевоенной встречи.
Меня восхищала их предупредительность друг к другу и манера «зацепить» приятеля на какой-нибудь мелочи. Не раз в присутствии кого-нибудь из нас Николай Иванович вдруг прикладывал ладонь к «босой» голове Василия Петровича и говорил протяжно:
– Вася, Вася… где же твои русые кудри?
Похоже, он просто не мог привыкнуть к тому, что друг его сбрил свои заседевшие волосы.
Как оказалось, тот приезд ефрейтора Щепкина к взводному Крылаткину стал их последним свиданием. Дед только что оформил пенсию, получил бессрочный пропуск на свое предприятие и пригласил Василия Петровича в родной цех. Кстати, начальником его стал один из бывших учеников деда – Петр Михайлович Нестеров, человек небольшого роста, необычайно подвижный, блестящий рассказчик и балагур. Он с отличием окончил профессионально-техническое училище, стал сменщиком Николая Ивановича на его огромном карусельном станке, а потом заочно окончил институт, Академию народного хозяйства. Под его руководством прошла полная реконструкция этого «завода в заводе», как называли цех в коллективе, сократилось число работников – по насыщенности автоматикой, роботами, ЭВМ предприятие заняло одно из первых мест в Москве.
Петр Михайлович объяснил двум уважаемым старикам принципы действия нового агрегата, познакомил с инженером, возглавлявшим бригаду карусельщиков.
– Бригадир – дипломированный инженер! Вот это перемены!.. – восторгался дед и заражал своим восторгом Василия Петровича.
Они были счастливы, что увидели эту сказку, дожили до удивительного времени.
11.
Накануне похорон деда в Останкине собралась вся наша большая семья: приехали мои тетя Майя и Раиса с мужьями, робко вошли в квартиру их дочери в торжественных школьных платьях – самой старшей недавно исполнилось тринадцать… Вышли познакомиться с ними Вальтер и Эльза Майеры и тут же удивили всех своей предусмотрительностью: вручили девочкам по сувениру – берлинскому медвежонку с золотой короной на голове и набору красок и карандашей. Девочки сделали красивые книксены, но их остановил Курт Набут – вручил каждой шверинского Петерменхена.
Девочки удалились в мамину спальню – они всегда располагались там, о чем-то шептались, крутились перед зеркалом…
Холодными губами поцеловала меня в лоб тетя Рая. Она уже не выглядела, как когда-то, воздушным созданием в шелках, заметно постарела и подурнела за последние годы. А тетя Майя с мужчинами – Вадимом и Платоном – окружили меня:
– Ну, курсант, увольнение получил?
– Получил.
– Да, теперь ты у нас один остался – Николай Иванович Крылаткин. Сам старший и сам младший…
– На новом витке спирали, как говорил дед, – со вздохом сказала тетя Майя.
Она казалась мне самой красивой из всех женщин нашего ближайшего окружения, всегда деятельной и мудрой, даже в трауре она светилась какой-то щедрой добротой, вела себя очень естественно. Она с немым укором посмотрела на свою плачущую сестру, даже раз сказала ей:
– Рая, не надо!..
И я знаю, что тетя Майя очень глубоко переживала утрату, может быть – больше всех, потому что беззаветно любила своего старого отца – солдата, гордилась им, его судьбой, скорбела всем сердцем, но слез своих не показывала. Она очень сдружилась с Эльзой Майер, дружелюбно беседовала и с Вальтером и с Куртом Набутом – ее души и внимания хватало на всех. В какой-то момент, выйдя в коридор, я услышал ее разговор с моей мамой – они сидели вдвоем на кухне, что-то готовили к ужину. Пока я рылся в одном из встроенных шкафов, они вели неторопливую беседу. Голос тети Майи был грустный и ровный, и хоть я не видел их лиц, но почувствовал, как внимательно слушала ее моя мама.
– Нам казалось, что нас он и не воспитывал в том смысле, как это принято, – говорила раздумчиво тетя Майя. – Твоего Ивана Николаевича, пожалуй, выделял только как старшего, который должен приглядеть за младшими, то есть за нами с Раей. Но сам был так ко всем добр и внимателен, что и мы становились добрыми и внимательными друг к другу. Весь дух в семье такой поддерживал. С мамой нашей, Анной Порфирьевной, по-моему, ни разу в нашем присутствии не поспорил, хотя, конечно, случались и между ними разногласия. Только однажды, помню, когда твой Иван уже на втором курсе института решил жениться, – ведь влюблен был в тебя без памяти, как сейчас помню те ваши счастливые дни, – они разошлись во мнениях. Мама считала, что рано, а отец ответил ей: «А вдруг это его единственная любовь – на всю жизнь? Как у нас с тобой? Пусть женится – поможем!» Ну, как помогали, ты и сама, небось, помнишь. Да и нам с Раей, что там говорить, всю жизнь чем-то помогали. Кажется, он тогда только и жил полнокровно, когда знал, что кому-то нужен…
Ох, как верно тетя Майя все подметила!
Я незаметно ушел из коридора, не желая мешать их беседе.
Курт Набут, сидя в глубоком кресле в нашем «синем зале» – в том самом кресле, которое любил Николай Иванович, рассматривал пачки разрозненных фотографий, не вклеенных в альбомы, откладывал и перекладывал их в только ему известном порядке. Вальтер и Эльза Майеры, вернувшиеся из города, тихонько прошли мимо него на «свою половину», за раздвижную стенку, – он их даже не заметил. И лишь появление моей матери, объявившей, что скоро будем ужинать, заставило его поднять глаза. Тогда он медленно встал, подошел к столу и разложил на нем десяток отобранных снимков.
– Смотрите, что выходит… – сказал он негромко и, мне показалось, даже озадаченно. – Между этими фотографиями – десятилетия. А Николай Крылаткин почти не меняется. Вот таким я увидел его впервые на Восточном вокзале в Берлине, а этот снимок сделан пятнадцать лет спустя…
Курт больше других вспоминал первую после демобилизации поездку Николая Ивановича и Анны Порфирьевны в Шверин, он все исчисления производил от той поры, как главной точки отсчета, и, конечно, только в его представлении облик деда не менялся десятилетиями. Впрочем, мы с Куртом не спорили.
Распрощавшись с многочисленными участниками траурной церемонии, приезжавшими из разных мест страны, мы с отцом и мамой на заводском микроавтобусе проводили в аэропорт немецких друзей – Эльзу и Вальтера Майеров и Курта Набута, вылетевших в Берлин одним самолетом. Прощание с ними было трогательным – что говорить, многие друзья нашего деда искренне удивились такой отзывчивости симпатичных немцев на наше горе, своим присутствием они действительно взяли на себя часть нашей скорби, воздали должное человеку, которого почитали при жизни. Знал бы это Николай Иванович!..
Потом я поехал проводить моих родителей в Останкино.
– Зайди, Николенька, кофейку выпей, – заботливо предложила мама, выйдя из микроавтобуса и зябко закрывая плечи шелковым платком.
– Конечно, сынок! – поддержал отец.
Он, по-моему, очень крепился все эти дни, чтоб не дать волю чувствам, не сорваться, и постарел, наверное, сразу лет на десять, не меньше. Кудлатая, слегка вьющаяся шапка волос на его большой голове стала совсем серебристой.
Сколько помню и знаю, мой дед всегда оставался вполне обыкновенным человеком – сыном своего времени, скромным, отзывчивым, иногда – вспыльчивым, даже обидчивым. Но он никогда не вскипал без причины, не таил обид. Мы еще оценим его значение для всех нас, поймем, какой неповторимо богатой личностью он был, какой волшебный луч света погас для нас с его уходом из жизни. Я теперь только понял, что и мой отец, и мои тети Майя и Раиса Николаевны, и я сам, не замечая того, стремились походить на него, подражать ему…
За окном шумел славный месяц май, ранняя теплынь томила столицу. Останкинский парк, светлые павильоны ВДНХ затопило солнце, даже слабое дуновение ветра доносило в открытые окна опьяняющие запахи, громкий щебет птиц, шуршание автомобильных шин по асфальту – там, внизу. Жизнь кипела, переливалась и пенилась, устремляясь вперед, в будущее.
В подъезде мы захватили почту – газеты, письма, несколько телеграмм, оставленных разносчиком в отцовом почтовом ящике. Пока мать открывала дверь квартиры, я вскрыл письмо из Калинина. Василий Петрович Щепкин еще раньше прислал трогательную телеграмму соболезнования, но он лежал в больнице – врачи не пустили в Москву. Письмо же, наверное, было написано раньше…
– Что там? – нетерпеливо спросил отец, когда мы с ним уселись за столом на кухне в ожидании свежесваренного кофе – мама уже колдовала возле плиты.
Я бегло пробежал по крупно выписанным неровным строчкам – и глазам своим не поверил.
«…Нашел я родного сына твоего Сибиряка, Андрея Ильича Касаткина, – писал деду его бывший ефрейтор Щепкин. – Нашел!!! Касаткин Иван Андреевич. Моя дочь Анюта встретила его на ученом симпозиуме – или как их там! – подошла, спросила… А он как стоял, остолбенев, так и сел – хорошо, что диван оказался рядом. Ты прав – всю жизнь они ждали хоть какой-нибудь вести, оскорбительно было это звание «без вести пропавший». Жаль, жена Аля не дождалась – скончалась шесть лет назад. А призывался Андрей Ильич в Кемеровской области…»
Я читал письмо Василия Петровича, а мои родители сидели напротив за кухонным столом и оба беззвучно плакали. Если б это письмо пришло хоть на неделю раньше!..
Смахнув слезы, отец решительно поднялся, заполнив собой всю кухню.
– Вот что, мать… Завтра же полечу в Кемерово. Завтра же! – повторил он грозно, хотя мама не возразила ни голосом, ни движением.
Таллин, 1984—1987
4. Привидения
1.
Гендрик Петрович Купер не любил опаздывать. Но в этот раз его задержали неотложные дела в районном центре, и на день рождения молодой супруги Гуннара Суйтса, своего фронтового друга, он приехал последним.
Из маленького уютного домика с мансардой, стоявшего в глубине большого сада на краю поселка, лились навстречу звуки музыки. Аккордеон гремел на полную мощь, приглашая к танцу. Казалось, еще миг – и сам домик сорвется с каменного фундамента, пустится в пляс, озорно поблескивая очками-окнами. Купер улыбнулся этой неожиданно пришедшей ему в голову мысли и по-молодому взбежал на парадное крыльцо. У распахнутой настежь двери он угодил прямо в медвежьи объятия хозяина дома.
Посаженный на почетное место за столом, Гендрик Петрович стал разглядывать гостей, которых видел здесь впервые.
Внимание бывалого чекиста привлек сидевший напротив мужчина в хорошо сшитом черном костюме, непринужденно и остроумно направлявший общее веселье. Трудно было сказать, сколько этому человеку лет: тридцать пять или сорок пять? Его холеное лицо сияло, в голубых глазах играла лукавая усмешка, рано поседевшие густые волосы волнами обрамляли чистый высокий лоб, а маленькие, аккуратно подрезанные усики и светло-седая бородка придавали лицу импозантный вид…
Что-то очень знакомое, давнее почудилось Гендрику Петровичу в облике этого веселого гостя, который разыгрывал роль доброго волшебника.
Хозяин дома представил их друг другу:
– Гендрик Купер… Освальд Сирель.
Не успел Гендрик Петрович и слова молвить, как к нему подсела милая моложавая приятельница хозяйки и наполнила бокал. А Сирель тотчас же произнес тост за здоровье всех присутствующих и отсутствующих ветеранов, за фронтовых братьев под мирным небом. Вся компания весело поддержала. Снова зазвучала музыка. Соседка пригласила Гендрика Петровича на вальс.
Полковник Купер давно не танцевал, но общее настроение захватило и его, а премилая партнерша нашла, что он танцует отлично… Она была улыбчива и воздушна, ее соломенно-желтые волосы рассыпались по плечам.
– Берегитесь, опасна, как Лорелея, – бросил Гендрику Петровичу Сирель.
Виртуоз аккордеонист между тем обрушил на собравшихся каскад звонких трелей вяндраской польки, и за длинным праздничным столом никого не осталось. В первой паре выступали Освальд Сирель и сама именинница. Задорно кружась, положив руки на плечи партнеру, она почти влюбленно всматривалась в красивое, освещенное белозубой улыбкой лицо Освальда, пока по-медвежьи не вмешался огромный, медлительно-увалистый Гуннар, ее муж, который вдруг так же легко и весело продолжил танец, подмигнув Куперу.
Но последнее слово всегда оставалось за Освальдом. Он уже организовал «казачок», забавно прихлопывая руками, восклицая на исковерканном русском:
– Каза-ссьёк, каза-ссьёк!..
Вальве – так звали моложавую блондинку, приставленную к полковнику Куперу, – была внимательна и тактична. Заметив, что Гендрик Петрович устал, она усадила его на диван, сняла с полки альбом с фотографиями и положила перед ним «для смены впечатлений». И старый чекист, придвинув к себе этот альбом, стал перелистывать его. Но в этот момент Освальд затеял новую шумную игру, и Гендрик Петрович невольно стал следить за ним – за его смешными проделками, за живой мимикой холеного лица. И что-то вновь до боли знакомое почудилось Куперу в его облике в тот момент, когда Сирель, на мгновение задумавшись, сдвинул брови и над его переносицей пролегла глубокая сдвоенная складка…
Гендрик Петрович подвинулся: захмелевший Гуннар плюхнулся на диван рядом с ним.
– Сидишь, старина, картинки разглядываешь? – проговорил он в самое ухо полковника. – А смотри-ка, как Освальд Сирель разворачивается – о-го-го! Не находишь?
– Нахожу.
Гендрик Петрович, помня словоохотливость бывшего старшего сержанта Суйтса, не задавал ему никаких вопросов.
Все-таки как хорошо знают друг друга старые бойцы гвардейского эстонского корпуса!.. От древних Великих Лук до Курляндии пролегли их нелегкие военные пути. А теперь, встречаясь, вглядываются, раздумывают… Да, конечно, постарел, пополнел, чуть-чуть обрюзг… Но это не беда! Главное, брат, как с душой твоей, с сердцем твоим – не постарели, не обрюзгли?..
Всегда нравился Гендрику Петровичу Гуннар Суйтс. Медвежья повадка, медвежья и сила. А душа – добра и чиста. Подружились они еще на Урале, в дни формирования эстонского стрелкового корпуса Красной Армии, вместе были под Великими Луками и освобождали родную Эстонию, вместе встречали Победу в лесах Курляндии. Сегодня бывший полковой разведчик командовал целым колхозным полком. Под его началом объединенный колхоз «Партизан» стал одним из самых известных своими урожаями и надоями во всей республике, а на груди бывшего старшего сержанта выше боевых наград засверкала Золотая Звезда Героя Социалистического Труда… Но что за человек Освальд Сирель? И почему у полковника Купера могло возникнуть навязчивое чувство, будто они с Сирелем где-то уже встречались?..
Словно угадав мысли фронтового друга, Гуннар Суйтс перевернул лист альбома, остановился на любительской фотографии: Освальд Сирель и Гуннар стояли у трактора перед колхозными мастерскими.
– Весной снимались… Работает он агрономом районного управления сельского хозяйства. Теперь вот думаю его к себе перетянуть. Освальд ведь не только веселиться умеет. Другого такого агронома, скажу тебе, во всем районе не найдешь…
– И давно ты знаешь его? – спросил Купер.
– Спрашиваешь!.. – Гуннар довольно усмехнулся. – Еще в сорок первом в истребительном вместе были.
«В истребительном? – думал Купер. – Но я ведь не был там… Черт, почему же этот парень кажется мне знакомым?»








