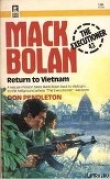Текст книги "Мир приключений 1957 г. № 3."
Автор книги: Иван Ефремов
Соавторы: Евгений Рысс,Нина Гернет,Григорий Ягдфельд,Леонид Рахманов,Григорий Гребнев,Феликс Зигель,Николай Атаров,Илья Зверев,Олег Эрберг,Н. Рощин
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 57 страниц)
Илья Зверев
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Героическим горнякам 36-й Сталиногорской шахты Тифко, Леонову, Ручкину, Семушиикову, Власову, Гольтяеву, Зеневичу, Жаркову и товарищам, действовавшим по другую сторону завала 3 и 4 апреля 1956 года.
– Сколько вас, ребята? Сколько вас?… Сколько?… – говорю. – Сколько вас там?…
Наконец там, за завалом, поняли. Глухо простучали по трубе шесть ударов. Потом, после долгой паузы, седьмой.
У песчаного вала, перегородившего штрек, молча стояли шахтеры. Никто не сдвинулся с места. Только огоньки лампочек согласно качнулись в такт общему вздоху.
Снова удары по трубе. Один… два… три… – все считали вслух – четыре… пять… шесть… Потом снова томительная пауза (на этот раз она уже не могла, никак не могла быть случайной!), и еще один удар – седьмой.
– Шестеро – живые. Один – покойник, – сказал кто-то.
* * *
Еще в пять часов утра все было хорошо.
Начальник шахты Семен Ильич Драгунский, мучимый стариковской бессонницей, позвонил дежурному. Бодрым голосом хорошо выспавшегося человека тот отрапортовал:
– Все в порядочке, ствол работает, участки «не пищат»!.. Спите дальше, ваше блаженство! – посоветовал он на прощанье, игриво употребив смешной церковный титул, вычитанный вчера в газете.
Семен Ильич улегся опять.
«Ваше блаженство», – вспомнил, усмехаясь. – Какой приятный парень этот Синица. И остроумный. С осени уйдет главный инженер в академию – быть ему наследником…»

А через десять минут – леденящий душу пронзительный звонок (о, начальник и по звонку умел отличить чрезвычайное от будничного). В трубке – задыхающийся голос Синицы:
– Завал, Семен Ильич!.. Завал на третьем восточном… На стыке с шестым… Люди, Семен Ильич!..
В шахтной конторе – в маленькой комнатке с табличкой «Коммутатор. Вход воспрещен!» – Люся-телефонистка, побледневшая и как-то осунувшаяся за несколько минут, снова и снова чужим, отвердевшим голосом повторяла одни и те же грозные слова. Всем, кому следовало по «аварийной диспозиции», столько лет бесполезно пылившейся на стене, сейчас подавала она сигнал бедствия: горноспасателям, тресту, горкому партии, медицине, чтобы мчались спасать; прокуратуре, чтобы ехала расследовать и карать; кладовщику, потому что в любую минуту мог потребоваться инструмент.
Квартира кладовщика не отвечала. Но шахтная телефонистка – это не городская телефонная барышня («Алло, алло, соединяю… Извините, не отвечает»)… Она обязана знать, где кого искать в ответственную минуту.
«Видимо, заночевал старый черт у племянника Пашки», – сообразила она.
Люся подбежала к двери и кликнула уборщицу:
– Андреевна, быстренько, пожалуйста, к Пашке Мордасову. Вытащи дядю Васю!.. Чтобы бегом бежал сюда!
– Ладно, ягодка.
Старуха с сожалением посмотрела на недомытый пол, по которому растеклись черные сверкающие лужи, швырнула тряпку в ведро и решительно вытерла руки о передник.
Надо очень любить людей, чтобы согласиться служить уборщицей на шахте. Каторжный труд – ежедневно скоблить и отмывать пол в нарядной, затоптанной угольными сапожищами; оттирать голубые стены, к которым так любят прислоняться усталые ребята в черных спецовках… Тяжко, ко всему тому, не иметь сладостной привилегии всех уборщиц – покричать на нарушителей чистоты или замахнуться тряпкой на начальство, топающее в калошах по свежевымытому полу.
Тут люди не носят калош. Черная грязь на их вечно мокрых сапогах – не грязь, а уголь. Уголь, ради которого люди в преисподнюю ходят – во тьму и сырость.
Словом, Андреевна понимала и душевно чувствовала, что такое шахта, и безропотно побежала на другой конец поселка будить загулявшего кладовщика.
В коммутаторную, похрустывая пальцами, вбежал Синица.
– Всех обзвонила? – глядя как бы сквозь Люсю, спросил он и, не дожидаясь ответа, вздохнул: – Ах, черная пятница!
«Пятница»? Это слово бросило девушку в жар. Как же она забыла! Ведь с полуночи уже пятница. И в эту пятницу, в ночную смену, на штрек должен был идти Женька. Они уже неделю были в ссоре, но еще тогда, когда все было иначе, он говорил Люсе: в четверг, мол, последний денек гуляю, а в пятницу, в ночь, запрягаться.
Она умоляюще поглядела на Синицу:
– Арнольд Петрович… Пожалуйста… Кто там попал? Женька Кашин не попал?
– Ах, господи, ничего я не знаю! – рассердился Синица. – Не могу я больше здесь наверху, ведь там люди гибнут!
Как ей было не понять! Нет страшнее пытки для горняка, чем эта, – сидеть дежурным на поверхности, когда в шахте беда.
– А Женька? Вы не помните случайно?…
– Ты всех обзвонила?… Что они не едут! Они уже должны быть здесь.
За окном провыла не похожая ни на какую другую сирена горноспасательной машины. В нарядной загрохотали уверенные голоса. Синица рванулся из комнаты.
– Девушка, вы что там спите? – вернул Люсю к служебным обязанностям какой-то негодующий абонент. – Давай, кто там есть главный!
Из нарядной ответил сам начальник. Быстро он прибыл!
– Разговаривать не могу… Еду в шахту… Причины аварии? Не знаю. Там люди, семь человек… Не могу разговаривать…
И бросил трубку.
– Семен Ильич, это из органов звонили? – замороженным голосом спросил тихонько вошедший Синица.
– Да нет, из треста, техотдел!.. – И, словно поняв что-то, Драгунский глянул на инженера с внезапной яростью. – О них думай, которые за завалом. О скамье подсудимых успеем… Слышишь, ты!..
Огромный, багроволицый, с всклокоченными седыми волосами, начальник был страшен в эту минуту: казалось, прикоснешься к нему – ударит током!
В нарядной с каждой минутой прибывал народ. Вошел командир горноспасателей со своими дюжими – один в одного – бойцами. Прибежал парень спросить, грузят ли в клеть малый компрессор. Явился техник требовать кислородных баллонов. Черненькая, носатая врачиха из рудбольницы пришла «в полном параде» – с орденом Красного Знамени, явно не случайно приколотым в этот страшный предутренний час. Один за другим вваливались «представители» – инспектор, управляющий трестом, комбинатское начальство.
На голубой шелковистой кальке, захватанной черными пальцами – на плане горных работ, – большой, иссеченный шрамами палец Драгунского отметил то самое место.
– Люди запечатаны в третьем восточном и в шестом! – звенящим от напряжения, но ровным голосом сказал он. – К ним можно пробиться либо из другой части штрека, так сказать с тылу, либо прямо через завал, если он позволит себя потревожить, – в чем я очень сомневаюсь…
На шахте такая жизнь, что в грозную минуту все люди, вплоть до представителей самых третьестепенных, «обозных» профессий, начинают действовать с быстротой и блеском, словно сызмальства учились считать секунды. Толстуха-банщица мгновенно приготовила в инженерских кабинках сразу десять комплектов белья, спецовок, портянок, сапог. Ламповщица встречала начальство уже на пороге своего серого домика, обвешанная тяжелыми гроздьями лампочек.
В ламповой уже знали имена попавших в беду. Вручая начальнику его легкую, «хозяйскую» лампочку-надзорку, девушка шепнула:
– Павловский, Ларионов, Кротов, Кашин…
Она, по-видимому, считала это большим секретом. Но каким-то необъяснимым чудом уже вся шахта знала эти имена. И в нарядной, отданной горноспасателям под штаб, и в красном уголке, приспособленном под нарядную, и на лесном складе, и в лавах люди шепотом повторяли имена семерых с таким чувством, будто не было у них на шахте и на всем белом свете товарищей ближе и дороже, чем эти.
У эстакады, приникая то к одной, то к другой черной спецовке, металась простоволосая заплаканная женщина в модной шубке.
– Товарищ Алексин, – сказал Драгунский парторгу, тяжело шагавшему рядом с ним, – возвращайся и займись семьями!
Парторг грустно кивнул и ушел, не оборачиваясь. Начальство – местное и приезжее – направилось к клети и спустилось вниз.
На штреке Драгунский отстал от остальных. Проклятая гипертония! Затылок стиснуло свинцовым обручем; в висках, в сердце, в ногах болезненно отдавался каждый удар пульса.
Начальник заложил руки за спину, наклонил корпус так, чтобы собственная тяжесть влекла его вперед, под уклон, и так продолжал идти.
Громко, стараясь подавить оглушительный звон в висках, он твердил себе, что все обойдется, потому что там, за завалом, прекрасные люди – такие люди, как Яша и Павловский. Ему, старому горняку, отлично было известно, сколь слаб человек против взбесившейся подземной стихии, и все-таки он немного успокоился, узнав, что люди там надежные (хотя, честно говоря, предпочел бы сам быть на их месте).
У завала толпились люди. Драгунский подошел к своим недавним спутникам, деликатно не заметившим его опоздания.
– Боязно трогать кумпол, – сказал управляющий, употребляя простецкое выражение шахтеров. – Все поедет к дьяволу.
Словно в ответ на эти слова, песчаная стена, перегородившая штрек, зашевелилась, задышала. Что-то хлестнуло людей по ногам, едва не повалив.
– Назад! – крикнул Синица и рванулся почему-то вперед.
Драгунский схватил ошалевшего парня за рукав и – откуда только сила взялась! – отшвырнул к остальным.
Вслед за песком с тихим урчаньем хлынула вода. Споткнувшись на бегу, управляющий зачерпнул полные сапоги.
– Я же вам говорил! Я же говорил! – воскликнул Синица.
А Драгунский скучным голосом распорядился послать за сухими портянками.
Поток иссяк так же внезапно, как и появился. Горноспасатели, подтверждая свою репутацию бесстрашных рыцарей, мигом вернулись на исходные позиции и деловито щупали мокрый «кумпол».
– Придется идти на обходной маневр, – сказал управляющий. – С тылу раньше чем за трое суток к ним не пробиться. А тут, если не захлебнемся, часов за шестьдесят пробьем… Но где компрессоры?. Где молотки?
– Всё на подходе! – обиженно отрапортовал командир горноспасателей…
Итак, обстановка была примерно ясна, хотя ни малейшей радости эта ясность не сулила. Оборвавшийся с кровли песок наглухо запечатал часть третьего и шестого штреков и вызвал изрядную встряску во всей местной геологии. Были все основания ждать плывуна и новых обрушений.
Трогать «кумпол», конечно же, было невозможно: копнешь разок – все придет в движение, и тогда уж не остановить. Пройти отбойными молотками обходную выработку, огибавшую завал, можно. Но времени на это потребуется много – управляющий был прав.
Драгунский приказал механику взять троих самых лучших комбайнеров и любой ценой – пусть хоть машина летит к дьяволу! – пробиться с тыла в предельно короткий срок. Надо застраховаться от возможной неудачи обходного маневра. Но что это за «предельно короткий срок»? Семьдесят часов. Да и то в лучшем случае, при рекордном темпе.
Не было таких средств, такой техники, такой уймищи народа, каких бы пожалел послать Мосбасс на спасение семерых. Но трагедия заключалась в том, что плацдарм для наступления был мал, невообразимо мал – нескольким людям трудно было там повернуться! Для того чтобы питать воздухом отбойные молотки, пришлось разыскивать самые маленькие компрессоры – другие не смогли бы спустить.
И каждый шаг был чреват разнообразными опасностями: а вдруг, пробиваясь в обход, потревожишь дремлющую лавину, и она рванется в штрек; а вдруг, заложив шпур, задушишь газом осажденных; или, вытаскивая трубу из скважины, зальешь людей водой. Трубу эту не зря задумали вытащить. Как раз на осажденный участок проходит с поверхности водоотливная скважина. Если вынуть или хотя бы немного приподнять находящуюся в ней трубу, к людям, запертым за завалом, хлынет по трубе чистый воздух и связь с ними облегчится.
– А что, если вместо воздуха сверху да вода к ним снизу хлынет?
Сам главный геолог комбината – знаток из знатоков – мучительно раздумывал над этим вопросом. А между тем времени для раздумий не было. Каждая минута могла стать роковой. Пусть подадут к осажденным воздух, пусть доставят им питание и спирт, пусть, наконец, наладят телефонную связь – главная опасность все равно не исчезнет. Главная опасность – плывун, словно набирающий силы для нового, последнего рывка, от которого спасения нет.
Единственная надежда – скорость. Скорость, скорость!.. Об этом думали люди в сырой темноте штрека, и в штабе горноспасателей, и в комбинате, и в Москве, где предрассветные звонки уже подняли с постели нескольких профессоров и опытнейших практиков.
– Назначай старшим на комбайн Селезнева. Он зубами грызть будет – лучший Яшин дружок… – сказал механику Драгунский. – И, мгновение подумав, добавил: – Хотя сейчас ему каждый – лучший друг.
Горноспасатели, попросив остальных посторониться, поднесли к завалу трехдюймовую трубу со странной затычкой, похожей на пику.
Командир с гордостью бросил:
– Проводим ЦП… Что? Цепь питания… Ну, «Ладогу»!
«Ладогой» шахтеры называли устройство, позволяющее перебрасывать по трубе к осажденным пищу и питье. Название это было дано в честь той давней «дороги жизни», проложенной в дни войны по Ладожскому озеру к блокированному Ленинграду.
Словно игла в масло, вошла в сыроватый песок трехдюймовая труба, заткнутая острой пробкой. Потом она пошла уже туже, и по ее тупому концу пришлось долго бить здоровенной лесиной.
Наконец пробили. Осажденные гулко вышибли пробку, и по трубе потек к ним кислород из баллонов, штабелем сложенных у завала. А из другого штабеля, сверкавшего при свете ламп целлофановыми боками, извлекались длинные колбасы, круглые хлебцы, пузатые фляги. Все эти богатства, прицепленные к тросу, тоже пойдут на ту сторону.
* * *
– Эге-гей! Там… на воле! – дикой радостью звенел в трубе этот крик. – Ого-го!..
Потом – другой голос, спокойный, торжественный:
– Товарищи! Слышите нас?… Товарищи!
– Слышим, ребята! Как вы там?
– Мы ничего… Мы в порядке… Товарищи, пробивайтесь сперва на шестой. Там человек остался… Кротов… Который с девятой-бис… Пробивайтесь на шестой. А мы в порядке.
– Воды много?
– Появилась. Теперь почти нету… Портяночек передайте сухих… И пробивайтесь на шестой. Парень там один.
– Держитесь, ребята! – крикнул Драгунский. – А мы к вам с трех сторон…
Наступление действительно велось с трех сторон. У завала вскоре затарахтели пулеметные очереди отбойного молотка. С другого конца штрека двинулся сквозь сплошную угольную стену проходческий комбайн, ведомый сразу тремя классными машинистами.
А на поверхности люди в брезентовых плащах возились у водоотливной скважины, прикидывая, как извлечь из нее трубу, уходящую глубоко под землю как раз на блокированный участок третьего восточного штрека. Вытащат из скважины трубу – будет еще одна линия связи, непосредственно с поверхностью. Три тяжелых автокрана уже мчатся сюда с необычной для таких махин скоростью из разных концов Мосбасса. Скоро они прибудут и вытащат трубу.
Но по узкой скважине все равно людей не вытянешь… Путь горного комбайна, идущего к осажденным с тыла, тоже слишком долог. Остается обходной маневр! Но его нельзя делать сразу в две стороны – развернуться негде. Куда же пробиваться: на шестой штрек к Кротову или на третий восточный, к тем, шестерым?
– Все-таки надо пробиваться к шестерым, – немножко смущенно посоветовал командир горноспасателей. – По логике вещей, там шестеро – тут один.
– Когда разговор о людях… разве можно по арифметике!.. Эти все же связь имеют. И вместе они, вшестером. А тот одни.
– Если плывун не прорвет, то, конечно, они подождут. А прорвет – шестерых потеряем.
– Да они сами нам не простят, если бросим парня! – злым шепотом сказал Драгунский (нельзя, чтобы такой разговор слышали люди!). – Подумайте: он один, без еды…
– Я против! – раздраженно перебил Синица. – Решительно возражаю! Есть выбор: шесть жизней или одна. Пошевелите мозгами, какая ответственность, если погибнут шестеро!.. За это, знаете…
По положению, во время аварий вся полнота власти на шахте от начальника переходит к главному инженеру, к техническому руководителю.
Обязанности главного исполнял Синица. Но… Драгунский был Драгунский, двадцать лет назад поседевший от шахтных дел.
– А все-таки в обход к шестому, к Кротову… – сказал он. – Что скажет трест?
– К шестому! – сумрачно подтвердил управляющий.
– К шестому! – вздохнув, сказали комбинатские. – Только бы плывун не пошел!
У завала сидела доктор. Странным в этой черной преисподней, лекторским голосом она говорила в трубу:
– Профилактический эффект препаратов урострептин и норсульфазол весьма хорош…
Рядом с ней пожилой горноспасатель, сидя на корточках, благоговейно увязывал в пакет продолговатые коробочки с лекарствами. Оба едва заметно улыбнулись, услышав хрипловатый басок Драгунского:
– Давайте на шестой. Решено!
* * *
– Проклятый слепой случай! – шептал Павловский, рассеянно прислушиваясь к доносящемуся из трубы, с воли, голосу доктора. – Слепой случай! И лучше бы мне быть на шестом… Ведь этот зеленый мальчик – я даже не знаю, как он выглядит, – ведь он растеряется и захлебнется там, как кутенок!.. А я, дурень, прибежал сюда, будто они без меня не обошлись бы!
Очень странные рассуждения: разве зависел от инженера Павловского выбор места заточения? Да, представьте себе, зависел! Волею случая он очутился на стыке третьего с шестым как раз в те мгновения, когда потек песок. Он мог одним прыжком выбраться из опасной зоны, уйти из блокады и бежать к стволу, к свету, к спасению. Но он сам влетел в обреченную выработку. И не потому, что, ошалев от ужаса, потерял ориентировку. Нет, здесь сработала сила, еще более могущественная и властная, чем извечный инстинкт самосохранения. Сила эта – некий профессиональный рефлекс горняка, повелевающий бежать туда, где бедуют другие.
Невозможно понять, как Павловский в какое-то мгновение сообразил, что люди остаются в глухой части штрека, что сейчас их отрежет и что он сможет быть им полезен… Но он мигом очутился вместе с ними здесь, в осаде.
Когда, задыхаясь, он обернулся туда, где сходились два штрека, пляшущий луч его лампочки осветил уже не туннель, а глухую серую стену, поднявшуюся к самой кровле.
И тут же Павловский услышал свист. Дикий, разбойничий свист, секрет которого знают лишь электровозные машинисты, наследники шахтных ямщиков – коногонов.
Свистел Коля Барышников, десять минут назад выехавший к штреку со своим электровозом. На свист от комбайна прибежали смеющиеся, ничего не подозревающие люди: «Забурился, что ли? Подмога нужна?» В зыбком свете лампочек Павловский видел, как удивительно менялись их лица – вытягивались, словно худели. На непослушных, «ватных» ногах подошел Колин помощник – Коваленко, прозванный почему-то «адмиралом». Его широкое, черное от пыли лицо с нежно-розовыми мокрыми губами было искажено; на виске наливалась кровью ссадина. Медленно выдавливая слова, он проговорил:
– Запечатало… в шестом хлопец остался. Кротов. Я успел, а он…
– Какой Кротов?
– Новый хлопец. С девятой бис перешел. Рыжий… – с трудом шевеля языком, проговорил Коваленко.
– Не дрожи, адмирал, – нам повезло: мы в компании!.. – демонстративно присаживаясь на поваленную стойку, сказал Коля. – Жаль, папирос нет… На миру и смерть красна…
– Перестань бравировать! – неожиданно для себя крикнул Павловский. – Ты соображаешь, что случилось?
Коля, кажется, не понял, что означает слово «бравировать», но поспешно вскочил.
– Ну, так давайте рыдать! – поддержал дружка Женька Кашин, лопоухий, курносый, беззаботный, как всегда. – Давайте плакать…
– Нет, давайте думать! Положение серьезное, – прервал его Павловский.
Где-то совсем близко грохнуло, вероятно в шестом. Потом один за другим раздались еще три удара, словно стреляли из миномета.
Все застыли, вслушиваясь. Даже под слоем угольной пыли было видно, как побледнели лица. Женька стоял с открытым ртом, тяжело дыша, будто после бега.
Превозмогая оцепенение, Павловский сказал:
– Немедля разбирайте лес! Строим перемычку. Успеем – будем живы…
Люди, словно пробуждаясь от тяжелого сна, зашевелились. И все разом – очень трудно отойти друг от друга в такой момент – отправились к центру своей трехсотметровой тюрьмы. Туда, где застыл электровоз с вагонетками.
В голове у Коли почему-то вертелся стишок, кажется, из «Теркина»:
«Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой…»
«Интересно знать, сколько это «больше»? Можно ли выдержать без пищи трое суток, а то ведь за сутки не откопают…»
Обидно и глупо умереть с голодухи.
– Яша, не знаешь, сколько выдерживает человек не евши?
– Не знаю. Но вообще не дрейфь, Николай. Вам обед передадут… По «ладоге» или еще как…
– Я разве о себе? – обиделся Коля. – Я о Кротове…
Если бы для какой-нибудь цели понадобилось отобрать шестерых самых не схожих между собой людей, разнящихся возрастом, опытом, характером, внешностью, – на шахте невозможно было бы найти более разных, чем эти. Старшему из них – крепильщику Речкину – пошел шестой десяток. Он был отцом большого семейства и считался самым тихим человеком в своем горластом и задиристом коллективе. А Коле Барышникову только на прошлой неделе исполнилось двадцать. И этот лихой компанейский парень с важностью говорил: «Прощай, молодость! Я уже третий десяток годов разменял». Яков Ларионов был орел, первый комбайнер-проходчик в тресте. А Леша Коваленко считался шахтером временным и самым никудышным– таким, что товарищи даже имя его узнать не пожелали и звали просто по кличке «адмирал». Ты, мол, моряк, красивый сам собою: по морям, по волнам, нынче здесь, а завтра там.
И все эти разные люди сейчас думали об одном человеке – о седьмом, о Кротове, которого никто из них не знал как следует… Подтаскивая стойки для перемычки, они вполголоса говорили об этом парне, только что перешедшем с соседней шахты девять-бис. И все хорошее, что знали они об этой шахте, они непроизвольно перенесли на Кротова: «Хороший парень… Выдержит».
Спокойно, словно дело происходило в нарядной, на собрании, попросил слово Ларионов.
– Еще одно дело: лампочки погасите, – сказал он. – Сгорят сразу все – будем сидеть впотьмах.
Совет был дельный. Лампам осталось гореть только часов по шести-семи. А если погасить все, кроме одной, и потом зажигать их по очереди, тогда хватит почти на двое суток. Но какая же это печальная работа – лампы гасить! С древних времен в человеческом сознании живой огонек представляется символом самой жизни. Задуешь его – кажется, жизнь чью-то прервешь.
Перемычку стали складывать из стоек, бесполезно валявшихся по обочинам штрека. Немного лесу нашлось в вагонетках, привезенных Колиным электровозом. Вздрагивая от прикосновения к холодному металлу, шахтеры снимали с вагонеток распилы. В кромешной тьме, ориентируясь на зычный голос Женьки Кашина, лес относили к перемычке.
Женька, Ларионов и Павловский орудовали топором и пилой, стараясь подогнать деревяшку к деревяшке.
– Соломки бы – зазоры закинуть! – вздохнул инженер. – А то сквозь щели все равно прорвется плывун. Такое тесто, да в дырявую квашню…
– Знал бы, где споткнешься, соломки бы подстелил! – мрачно пошутил Женька. – Ничего, откопают…
И Павловскому вдруг подумалось, что это у Женьки не внешняя бравада и не легкомыслие. Это что-то совсем другое, свойственное также и Николаю и Яше Ларионову: изумительная уверенность в своих силах, в своем бессмертии.
И не зря докторша говорила об урострептине и заботилась, чтобы они тут не кашляли, – значит, даже там, на воле, верят в их возвращение.
А у самого Павловского такой уверенности не было. Он – старый горняк – достаточно ясно, до мельчайших подробностей представлял себе, что с ними будет, когда пойдет плывун (а он пойдет, судя по всему). Павловский мысленно простился со смешной и милой сестрой. Когда это произойдет, она переберется в Харьков, к младшему брату – полковнику, и будет каждый апрель приезжать сюда и носить подснежники на его могилку, как носит сейчас на мамину.
Разделавшись, таким образом, с делами и думами личными, он со спокойствием обреченного философа занялся делами товарищей. А в их смерть – этих разных, очень живых, очень милых ему людей – он поверить не мог.
– Тут что-то делать надо… – бормотал он под нос. – Случается же – дощечка речку держит!.. Как думаешь, который теперь час, адмирал?
Коваленко сидел, покачиваясь, обняв голову руками. Он диковато взглянул на инженера…
– Наверно, уже утро?… – переспросил тот.
– Не имеет значения.
– Представляю себе, какая там тревога, на воле! – словно не расслышав, продолжал Павловский.
– Все равно, не имеет значения.
– А что имеет значение?
– Ничего… Теперь уже ничего… – И вдруг, схватив инженера за плечо, страстно зашептал: – Как попали, товарищ Павловский! Как попали! Я еще жить не начал по-настоящему… И вот – крышка…
– Знаете что, дорогой мой!.. – сердито сказал инженер, швыряя недорубленный чурбак. – Если быть нам покойниками, то еще ничего. А если мы вдруг живы останемся, как на людей смотреть сможете? Трусом-то!.. – И почти фальцетом приказал: – Вставай сейчас же! Бери топор! Иди к Коле… Коля, я тут один управлюсь, – прими помощника!
Старик Речкин мудро решил остаться у завала для «всестороннего наблюдения», а все остальные осажденные были заняты перемычкой. Они приносили Павловскому стойки, помогали сооружать из них баррикаду, пригонять лесину к лесине. Перемычка получалась не очень солидная. И все, с горя, подогревали друг друга бодрыми восклицаниями: «Чистый Днепрогэс!», «Китайская стена!», «Мощь!».
Из тьмы вынырнул Яков Ларионов. Движения его были странны, голос звенел:
– Ура!
Через минуту все поняли причину его ликования: труба, резиновая труба – вот чем можно закрыть щели в перемычке. Теперь уж будет настоящая зашита!
Трудно представить себе подарок, который мог бы доставить людям на воле такую же радость, как этот удачно подвернувшийся рукав, разрезанный на резиновые полосы.
«Спасение вероятней на десять процентов», – усмехаясь собственной «холодной объективности», подумал Павловский.
Пожалуй, на поверхности он переживал бы такую ситуацию во сто раз острее.
«Как они там, наверно, переживают – Семен Ильич и остальные!.. И то ли еще будет, когда наладится связь и узнают про беднягу Кротова».
* * *
Парторга Алексина окружили плачущие женщины. Они ничего не говорили – только смотрели на него. И от этих глаз, полных то отчаяния, то надежды, становилось тягостно, словно он мог бы что-то сделать, да не сделал.
Наверно, тысяча людей, а может быть, и десять тысяч с радостью кинулись вместе с ним вниз, к плывуну, к черту в зубы, только бы облегчить участь осажденных. Но на подступах к третьему штреку едва хватало места для десятерых. Они – немногие горноспасатели и инженеры – обязаны были воплотить в себе энергию тех тысяч.
Когда кто-нибудь из них выходил на-гора, на пути от клетки к штабу его провожали взволнованные взгляды, молчаливо и властно спрашивавшие, какую весть несут «оттуда».
В партком вбежал какой-то старик с бессмысленно горевшей на свету лампочкой, в потертой, измазанной спецовке. Его маленькое морщинистое лицо, покрытое седой щетиной, было сведено судорогой, словно старик собирался заплакать.
– Как же это вы?!. – крикнул он, люто глядя на парторга. – Кольку-то моего… А ну, вели, начальник, чтобы меня в вашу шахту пустили. Стволовой пропуск требует, а я с девятой-бис.
– Нельзя, отец, – мягко сказал Алексин. – Успокойся!
– Там родные руки нужны в таком деле… Пусти!
– В таком деле все руки родные… Садись, отец! Сейчас связь будет. Им туда по трубе телефон такой передать должны – шахтофон… Сейчас вот женщины будут говорить, и ты поговоришь.
Женщины разом загомонили. Жена Ларионова, словно опасаясь, что муж уже слышит и даже видит ее, поспешно утерла слезы и, подавив вздох, улыбнулась…
Никакими словами не опишешь боли и радости тех разговоров. Шахтофон, похожий на большой наушник, удивительно чуткий прибор: дыхание, кашель, шепот, каждое словечко доносил он. Будто не жизнь и смерть, не страшные метры завала разделяли близких, а трепещущая папиросная бумага.
Казалось, закрой глаза, протяни руку – и почувствуешь тепло милой руки.
Как близко и как далеко!
А слова… Слова говорились самые обыкновенные: «Ну, как себя чувствуешь?», «Володя, может, надо что передать? Еда есть?…»
Молодчины женщины, как они держались! Ни одной жалобы, ни стона… И мужчины вместо тысяч и тысяч нежнейших слов скупо говорили, что еды довольно, что портяночки сменили и теперь жизнь совсем хорошая, что передан горячий чай – понемногу выпили, а потом фляжки положили под спецовку… сердце погреть. Что главная просьба к женам – не волноваться…
Когда все родные переговорили и собрались идти в степь к скважине, где с минуты на минуту должна была открыться «прямая связь» – бестелефонная, – к Алексину подошла Люся:
– Разрешите и мне поговорить.
– Только семьи, сама понимаешь… – сказал парторг.
– А я тоже не от себя, – покусывая губы, сказала Люся-телефонистка. – Я… от комсомольской организации… – Женька! – задыхаясь, крикнула она в трубку. – Женька, милый! Женька!.. Женька, ты слышишь?
Снизу донесся его голос, такой же странный и трепещущий. Может, это шахтофон действует, меняет что-то, но никогда еще у Женьки не было такого голоса.
– Люся, Люся! Я тебя слышу… Люся, ты не думай… Я был дурак…
* * *
Когда с помощью автокранов трубу в скважине приподняли, оказалось, что ее конец изогнут и сплющен. По такой кривой дороге ничего передать нельзя.
Из штрека, по «ладоге», осажденным послали электроды, аппарат и синие очки. Спросили, сумеет ли кто разрезать трубу.
Взялся Ларионов.
По шахтофону механик читал ему «Памятку электросварщика», и Яков старательно все исполнял…
– Аварийное фэзэо! – неожиданно для всех пошутил Коваленко.
– Ишь ты, даже адмирал повеселел!.. – отметили ребята.
Когда сплющенный кончик трубы отвалился, Ларионов сдернул синие очки и, по-рыбьи заглотнув воздух, воскликнул:
– Небо! Небо вижу!
Все бросились к скважине, чтобы взглянуть на круглое бледно-голубое пятнышко. Вот оно – небо. И хоть им еще до земли как до неба, они уже видят, видят его.
– Слышь, Женька, а я и не знал, что у тебя с Люсей серьезное дело… – глядя в небо, проговорил Барышников. И в голосе его слышалось что-то похожее на зависть.
– Она… моя невеста!.. Разве я не говорил?
Ничего похожего Женька не говорил и даже не думал прежде. Он и слова такого – невеста, – кажется, не употреблял всерьез ни разу в жизни (разве что в школе в дразнилках: «жених и невеста – тили-тили тесто!»)… Если уж говорить начистоту, то и недавняя ссора у них с Люсей произошла потому, что он думал так просто, а она на всё смотрит серьезно. Непонятно, из каких тайников души оно поднялось, но невозможно было бы найти более подходящее слово для определения, что есть Люся в Женькиной жизни: невеста!
– А что сейчас кротовская жинка переживает? Ведь это мука какая – ни слуху ни духу! – задумчиво обронил Женька.
* * *
С той минуты, как женщине в меховой шубке парторг, пряча глаза, сказал: «А с вашим мужем пока связи нет», она словно окаменела. Уже пятый час сидела она на диване, не снимая жаркую шубку, не вытирая слезы, не убирая со лба растрепавшиеся каштановые волосы.