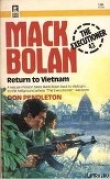Текст книги "Мир приключений 1957 г. № 3."
Автор книги: Иван Ефремов
Соавторы: Евгений Рысс,Нина Гернет,Григорий Ягдфельд,Леонид Рахманов,Григорий Гребнев,Феликс Зигель,Николай Атаров,Илья Зверев,Олег Эрберг,Н. Рощин
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 57 страниц)
ЛЖЕДИМИТРИЙ И ИНОСТРАННЫЕ ГОСТИ

Лютецию Гавриловну Голдышкину все знакомые называли коротко «мадам». Она была мала ростом, но широка в поперечнике; не крепка умом, но крепка голосом. Ее биография отличалась колоритностью, но лучше всего мадам помнила те дни, когда перед самой революцией она вышла замуж за австрийского графа и русского полуфабриканта Фридриха Марию фон Эккель. По этой причине Лютеция Гавриловна до сих пор разговаривала с окружающими высокомерным и безапелляционным тоном.
Так же она разговаривала и со своей восьмой дочерью, появившейся от пятого брака, – Лирикой Тараканцевой, урожденной Голдышклной.
Стоя на кухне и жаря котлеты, мадам грохотала трубным голосом – так, чтобы ее слышала толстая и ленивая Лирика, сидевшая в комнате.
– Это же просто кошмар! Люди имеют машину, дачу, прислугу, а я, графиня фон Эккель, должна для твоего Тараканцева жарить котлеты…
После ванны Лирика уже два часа сидела перед зеркалом, накручивая на голове какие-то замысловатые крендели.
– Можешь не жарить. Мы пообедаем в ресторане… – лениво отвечала она.
Мадам возмущалась:
– Какие богачи! Жалкие три тысчонки в месяц!.. Ты глупа, друг мой! С твоей внешностью можно найти мужа посолиднее, чем твой Лжедимитрий. Какие-то музеи, какие-то глупые картины… Что это может дать?
Надо пояснить, что речь шла о муже Лирики – Дмитрии Петровиче Тараканцеве. За некоторые особенности характера кто-то метко окрестил его «Лжедимитрием», и эта кличка утвердилась за ним даже в семье.
Разговор матери и дочери был прерван звонком телефона. Лирика сняла трубку и нараспев произнесла «алло», но с таким отчаянным английским акцентом, что у нее получилось: «Хельлоу!..»
Мадам прислушалась. По кокетливым интонациям она поняла, что дочь говорит с мужчиной.
– Дмитрия Петровича еще нет дома… А кто его спрашивает?… Знакомый? Из-за границы?… О-о! Я могу дать его служебный телефон… Ах, уже звонили? Да, он дико занят… К нам?… Пожалуйста, приезжайте.
– Кто это? – спросила Лютеция Гавриловна.
Лирика заметалась по комнате:
– Какой-то знакомый. Иностранец. Не может поймать Лжедимитрия. Хочет поговорить в домашней обстановке.
– Он едет к нам? – с ужасом спросила мадам.
– Да! И не один – их двое!
Лирика плюхнулась на диван и стала натягивать на свои огромные икры чулки-паутинку.
– Но я в ужасном виде! – застонала Лютеция Гавриловна.
– Надо убрать хотя бы одну комнату! – скомандовала Лирика. – А я начну искать Лжедимитрия. Ты знаешь, это не так просто.
Увы, она была права: Лжедимитрия Петровича Тараканцева не легко было найти в бурных волнах деловой Москвы, хотя он присутствовал всюду, где только можно было присутствовать, и даже там, где ему вполне можно было не присутствовать. По должности он был начальником Музейного фонда, но, будучи одновременно «творческим работником» – живописцем весьма оригинального жанра «научной эксцентрики», – Тараканцев являлся:
а) членом бюро комиссии (или секции?) научной эксцентрики;
б) членом секции (или комиссии?) реставраторов и копиистов;
в) членом многих жюри;
г) членом редколлегии всех изданий его комиссии, а также секций и подсекций.
Математики назвали бы его «многочленом».
Он был не столь трудолюбив, сколь расторопен, и умудрялся не пропустить ни одного заседания, совещания, обсуждения, а на большие собрания прибегал всегда первым, садился в первом ряду (если не в президиуме) и слово всегда брал первым… В общем, Дмитрий Петрович Тараканцев несомненно был чрезвычайно деловым человеком. В этом всех убеждала его сверхъестественная активность. В этом, между прочим, не сомневался и агент антикварного треста Педро Хорхе Кортец, познакомившийся с Тараканцевым еще в 30-х годах нашего столетия.
Как известно, в те годы в СССР происходили великие исторические события: советское крестьянство вступило на путь массовой коллективизации. В эти же годы рождалась наша индустрия. На предприятиях появились передовики производства, и впервые в своей истории человечество на практике узнало, что такое социалистическое соревнование. Но обыватели упорно называли эту эпоху «эпохой Торгсина». Действительно, золотые и серебряные побрякушки в те годы, попадая в каналы Торгсина, превращались в станки и машины, необходимые нашей стране. Но было и так, что некоторые, не в меру ретивые, «торгсиновцы» умудрялись под шумок превращать в триеры и сноповязалки картины больших мастеров, ценную скульптуру, редкие книги и прекрасные ювелирные изделия из частных коллекций. Агенты антикварного треста рыскали по Москве и Ленинграду в поисках ценной добычи… Рыскал в то время по нашей земле и Педро Кортец. Здесь он и познакомился с молодым «художником-эксцентриком» Д.П.Тараканцевым, который уже тогда являлся членом всех комиссий-подкомиссий, секций-подсекций, и в том числе – членом экспертной комиссии, решавшей судьбу произведений искусства, предназначенных «на экспорт».
Нужно отдать Тараканцеву должное: в своих решениях он был до обморока осторожен, и Кортец не мог бы похвастать, что с помощью Тараканцева он выудил хоть одну ценную картину. Но опытный авантюрист, близко познакомившись с ним, понял, что чрезмерную осторожность Тараканцева порождали не патриотизм и не любовь к ценностям родной культуры, а всего лишь трусость. По мнению Кортеца, Тараканцев много мог бы сделать для него (и с большой выгодой для себя!), если бы не был столь труслив… Эту черту «непременного члена всех комиссий» Кортец хорошо запомнил.
Проживая в Париже, он следил за судьбой некоторых своих советских «знакомых», а ныне, отправляясь в Москву, решил, что вирусоподобный активист Тараканцев обязательно поможет ему и Джейку найти, а затем и вывезти ценнейшую коллекцию Грозного. Поможет именно потому, что зоологически труслив…
* * *
Как раз в тот момент, когда Лирика по телефону «поймала» наконец Лжедимитрия на каком-то музейном совещании, безголосый звонок три раза кашлянул в передней ее квартиры.
Лютеция Гавриловна с густо напудренным пароходным рулем, заменявшим ей нос, набросила на свои богатырские плечи тюлевую накидку цвета ше-муа (подарок графа Фридриха Марии!) и пошла открывать дверь. На пороге стояли двое мужчин в светлых костюмах: один объемистый, смуглый, восточного типа; другой – высокий, худощавый, бледнолицый.
– Прошу прощения, мадам, – с легким акцентом сказал по-русски пожилой. – Здесь квартира Дмитрия Петровича Тараканцева?
Лютецию Гавриловну трясло от волнения: перед нею стояли, с нею разговаривали живые иностранцы! Может быть, они прямо из Парижа приехали? Может быть, вот этот молодой – граф или виконт?…
– Да, – внезапно осипнув и потеряв свой роскошный бас, произнесла Лютеция Гавриловна. Она распахнула дверь и прохрипела сразу на трех языках: – Силь ву плэ! Битте! Плииз!..
Кортец протиснулся в дверь, поцеловал пахнущую детским мылом генеральскую длань Лютеции и отрекомендовался:
– Педро Хорхе Кортец! А это мой молодой друг, Жак Бодуэн.
Джейк Бельский приложился к руке Лютеции и, поморгав, сказал:
– Я счастлив с вами познакомиться, мадам…

– Моя дочь, Лирика Аполлоновна, супруга Лже… супруга Дмитрия Петровича. – овладев своим фельдфебельским голосом, сказала мадам и ввела гостей в наспех убранную комнату.
На Лирику страшно было смотреть. Ее почти не имеющая точных очертаний фигура была облачена в шелковое платье цвета багрового и тревожного, как пожар. Парижская горничная Кортеца Мадлен со своими ресницами и огненными губами могла бы показаться рядом с ней простой пастушкой. Рыжие и жесткие космы Лирики были взвихрены и торчали, как наэлектризованные; натертые ладошками щеки пылали; подведенные глаза метали молнии, а высокоподтянутый бюст колыхался и наступал, как девятый вал на картине Айвазовского. Она была, пожалуй, похожа на жену подлинного Лжедимитрия – Марину Мнишек, которую после расправы с самозванцем изрядно потрепала толпа восставших.
Через несколько минут все освоились и завязался «светский разговор». Гости учтиво восхищались красивыми домами новой, социалистической Москвы, а хозяев больше интересовал старый, капиталистический Париж.
– Правда ли, мсье Кортец, что в Париже американские офицеры среди бела дня похищают девушек? – спросила Лирика.
– Увы, это так, мадам, – с грустью ответил «потомок великого конквистадора». – Но только не всех похищают, а… некоторых. И не днем, а ночью.
Мадам уже поставила на стол кофе, булочки, масло, зернистую икру…
В глазах Кортеца при виде икры появился плотоядный огонек.
– Икра! Зернистая!.. Жак, вы когда-нибудь видели живую сказку? – спросил он.
– Нет, – чистосердечно сознался Джейк.
В этот момент в передней щелкнул замок, и в квартиру ворвался Тараканцев. Он именно ворвался, а не вошел. Сообщение жены о том, что к нему в дом направляются какие-то иностранцы, всполошило Лжедимитрия так сильно, что он первый раз в жизни дезертировал с совещания…

Тараканцев бросил шляпу и, протирая окуляры, оправленные золотом, вошел в комнату.
Гости встали.
– Мсье Кортец и мсье Бодуэн!.. – торжественно представила гостей Лирика. – Они ждут тебя, Дмитрий.
Иностранцы поклонились и пожали руку сильно встревоженному хозяину.
– Очень приятно… очень приятно… – забормотал Лжедимитрий, обшаривая неожиданных гостей своими бегающими, рысьими глазами. – Прошу садиться… Чем обязан, господа?
Кортец засмеялся:
– Нет, я вижу, что вы меня не узнаете, товарищ Тараканцев, – сказал он и печально покачал головой. – Да и как узнать! Двадцать лет не видались… Я постарел, растолстел. А вы все такой же. И бородка та же, и золотые очки…
– Позвольте! – наморщив лоб, сказал Тараканцев. – Кортец? Агент антикварного треста?!
– Увы, это я, Дмитрий Петрович… Торгсин. Кое-какие картины… Коптское евангелие…
– Как же, конечно, помню! – без всякого восторга произнес Тараканцев. – Педро Хорхе Кортец?
– Совершенно верно! У вас феноменальная память на имена… А это мой юный друг, такой же вольный турист, как и я, Жак Бодуэн.
Джейк поклонился.
– Очень приятно, – сказал замороженным голосом Тараканцев. – Я могу быть вам чем-нибудь полезен, господа?
– Мне очень неприятно вас беспокоить, Дмитрий Петрович, – сладко начал Кортец, – но мой друг, Жак Бодуэн, сын состоятельных родителей, изучает древнее восточное искусство. Ему нужно побывать в некоторых ваших музеях…
У Тараканцева отлегло, он успокоился и с любопытством посмотрел на «Жака Бодуэна». Тот заискивающе моргал и глядел на Лжедимитрия с детской просительной улыбкой.
– Конечно! Пожалуйста! Для туристов у нас везде открыты двери, – сказал Тараканцев в, подтверждая свои слова жестом, широко развел руками.
– Пользуясь давним знакомством с вами, Дмитрий Петрович, я хотел просить вас, чтобы вы посоветовали, наметили мсье Бодуэну маршрут, – сказал Кортец и, оглянувшись на дам, добавил виноватым тоном: – Впрочем, боюсь, что это будет разговор скучный и утомительный для наших прекрасных Дам.
Практичная Лютеция Гавриловна сразу сообразила, что парижские гости явились не за музейными советами, а по какому-то более важному делу.
– Рика, дорогая! Я давно собираюсь показать тебе кружева, которые подарил мне граф Фридрих Мария… – нежно пробасила она и, взяв за руку свою недогадливую дочь, увлекла ее в соседнюю комнату.
ДВА НЕИЗВЕСТНЫХ ПОРТРЕТА
– Мы с вами, Дмитрий Петрович, беседуем уже полчаса и никак не можем договориться, – печально склонив голову набок, сказал Кортец.
Тараканцев нервно забарабанил пальцами по столу:
– И никогда не договоримся, господин Кортец. Я ничем не могу помочь вам. Никакие ваши гонорары мне не нужны. А раскопки производить в нашем монастыре вряд ли кто вам разрешит. Даже на концессионных началах.
Кортец остановился у подоконника и сосредоточил свое внимание на каком-то ядовито-зеленом кактусе, похожем на опухоль.
– Печально! – со вздохом сказал он, повернувшись к Тараканцеву. – У вас здесь действительно что-то произошло, что-то изменилось.
– Да, мсье Кортец, времена Торгсина канули в вечность, – ухмыльнувшись в бороду, ответил Тараканцев. – Сейчас мы ведем культурный обмен с заграницей, но не продадим уже ни одного ценного произведения искусства.
– Дух времени изменился, – не то спросил, не то констатировал Кортец.
– Совершенно верно…
– Но я не верю, чтобы изменились люди, которые с легким сердцем меняли шедевры искусства на крупорушки, многозначительно глядя на Тараканцева, пророкотал Кортец.
Лжедимитрий насторожился:
– Не знаю, кого вы имеете в виду. Я лично вам ни одного шедевра не продал.
– Дмитрий Петрович! – с подозрительной искренностью сказал Кортец, приблизившись к Тараканцеву. – Я тоже так думал. Но однажды… Это было совсем недавно, в Париже… Я убедился, что вы, может быть – сами того не зная, все же продали мне два шедевра, два неизвестных портрета кисти Боровиковского…
Тараканцев даже привстал от неожиданности:
– Что такое? Я вас не понимаю…
– Жак, душа моя! Объясните товарищу Тараканцеву то, чего он не понимает, – обратился Кортец к Джейку, тихонько сидевшему в стороне и безучастно разглядывавшему физиономию Тараканцева, тщательно упакованную в дьячковскую бородку.
– С удовольствием, мсье, – сказал Джейк и, вынув из большого конверта две цветные репродукции, положил их на стол перед встревоженным Тараканцевым.
– Это два пейзажа. Они были куплены мсье Кортецом в России и проданы мне. С помощью рентгена я убедился, что под верхним слоем находится еще одно изображение.
Джейк вынул из конверта новые репродукции и, как продавец перед покупателем, положил их перед Тараканцевым:
– А здесь уже запечатлен процесс расчистки. Вот лицо… рука… часть фона… вот подпись… У нас имеется заключение крупных художников, подтверждающих, что пейзажи были нанесены на портреты работы Боровиковского…
– …и проданы мне за гроши с разрешения эксперта Дмитрия Петровича Тараканцева, – продолжил Кортец, иронически глядя на помертвевшее лицо Лжедимитрия. – Прикажете показать купчую?…
Тараканцев, как две– свинцовые пули, вонзил свои глаза в холеную, самоуверенную морду Кортеца. С минуту он молчал, наконец хрипло пролаял:
– Жулики! Шантажисты! Я сейчас же позвоню в эмвэдэ!
Джейк деловито сложил в конверт репродукции и уселся на прежнее место все с тем же видом невинного дитяти.
Кортец покачал головой:
– Ругаться не надо, Дмитрий Петрович. Это ни к чему. А позвонить в эмвэдэ нужно. Пускай разберутся в этом темном деле…
Он подошел к телефону и снял трубку:
– Жак, номер телефона эмвэдэ?
Джейк уже листал свою записную книжку:
– Сию минуту, мсье…
Тараканцев подбежал и вырвал у Кортеца трубку:
– Ведите себя прилично! Вы в чужом доме!
Кортец развел руками:
– Но вы же сами хотели позвонить. Зачем медлить?…
Тараканцев зашагал по комнате. Его трясло, как в лихорадке. Тон Кортеца и его уверенность сбили несчастного Лжедимитрия с толку. Шутка ли сказать! Он за гроши продал ловкому агенту два ценнейших шедевра русского искусства!.. И кто поверит, будто он, Тараканцев, не знал, что именно находится под жалкой мазней, под двумя посредственными пейзажами?
Подставив под люстру волосатые пальцы, Кортец любовался игрой камней на своих перстнях. Джейк своими зелеными веками посылал в потолок непонятные сигналы.
Молчание длилось минуты две. Слышны были лишь подавленные вздохи Лирики за стеной и взволнованное сопение Лютеции Гавриловны, прильнувшей ухом к двери.
– Где оба полотна? – спросил наконец Тараканцев.
– В гостинице, мсье, – подавшись вперед, вежливо сообщил – Джейк.
– Милости просим завтра утром к нам! – сказал Кортец. – Прихватите с собой профессора Кончаковского. Он большой специалист по Боровиковскому.

– Ни в какие гостиницы я не поеду! – хмуро проворчал Тараканцев. – Приезжайте сюда завтра вечером сами. Я и без Кончаковского во всем разберусь…
– Очень хорошо! – с нескрываемым удовольствием согласился Кортец. Он заранее был уверен, что Кончаковского Тараканцев в это дело не впутает.
Тараканцев сел и задумался.
Кортец подсел к нему и постарался говорить как можно задушевнее:
– Дмитрий Петрович, душа моя! Не сердитесь. Конечно, вы тут ни при чем. Кто-то во время революции замазал Боровиковского, чтоб не реквизировали. Вот и всё. Я обещаю вам, что, как только мы с Жаком вернемся из монастыря, оба полотна будут ваши. Вы можете их сжечь или преподнести как открытие и прославиться…
– Что вы будете искать в этом монастыре? – угрюмо глядя на Кортеца, спросил Тараканцев.
– Там погребен боярин Бельский, друг Ивана Грозного. У Жака есть сведения, что в гроб Бельского положена одна интересная древняя рукопись.
– Византийская антология Агафия пятого века, – с большой готовностью пояснил Джейк. – Ко мне попал от одного из эмигрантов ее титульный лист…
Он извлек из внутреннего кармана и передал Тараканцеву свернутый в трубку и заправленный в ватманскую бумагу пергамент. Тот долго и внимательно разглядывал его, а возвращая, сказал:
– Не думаю, чтобы вы что-либо там нашли. Все ценное вывезено. Остальное учтено и хранится в местном музее.
Кортец засмеялся и легонько хлопнул Тараканцева по плечу.
– Наша жизнь осмыслена только в том случае, если мы ежедневно отправляемся на охоту за счастьем, Дмитрий Петрович, – произнес он философски. – Почему бы нам, скромным туристам, не поохотиться за счастьем на севере России, в романтическом древнем монастыре?
– Я уже сказал: вам никто не разрешит заниматься там раскопками! – холодно молвил Тараканцев.
– Мне – нет, а вот этому юноше разрешат, – кивнул на Джейка Кортец.
– Почему вы так думаете? – насмешливо поглядев на Джейка, спросил хозяин дома.
– Жак, продемонстрируйте товарищу Тараканцеву свои документы! – коротко приказал Кортец.
Джейк встал, быстро извлек из кармана бумажник и протянул Тараканцеву какой-то документ. Тот развернул, прочел и ахнул: он держал в руках командировочное удостоверение на бланке своего учреждения, с печатью и за своей подписью. Да, это была его собственная подпись: мелкая, замысловатая, с хитрыми закорючками. В удостоверении сказано было, что научный сотрудник Георгий Иванович Богемский направляется для исследовательской работы туда-то и туда-то…
Тараканцев поправил очки и внимательно поглядел на Джейка: «Диверсант? Шпион? А что, если его сцапают?… Нет, чепуха!.. Легко можно будет установить, что удостоверение сфабриковано».
Он вернул документ и, криво усмехнувшись, сказал:
– Сразу видно, что вы «сын состоятельных родителей».
Джейк промолчал и сел на свое место. Но Кортец весело рассмеялся:
– Его родители были совсем бездетны, Дмитрий Петрович. Пусть им легко будет на том свете…

Тараканцев встал:
– Итак, завтра в это же время я жду вас, – холодно произнес он.
Не рассчитывая на рукопожатие, Кортец поклонился с сияющим лицом:
– Непременно, душа моя! Только я не смогу приехать. Приедет Жак и привезет пока одно полотно. А потом можно будет посмотреть и второй шедевр…
В комнату ввалилась Лютеция Гавриловна, за нею неуверенно вошла Лирика.
– Как?! Вы уже уходите? – оживленно спросила мадам.
– К сожалению, нам пора, – сказал Кортец и приложился к мощной руке Лютеции.
То же самое проделал Джейк.
– Ваш муж стал бы великим человеком, мадам, если бы в Советском Союзе ценили истинный ум, – льстивым тоном произнес Кортец и поцеловал руку Лирике.
Тараканцев остался в комнате, так и не решив, нужно ли ему провожать гостей или нет…
– Ум! Великим человеком стал бы! – зарычала Лютеция, когда за Кортецом и Джейком захлопнулась дверь. – Ему люди предлагают выгодное дело, суют деньги, а он из себя святого корчит…
– Лютеция Гавриловна! – истерически завизжал Тараканцев. – Извольте замолчать!
– Мама, отстань, пожалуйста! – окрысилась Лирика.
– Я замолчу! – грозно сказала мадам. – Но теперь и вы, Лжедимитрий Петрович, будете молчать, как жареный судак. Эти господа вас так зажмут в кулак, что вы и не пикнете…
МОНАСТЫРСКИЙ СТОРОЖ

Тася и Волошин бродили по обширным монастырским дворам, опускались в страшную подземную монастырскую тюрьму, поднимались на гребни крепостных стен высотой в пятнадцать метров и на башни, столь же мощные, разнообразные и высокие, как башни московского Кремля. Тася веревочкой измерила высоту Кузнецкой башни, стоящей прямо в воде озера, получилось сорок восемь метров.
Взявшись за руки, как школьники, они ходили и смотрели; смотрели и обменивались впечатлениями; вспоминали всё, что узнали о Вологде, об этом русском чуде, гордо стоящем над водой озера, о сказочном «граде Китеже», затерявшемся в северных лесах. Остановившись на зеленом холмике, Тася сияющим взором окинула своеобразные монастырские строения, видневшиеся вдали: прекрасную и сложную группу храмов, кельи, палаты, трехэтажные стены с бойницами. Она прислушалась: вокруг стояла тишина, лишь издалека доносился сигнал одинокой машины, гудели шмели и шептались березы.
– Как странно! – сказала Тася. – Лишь три дня назад мы были в Москве, в самом центре бурной современной жизни, и вот попали сразу в тринадцатый, четырнадцатый века, в фе-о-да-лизм… И знаете, Ваня, я должна сознаться, что этот феодализм мне очень нравится.
– Уставом комсомола это не предусмотрено, Настенька, – с деланной серьезностью ответил Волошин. – Но когда этому комсомольскому уставу девятнадцать лет, когда его глаза горят, как тысячесвечовые лампы, а сам он облачен в белое шелковое платьице, усыпанное маками…
– Довольно! – нетерпеливо прервала его Тася. – Вытаскивайте скорее свою тетрадку и прочтите, что вы там записали, в Вологде, об этом монастыре.
Волошин покорно достал из-за пояса общую тетрадь и, развернув, стал читать, как псалтырь:
– «Русский север среди своих исторических памятников насчитывает несколько монастырей, из которых наибольшее значение имеют монастыри-крепости, бывшие проводниками не только религии, но и московского влияния, проводниками идеи объединения вокруг Московского государства всей русской земли…»
– Нет, не то!..
– Гм… Почему «не то»? Очень дельные слова, – сказал Волошин. – Вот послушайте: «В определенные исторические эпохи наши монастыри-крепости поднимались до значения защитников русского государства»…
– Да нет же! Это скучно… – нетерпеливо сказала Тася. – Найдите там про этого монаха, который ушел из московского Симонова монастыря в четырнадцатом веке и поселился вот здесь, на этом холмике, в диких лесах.
– Святой Кирилл? – насмешливо спросил Волошин. – Настенька! Побойтесь бога! Я говорю в буквальном смысле. Вы, чего доброго, здесь молиться начнете…
– Ах, Ваня! – со вздохом сказала Тася. – Ну зачем вы острите? Я не буду молиться. Но я хочу понять этого человека. Кто он? Почему ушел из Москвы в глушь?… Ведь он там архимандритом крупного монастыря был! Знать московская под благословение к нему подходила… В чем же дело? Что ему в этих диких северных дебрях понадобилось?… Ответьте мне. Только без ваших острот.
Волошин оглянулся, внимательно посмотрел на крохотную деревянную избушку отшельника, укрывшуюся под сенью берез и безмятежно стоящую здесь лет шестьсот.
– Кирилл Белозерский. В миру – Кузьма, бывший дворовый человек боярина Вельяминова. Церковники называют его святым. Пусть называют. Это их личное дело… А я думаю, Настенька, что этот человек был мыслителем, философом. Вот я записал в Вологде одно место из его философского трактата «О падающих звездах». Послушайте, что написал этот умный русский человек шестьсот лет назад, сидя у лучинки вон в той крохотной избушке…
– Да, да, читайте! – воскликнула Тася и затихла в ожидании:
«…Одни говорят, что это падают звезды, а другие, что это злые мытарства. Но это и не звезды и не мытарства, а отделения небесного огня, насколько нисходят они вниз, расплавляются и опять сливаются в воздухе. Поэтому никто не видел их на земле, ибо всегда они рассыпаются в воздухе»[8]8
Подлинная выдержка из труда Кирилла Белозерского. См. его трактат, опубликованный по архивам Кирилло-Белозерского монастыря в сборнике «Поездки по монастырям», Вологда, 1916.
[Закрыть].
– Удивительно! Ведь это же учение о метеоритах, – тихо сказала Тася.
– Да… Он точно и ясно охарактеризовал небесное явление в те годы, когда никто не смел и не умел так думать. И при этом, заметьте, Настенька, никакой мистики и метафизики. Это чистейший материализм.
– Но что заставило этого человека бежать сюда? – спросила Тася.
– Думаю, что для подобных размышлений в те годы северные лесные дебри были самым подходящим местом, – ответил Волошин и, обведя взглядом красивый уединенный уголок, добавил: – Видимо, это была натура созерцательная…
Тася и Волошин продолжали свою поэтическую прогулку по древней русской крепости. Не станем говорить громких фраз об изумительном северном памятнике русской старины, куда судьба случайно забросила двух московских комсомольцев. Скажем лишь, что монастырь этот не выдуман: автор был в нем и испытал там величайшее удовольствие. Куда ни направишь взгляд – всюду прекрасные произведения русского древнего зодчества. И чтобы почувствовать всю красоту этой крепости, чтобы понять ее форму – простую, строгую, могучую, рассчитанную лучшими военными строителями нашей старины, – ее нужно увидеть…
На юношу и девушку, бродивших по всем уголкам этого монастыря, действовало, кроме всего, и другое: густые заросли полыни, васильки, ромашки, зеленый ковер на лужайках дворов, уединенное благоухание под небом ослепительной ясности. Все это воспринималось, как музыка, и кружило голову…
Совсем иначе воспринимали монастырскую обстановку Кортец и Джейк Бельский. Они приехали в этот монастырь на неделю раньше, чем Тася, Волошин и профессор Стрелецкий. И Джейк успел уже обнаружить ход в подземелье, находившийся в погребе под самой высокой крепостной башней, Кузнецкой. Но оказалось, что ход этот завален кирпичом и грунтом. Директор монастыря-музея Янышев объяснил «московскому» и парижскому гостям, что обвал произошел почти триста пятьдесят лет назад, во время осады монастырской крепости польскими и литовскими интервентами вследствие подкопа… Для того, чтобы расчистить ход в подземелье, требовались большие земляные работы. Джейк уже договорился с местным райисполкомом о рабочих, о транспорте. Расходы брал на себя Музейный фонд, за представителя которого Джейк себя выдавал.
В данную минуту Кортец и Джейк также путешествовали по монастырю и обменивались такими мыслями.
– Как вы думаете, Джейк, во что обошлись расходы по сооружению всей этой махины? – спросил Кортец, охватывая широким жестом крепостные сооружения.
Джейк быстро извлек свою записную книжечку, в которой было записано все, вплоть до имени и отчества начальника речной пристани.
– Сию минуту, мсье… Сорок пять тысяч рублей… В переводе на современные деньги это около десяти миллионов долларов…
– Я купил бы этот монастырь, если бы он продавался и если бы не торчал в такой дали от Парижа. Я показывал бы его восторженным историкам и искусствоведам, – воодушевляясь, говорил Кортец, шагая вдоль могучей крепостной стены. – За большие деньги я пускал бы сюда отдыхать усталых богачей. Монастырь-санаторий для нервных, издерганных людей! Экстра!.. А вон тот благоуханный дворик с полынью – для влюбленных. Поцелуй в тишине и в зарослях такого дворика входит в сердце, как нож…
– А я сдавал бы этот монастырь в аренду Голливуду… – мечтательно произнес Джейк.
– Правильно! – крикнул Кортец и, вздохнув, добавил: – Странно, Советская Россия – страна, где нельзя безнаказанно быть дураком. Это впечатление выносят все здравомыслящие иностранные гости. А между тем чем, если не глупостью, можно назвать то, что такое доходное сооружение прозябает и пустует где-то в глуши?…
– А вот Ивану Грозному как раз это и нравилось, мсье, – ответил Джейк.
– Ну, у него были свои соображения, кстати, видимо, тоже не лишенные материальной основы, – рассудительным тоном сказал Кортец. – Кто-кто, а он, наверно, знал, что его книжечки стоят десятки миллионов долларов… У русских есть такая пословица: «Подальше положишь – поближе возьмешь»… Запомните ее, Джейк.
– Постараюсь, мсье…
Кортец и Джейк не спеша шагали по узкой зеленой полоске земли, отделявшей Сиверское озеро от стен и башен монастыря. Здесь так же, как и во всем монастыре, стояла вековая тишина, лишь робкие волны вели тихий разговор на пологом берегу озера…
Джейк оглянулся. За ним по пятам шел мрачный монастырский сторож Антон. Его мучила одышка, но он шел, сопя и тяжко ступая по пушистой траве своими огромными сапогами. Связка больших ключей болталась у него на канатном поясе.
– Зачем вы взяли его с собой, мсье Кортец? – кинув недовольный взгляд на старика, спросил Джейк по-французски.
– У него все монастырские ключи, товарищ Богемский. Это здешний апостол Петр, – посмеиваясь, ответил Кортец.
– Вы забыли, что я сотрудник музейного фонда, мсье. Я отберу у него все ключи и пошлю его к черту, – холодно сказал Джейк.
– Это будет ваш второй глупый поступок, товарищ Богемский, – продолжая путь и не оглядываясь, произнес Кортец.
Джейк посмотрел на него удивленно:
– А какой был первый?
– Письма на Ордынке. Они ничего нам не дали, но, наверно, уже пустили по нашему следу какого-нибудь Пинкертона.
– Чепуха!
– Дай бог, товарищ Богемский, чтоб это оказалось чепухой. Но с этим конвоиром мы не привлекаем ничьего внимания.


Кортец подошел к воде. Озеро, потревоженное легким ветерком, поблескивало мелкой сверкающей рябью и устремлялось к монастырю, как толпа паломников, но на берегу путь ему преграждали гладко отшлифованные многопудовые валуны.
– Спросите его, откуда эти камни? – обратился к Джейку Кортец.
Джейк пожал плечами: вопрос казался ему праздным. Но все же он перевел его, безразлично глядя в тусклые, блуждающие глаза старика.
– Оттуда… – старик кивнул на высокие крепостные стены монастыря и добавил, с усилием выговаривая каждое слово: – Монахи бросали их… на головы… непрошеным иностранным гостям…
– Ого! – не дождавшись перевода, весело воскликнул по-французски Кортец. – Вы чувствуете, товарищ Богемский, какой камень бросил в мой иностранный огород этот мельник из оперы «Русалка»?
Старик внимательно смотрел на Кортеца из-под своих седых нависших бровей.
– Что сказал… этот господин? – спросил он, переводя взгляд на Джейка.
– Он говорит, что вы похожи на мельника из оперы «Русалка», – с презрением и насмешкой глядя на него, ответил Джейк.
Старик заклохтал, как глухарь на току. Он смеялся и тряс своей лохматой головой.
– Какой я мельник?! Я ворон здешних мест! – сердито сказал он, внезапно оборвав смех.
Джейк и Кортец переглянулись.
– Любопытно… – после долгой паузы произнес по-французски Кортец и зорко поглядел на старого сторожа. – Этот столетний пень, оказывается, кое-что смыслит в операх и даже умеет острить.
Джейк теперь уже настороженно и подозрительно поглядывал на старика, но тот не обращал ни на него, ни на Кортеца никакого внимания. Усевшись на один из валунов и сняв свой рыжий сапог, он с сопением перематывал бурую, вонючую портянку.