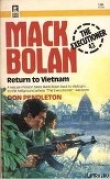Текст книги "Мир приключений 1957 г. № 3."
Автор книги: Иван Ефремов
Соавторы: Евгений Рысс,Нина Гернет,Григорий Ягдфельд,Леонид Рахманов,Григорий Гребнев,Феликс Зигель,Николай Атаров,Илья Зверев,Олег Эрберг,Н. Рощин
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 57 страниц)
НА «ВЕЧЕРИНКЕ»
Работы моей первой экспедиции подходили к концу. Уже почти два года был я оторван от самых примитивных удобств жизни. Я оброс окладистой бородой, перенес по неопытности и невнимательности тяжкие солнечные ожоги и загорел дочерна, и из глубины походного зеркала смотрело на меня косматое лицо какого-то балаганного страшилища. Все шло успешно. Карта громадного района, составляемая упорной и прилежной работой с помощью хороших современных инструментов, подходила к концу; отношения как с рабочими отряда, так и с местными племенами установились за время работы превосходные, на основе полного доверия. Молва обо мне как о человеке простом и точном в расчетах бежала далеко по округе. В отношениях ко мне со стороны местных жителей было сверх меры и почтительности, которая стесняла и коробила меня, и той готовности к работе, которая была мне необходима. Что до самого отряда, то уж и не говорю о помощнике моем Цезаре, преданном делу до полного самозабвения, но и, помимо него, человек пять – шесть рабочих привязались ко мне с совершенно детской искренностью и по-настоящему горевали по поводу скорой нашей разлуки…
Еще в Париже часто слышал я стоеросовую глупость, что «все негры на одно лицо». С первых же дней работы встали они передо мною поодиночке, каждый со своим характером, особенностями, способностями. Прекрасный народ, отдающий делу, если оно их интересует, все свои силы. Мне подчас просто нельзя было обойтись без окрика – они увлекались работой до такой степени, что пренебрегали основными указаниями, и старались до такой меры, что работали уже не только без пользы, но иной раз и в ущерб делу. Доверишь какому-нибудь способному парню промер до вершины пологой гряды километрах в трех, а он уже давно пересек вершину и перекидывает цепь дальше, исходит потом усердия впустую, а в инструментах нехватка…
В конце тяжелого трудового дня рабочие собрались в тени громадного баобаба, возраст которых, как уверяют в Африке, доходит до пяти тысяч лет. Еще светло, заходит солнце, в розовом воздухе стоит чудесная прохлада. Меня приглашают посмотреть «представление». Вот в центр широкого полукруга выходит единственный герой пантомимы. Полное безмолвие среди зрителей, обычно шумных, внимание напряжено. Артист идет медленно, почти торжественно. Вот он расставил ноги, слегка наклонился, потом крепко потер рука об руку, потер лицо, вытянул вперед руки, сложенные пригоршней, и сейчас же опять поднес их к лицу, и так несколько раз. Вот левую ладонь поставил вертикально перед главами, а правой рукой вытащил из-за пояса небольшую узкую дощечку и несколько раз провел ею по волосам от лба к затылку. Вот сел на землю, вытянул вперед босую свою ногу и обеими руками стал проделывать над нею какие-то сложные зигзагообразные движения. И каждый раз в перерыве между «действиями» в полукруге людей поднималась восторженная буря. Секреты талантливого исполнителя мгновенно разгадывались. Это все… про меня. Я умываюсь, причесываюсь, зашнуровываю свои высокие ботинки…
После двух-трех недель блуждания в бруссе или голой степи, где нет никакого человеческого следа, приятно было прийти в селение, отдохнуть, привести себя в порядок, помыться. С местным населением у нас всегда устанавливались хорошие отношения. На самые простые и спокойные слова привета жители отвечали дружеской радостью. Я передавал в их руки мой сильный бинокль, и они окаменевали от этого колдовства, так смело и неожиданно обращавшегося с привычными им расстояниями. Я потешал их патефоном, к которому было у меня несколько дисков с негритянскими мелодиями. И они просили показать им маленького человека – духа, который так звучно поет. Но чем уж окончательно поражал я местных жителей, это фотографией. У меня был казенный аппарат и неограниченное количество принадлежностей к нему. Я делал одиночные и групповые снимки. И негры помирали от хохота, рассматривая себя в удивительной «жизни на бумаге». Иной восторженный паренек брел за нами десятки километров, держась в отдалении, и показывался на люди и делал руками умоляющие знаки только тогда, когда я собирался делать «жизнь на бумаге»…
В праздничные вечера любил я пойти на негритянскую «вечеринку». Интересное, очень своеобразное, а поначалу и несколько пугающее зрелище! С заходом солнца гремят там-тамы, извещая о начале празднества. Сходятся – вернее, сбегаются – люди, важно выстраиваются впереди старики. С темнотой загораются факелы и приводят пейзаж в состояние фантастической пляски. Негры садятся в круг и начинают бить в ладоши. Выходят «сунгуру» – танцовщицы – обычно десять-двенадцать юных девушек, худеньких, стройных, необыкновенно пропорционального сложения – и начинают свой экзотический танец, которого не знает ни один народ мира. Их движения, поначалу очень плавные, грациозные, все учащаются. Жесты все энергичнее и быстрее. Танцовщицы подскакивают, приседают, бьют себя руками по обнаженному телу и через такт кивают головами все сильнее и сильнее. Уже их запрокидывающиеся с маху назад головы, кажется, вот-вот оторвутся, уже взор не в состоянии ловить полностью сложную игру их трепещущих, как бы бескостных тел. Их глаза наполовину прикрыты веками. Бешеный ритм и страшен, но и самого тебя втягивает в это яростное, почти исступленное музыкальное стремление. Грохот там-тамов, подчиняясь сложному ритму, сливается с мелодичной музыкой «балафонов» – длинного ряда вытянутых тыкв, наполненных до разной высоты водой и издающих сухой и приятный звон. Костер высоко бросает в ночное небо, свой извивающийся язык, трепещут красные огни факелов. В масках, в ожерельях из клыков, ракушек и камней выходят мужчины и тоже пляшут, кружатся, несутся по кругу и то взлетают на воздух, то камнем падают на землю, и вновь пускаются в бешеный пляс, потрясай копьями вокруг огня и издавая пронзительные воинственные крики, – тысячу лет назад это, наверно, было страшно; сейчас знаешь, что это только забава, дань древней традиции.
В тяжкие тропические ночи у меня еще западало сердце и жестоко мучила бессонница. Часами, лежал я, ворочаясь, обливаясь потом, перед глазами всплывало раннее детство, далекая Россия, Париж, тяжелые годы нужды. Наконец я начинал засыпать, и воскрешенные памятью картины приходили в движение, фантасмагорически смешивались с видениями вечера: страшными масками, копьями, криками, пляской огня – начиналась бредовая карусель. Я стонал, просыпался. Тихо светили звезды тропического неба, грустно и глухо вскрикивала какая-то ночная птица; рядом, у догоравших костров, мирно спали уставшие за день мои помощники.
«ПЛЕВАКА»
Но вот и последние дни – предписание с базы: выехать такого-то числа. Что-то будет, какая ждет меня встреча? Каковы окажутся результаты моей работы, в которой подчас отступал я от «классических норм», – и не столько потому, что уже кое в чем эти нормы ушли из памяти моей, сколько по беспокойству характера, когда кажется, что сметка, находчивость, неожиданное решение на месте лучше, вернее проторенных путей?… Я вытаскивал тяжелую, большую папку, записи, кроки, чертежи – плод долгой экспедиции – и вновь и вновь с тревогой проверял материалы. Нет, как будто все хорошо…
Вот и самый последний день – расчет с рабочими, прощание. Ночь, костры, упаковка тюков с инструментами и остатками продовольствия, церемонно протягивающиеся руки, выражения признательности и верности, витиевато-сложные пожелания, просьбы возвращаться поскорее, трогательные подарки. В отряде оставался только прибывший со мною основной кадр – двенадцать человек. С ними и двадцатью носильщиками, которые должны были проводить нас до начала проезжей дороги, я и тронулся на рассвете в долгий путь.
Нам пришлось пройти больше трехсот километров девственными землями. Ночи проводил я с дежурной половиной отряда у костра, под львиный рев, когда становилось всерьез страшно, а чуть начинало светлеть небо, по холодку трогались мы дальше, шли по степи и зарослям бруссы, вступали в прохладно-темные рощи «эпифитов» – огромных папоротников, растений как бы первичной эпохи.
После утомительного перехода грязный и тяжелый грузовик, поджидавший нас в негритянском селении, прыгавший потом по ухабам отчаяннейшей дороги больше двух суток, показался мне райской колыбелью. На остановках шофер-негр, улыбаясь, извлекал из-под сиденья и протягивал мне бидон с теплым «пипи» – просяным пивом.
База. Какое это было удовольствие – стрижка и бритье, душ, электрический свет, отдых! Мне был дан месяц для окончательного составления карты – полуработа, занятие легким делом в спокойных условиях… С непередаваемым волнением поздним вечером в день приезда долго слушал я голоса моей родины из далекой Советской России.
В первые дни моего пребывания на базе произошел случай, который мог стоить мне жизни. Как-то вечером, ложась спать, я увидал на земляном полу у кровати маленькое круглое отверстие. Подумав, что это работа какого-нибудь крота, я не обратил на дыру никакого внимания. На другой день она увеличилась. Еще через день, тоже вечером, я наклонился и заглянул в глубокое отверстие. И вдруг оттуда на меня сверкнули два ярчайших рубина. Я отскочил, и тихо-тихо поднялась над отверстием голова змеи. Сильнейший страх швырнул меня в сторону, я вскочил на кровать, прижался к деревянной переборке и закричал в полном безумии. Змея медленно, со стальной напруженностью поднималась выше и выше… Мне показалось, что она вытягивается бесконечно. Под отчаянный мой крик распахнулась дверь, и вбежал сержант, спавший за стеной. Вмиг сообразив, что происходит, ловким, быстрым движением сбоку он ударил гада палкой по голове. Это была одна из самых ядовитых змей Африки – «крашёр», «плевака». Мерзкое создание имеет свою особенность – оно плюется с изумительной точностью. Слюна, задевая слизистую оболочку, вызывает сильнейшее злокачественное воспаление, а попав в глаза, выжигает их. Нередки смертельные случаи.
Я обнял сержанта и долго тряс ему руку. Ловко было бы, черт возьми, после двух лет тяжелой и упорной работы и, главное, только что почувствовав уверенность в своих силах, корчась, умереть под тропиками!
ДЕРЕВЯННАЯ ЛОПАТКА
На базе с грустью отрывал я каждое утро листок календаря – как быстро летело время!
Утром, на самом рассвете, короткий завтрак и – за работу! В моей комнате тесовые стены, земляной пол, громадный чертежный стол. Кропотливая, хоть и неутомительная работа пробуждала во мне некоторую гордость: первая подлинная карта громадного района составлялась мною. Любой штрих на ней, извилина реки, мелкая россыпь негритянского поселка, болота, колючая мгла бруссы, горы – все решительно, до последнего оврага, пройдено ногами моими и моих чернокожих друзей, ощупано нашими руками. И сколько со всем этим перенесено страхов, бессонных ночей и подлинной опасности!
Работа до жары; затем обед, за которым мало ешь, но зато поглощаешь неимоверное количество воды; отдых и вновь работа до ужина. Спускается тропическая ночь, синяя до черноты, светится громадными звездами. Иногда доносится сухой грохот там-тама – на окраине негритянского квартала происходит какое-то событие внутреннего порядка. Но вот и грохот умолкает. И из тьмы идет волнами шум – сложный, разнобойный шум тропической ночи: уханье, кряканье, короткий рев, похохатывание, стрекот. А черный, светящийся изумрудным глазком ящик радио рассказывает о жизни и новостях Европы.
Население базы составляли люди не совсем обыкновенные, хотя бы по той причине, что сын векового обитателя среднего парижского квартала, наследник какой-нибудь пуговичной фабрики или москательной лавки в колонии не поедет. Это были в большинстве своем авантюристы, для которых, по русской пословице, «чужая шейка – копейка, и своя головушка – полушка»; люди превосходного физического здоровья и полного морального ничтожества, примитивного мышления и цинического подхода к жизни, совершенно лишенные понятий о чести, подлинном достоинстве и элементарной справедливости. Большинство их составляли бывшие военные.
Я чувствовал себя чужим среди этих людей. Я прежде всего не понимал их отношения к неграм, с которыми прожил как-никак два года в самом тесном общении и которых хорошо узнал. Меня злило это отношение. Мои сослуживцы были люди разных характеров, социального происхождения, взглядов и навыков, но почти всех их объединяло презрение к неграм, ненасытная алчность к деньгам и участие в темных служебно-коммерческих комбинациях.
– Ничего, обломают и вас колонии – и вы увлечетесь их возможностями… – говорили они с пренебрежительным холодком, почувствовав во мне человека несколько иного склада, и
Нет, колонии меня не «обломали», и возможности их нисколько не увлекли.
В эти дни, когда устанавливались мои личные отношения с сослуживцами и когда ясно мне стало, что отношения эти всегда будут натянутыми, одно происшествие едва не прервало мою служебную карьеру в Африке. Однажды, проходя по двору, я услышал доносящиеся из-за угла веранды странное глухое мычанье, пощелкивающие сухие удары и спокойный голос, отсчитывающий: пятьдесят четыре, пятьдесят пять… пятьдесят восемь… шестьдесят… Я подошел и увидел того самого соседа-сержанта, который несколько дней назад спас мне жизнь, убив змею. Перед сержантом, покачиваясь, стоял худенький негр. Тяжелой лопаткой черного дерева сержант мерно отпускал удары по протянутой ладони негра. Ладонь вспухла и лоснилась; глаза негра были закрыты, из-под опущенных ресниц катились слезы. Я кинулся вперед, отшвырнул сержанта, повел негра к себе в комнату, смазал его руку успокаивающим составом и перевязал ее, а сам в крайнем волнении, почти в ярости, влетел в кабинет начальника базы. Он только что уехал на один из участков, и я, не владея собой, закричал его заместителю, что, если еще раз увижу, что истязают негра, буду стрелять, что оставляю работу, рву контракт и немедленно еду в Париж, чтобы поднять дело против компании и ее людоедских порядков. Заместитель холодно, молча улыбался.
Через час ко мне явились трое служащих и объявили, что я нахожусь под домашним арестом и что, если я попробую выйти из комнаты, ко мне будет применена вооруженная сила.
В зале собрания шел суд. Меня обвиняли в нарушении дисциплины и в самом тяжком преступлении – в подрыве авторитета белых перед туземцами. Что мог я противопоставить моим судьям? Мое знание формального закона, запрещающего физические наказания? Но чего оно стоит перед казуистикой «кодекса Наполеона»? Мое возмущение жестокостью колонизаторов? Но на этой жестокости покоится вся административная система колоний. Мое напоминание, что негр по закону – такой же гражданин Франции, как и любой гражданин Франции, как и сами судьи? Но разве не вижу я, что лицемерная буква закона одно, а другое – вот эта подлая, бесчеловечная практика!
Меня взял под свою защиту второй помощник начальника, в прошлом офицер, капитан Мартэн. Я был оправдан, хотя и после долгих пререканий в «зале суда». Может быть, судьи почувствовали, что я действительно готов на все; может быть, учитывали и мою осведомленность об их темных махинациях…
Впрочем, темными махинациями занимаются здесь все. В районах католических миссий, так же как и возле колониальных баз, негры наркотическим плодам пальмы дум и листьям бетеля предпочитают ром и спирт, которые делают их более податливыми в вопросах религии и коммерции. «Отцы преподобные» занимаются не только обращением черных душ в лоно «истинной» веры и проповедью покорности на земле за райские долины после смерти, но и делишками более прозаическими.
Жизнь негра в колониальной Африке сопряжена с непрестанными опасностями и страхом. Близость к белым колонизаторам страх этот увеличивает. Страх – один из источников религии. Первичный трепет перед непостижимыми явлениями природы и перед силой большей, чем располагает сам негр, свойствен ему в значительной мере. Есть у него и тяга к содействию со стороны этих непостижимых «высших сил». В дебрях Черного материка видел я глиняные и деревянные, грубо размалеванные куклы – божки стихий и добрых и злых сил. Отношение к ним, впрочем, весьма непостоянное: то подобострастное, то фамильярное, а подчас и вовсе пренебрежительное.
Местами, разбросанные на большом расстоянии одна от другой, ведут свою «просветительную» работу католические миссии – и негры в тех местах считаются христианами. И опять-таки здесь все так перемешано со всяческим язычеством, что формалист-богослов не назвал бы это исповедание даже и ересью. В основе христианство принимается негром приспособительно к его нуждам: конечно, «бог-отец» помогает старикам; «бог-сын» – покровитель взрослого негра в его работе, охоте, рыбной ловле; «бог-дух» поддерживает больных и покровительствует скоту и особенно домашней птице, а богородица – заступница за женщин и никаким вниманием со стороны мужчин не пользуется. И все это самым причудливым образом переплетено с влиянием языческих культов, местными преданиями и родовыми обычаями. Бог-то бог, но не слабее его, а подчас и посильнее дьявол, поэтому надо улещивать и дьявола, а лучше всего ссорить их друг с другом, чтобы поменьше оба они уделяли внимания бедному негру. Статуэтки католических святых вполне сходят за идолов прежнего верования, и нередко в каже негра-католика можно видеть гипсовое изображение Франциска из Ассизи или Антония Падуанского, либо повешенное на веревочке головой вниз, либо смазанное салом – в зависимости от того, помог святой просившему или не снизошел до него…
В колониях религия предстала перед глазами моими как одно из самых сильных государственных и классовых орудий угнетения человека.
Эти очаги заразы, убивающие в человеке здравый разум, достоинство и волю к борьбе за благополучие, совершенно обнажены. Кюре или монах с крестом в руке, и рядом с ним солдат карательной экспедиции, вооруженный ручным пулеметом… В метрополии распространяются легенды о великодушии бессребреников-миссионеров, просвещающих и благодетельствующих «диких туземцев», издаются журналы, где помещаются елейно-сладкие рассказы и фотографии. Все это ложь и подлог! Кюре, окруженный черной детворой, – это кующееся новое звено каторжной цепи.
КАПИТАН МАРТЭН
Старый колониальный служака, Мартэн резко отличался от остальных чиновников базы. Прежде всего он был честен, не принимал участия ни в каких коммерческих проделках и относился к неграм более или менее по-человечески. Я как-то сразу почувствовал прямоту и цельность его натуры, и у нас установились добрые отношения еще до происшествия с моим арестом. С большой головой, стриженной бобриком, с шеей в гиппопотамьих тугих складках, с глазами ясными и несколько насмешливыми, с мускулатурой борца, он был монументален и в то же время необыкновенно подвижен.
Это он в первые дни моего житья на базе, когда я по природным свойствам самолюбивого человека стеснялся и конфузился на каждом шагу, оказывал мне поддержку незамысловатой шуткой, нелепым и веселым вопросом, вызовом побоксировать с ним. Человек со склонностью ко всяческим чудачествам, он подчас откалывал штучки, совершенно не шедшие к седевшим его бровям и атлетической фигуре, мог ни с того ни с сего во время серьезного разговора закричать петухом, зарычать, выкинуть замысловатое балетное антраша… Во время первой мировой войны он исколесил половину Европы, в конце кампании попал на Македонский фронт, бил там немцев, хорошо изучил сербский язык. И мне приятно было слушать древнее наречие славян. Я отвечал ему по-русски, мы понимали друг друга, и эти разговоры до чрезвычайности ему нравились. Капитан Мартэн был исключительным, циркового класса, стрелком, и на наших состязаниях в самодельном тире показывал чудеса. За время пребывания его в колониях он убил до полусотни пантер. Это цифра рекордная. Хитрого и кровожадного зверя убить нелегко – это всегда единоборство со смертью. Он сам отлично умел очистить и выделать шкуру зверя и, старый холостяк и романтик, живший воспоминаниями о войне, посылал во Францию эти свои трофеи в подарок женам и дочерям боевых товарищей. Может быть, в шумной толпе Больших Бульваров и сам я встретил когда-нибудь парижанку, не подозревающую, что шубка на ее плечах в какой-то миг прошлого была смертной угрозой капитану Мартэну.
Он был, кроме того, очень музыкален, и в его домике из двух комнат лежал целый набор разнообразных музыкальных инструментов, из которых остальным предпочитал он кларнет и скрипку. Репертуар его был очень обширен. Он по справедливости мог считаться знатоком классической музыки и не раз баловал меня Чайковским, Глинкой, Даргомыжским.
Но мало и того – капитан Мартэн был любителем-орнитологом. Он изучил множество птичьих пород под тропиками, собирался при поездке в Париж представить в Академию наук свой большой труд о птицах, и дом его доверху был уставлен чучелами пернатых: от огромного орла с размахом крыльев почти в два с половиной метра до витрины изумительных райских пичужек, расцветки столь радостно-сказочной, что нельзя было оторвать глаз от этой ювелирной роскоши.
Из двух страстей – орнитологии и музыки – родилось у капитана Мартэна еще одно чудачество. В здешних краях существует довольно редкая порода птиц с толстым, почти как у попугая, языком. Птицы эти певчие, но не с собственными, а с заимствованными трелями. Вероятнее всего, что это порода дроздов. Капитан Мартэн во время своих поездок по рабочим участкам отбирал птенцов, сам их выкармливал и в известном возрасте, когда птица начинает взрослеть и тяготиться безмолвием, с величайшим упорством и терпением обучал своих питомцев музыке и пению. В то время у него было девять птиц, из которых четыре взрослые. Четверка эта готовилась к подлинному музыкальному ансамблю. Участницы его жили в особом помещении с глухими стенами, в возможной изоляции от всяких посторонних звуков. И когда мы входили в это помещение, Мартэн просил нас не разговаривать и не смеяться, чтобы не соблазнять талантливых музыкантов новыми и ненужными возможностями тратить свои подражательные способности. Эти четыре птицы обучались каждая порознь звуку того или иного музыкального инструмента и определенной мелодии. Мне особенно нравилась довольно упитанная, несколько даже похожая на курицу, особа, гнусаво и с жужжанием, совершенно изумительно по точности, передававшая звуки виолончели. Эта компания – квартет из двух скрипок, кларнета и виолончели – должна была полностью играть марш из «Фауста». И Мартэн уверял, что он своего добьется…
Капитан Мартэн был единственным интересным и достойным уважения человеком на всей базе. Между ним и его сослуживцами – крупными и мелкими хищниками, морально убогими человекоподобными – лежала пропасть. В колонии привела его не корысть, а одиночество, разочарование в послевоенной Европе и то прирожденное тяготение к опасностям, которое свойственно натурам в хорошем смысле авантюристическим. При всех его чудачествах он был умен, достаточно образован, начитан, любознателен и, как я уже сказал, добр и справедлив. Но и ему недоставало широты кругозора, последовательности и силы суждений, правильного подхода к вопросу о взаимоотношениях между колонизаторами и цветными. Далек тогда от полной ясности в этом вопросе был и я сам, но все же отчетливее, чем он, видел я самый узел противоречий и их причины, – может быть, потому, что Мартэну не пришлось испытать тех унижений, сомнений, нищеты и обид, которые выпали на мою долю.
– Если вы, старина, с такой горячностью будете подходить к каждому пустяку вроде сегодняшнего, – говорил он мне в тот день, когда происходил «суд» надо мной, – то через год вы или очутитесь в Шарантоне [11]11
Шарантон – больница для умалишенных в одноименном пригороде Парижа.
[Закрыть], или закинете веревку за сук баобаба. Я вас отлично понимаю и не собираюсь спорить с вами. Так же как и вы, я знаю, что негр – это не рабочая скотина и не получеловек, а просто человек. Какую, к черту, культуру, какую мораль можем мы принести этим девственным людям, сами насквозь прогнившие!.. В нашей «культуре», в наших социальных отношениях будет большой скачок вперед, если мы научимся таскать друг у друга только из кармана, а не прямо изо рта. Нет, чем больше я смотрю на людей, тем больше становлюсь мизантропом. В конце концов, пропади они пропадом! Что до меня, то я уже давно решил быть в меру моих способностей честным человеком просто в личной жизни, в малом кругу моих общений с людьми. Наплевать на других! С ними рано или поздно расправится история…
Самый просвещенный, честный, гуманный человек среди моих сослуживцев дальше упований на историю не шел.