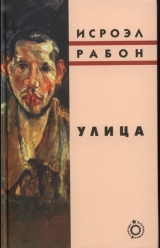
Текст книги "Улица"
Автор книги: Исроэл Рабон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
– Человек!.. Человек!..
Моя голова начала раскалываться от боли, глаза слепнуть, свет дня начал превращаться в них в мешанину из тьмы, головокружительной бледности и крови…
Я стал задремывать… Перед глазами простерлась глубокая бархатная ночь… Мои глаза отяжелели, и дрема убаюкала меня.
Из последних предсмертных сил я встряхнул руками, и мое желание исполнилось.
Крест сломался. Мои руки освободились; затем я из последних слабых сил принялся наносить удары по всему телу, бить себя по лицу, по груди, по голове, и кровавый лед стал разбиваться на мне на осколки.
В конце концов я полностью освободился. Я вылез из креста.
Лошадь продолжала смотреть на меня остекленевшими насмешливыми глазами; смотреть, как я бью сам себя, сам себе наношу удары и сам себя мучаю.
Движимый внутренним побуждением, я опустился перед мертвой лошадью, встал перед ней на колени и стал просить у нее прощения, плакать, кричать и рвать, рвать на себе окровавленные волосы…
14
Я не открывал глаз и чувствовал, что начинаю засыпать. Вдруг сквозь закрытые веки меня ослепил поток яркого света. Я сразу проснулся и поднял голову.
Что я вижу?
Не греза ли это, не ошибка ли смятенного, ослабевшего разума?
Нет, я не грежу!
Все лампы были включены в большом, светлом цирковом зале. Я приподнялся и затем опустился на подгибающиеся, дрожащие колени. Двумя руками я держался за переднюю стенку ложи.
Часы на городской башне пробили три.
На арене пустого, ярко освещенного цирка за чем-то вроде штендера [19]19
Традиционная синагогальная мебель, род невысокой конторки.
[Закрыть]стоял человек с прозрачно-бледным лицом, большими горящими глазами и растрепанными черными волосами; в руках у него была бумага. Я слышал, как он читает низким грудным голосом. Нет, он не просто читал, он кричал, что-то бормотал и несколько раз повторил:
– Песня обо мне ни для кого!
Его лицо было необычайно белым, как будто покойник встал посреди цирка и за полночь декламирует стихи. Я даже смог заметить, что его колени дрожат, а руки трясутся; по его длинному лицу с острым подбородком, который делал это лицо похожим на треугольник, были разлиты болезненное вдохновение и слабость. Только теперь я начал понимать, что тогда я слышал именно его шаги.
Кто это? Сумасшедший, лунатик? Как он проник ночью в цирк?
Вдруг он на миг оторвался от длинной бумаги, которую держал в руках, и огляделся по сторонам.
А! – вырвался из его рта короткий крик.
Его большие, горящие, черные глаза наткнулись на мою голову, которая торчала из ложи первого яруса. Он испугался: его застигли врасплох. Минуту он стоял неподвижно, не зная, что делать, как будто задумался: бежать или остаться? В конце концов он повернулся ко мне и строго спросил:
– Кто вы?
Вместо того чтобы представиться, я светски извинился:
– Сожалею, что помешал вам своим появлением. – И добавил, с трудом сдерживая улыбку: – Вы, кажется, поэт?
– Я не поэт, – ответил он зло и недоверчиво.
– Однако же вы читали стихи.
– Да, я читал, но не свои, – сказал он пренебрежительно, при этом его глаза все время блестели. – Чьи? Если я вам скажу, чьи это стихи, что это вам даст? Что вы понимаете в таких вещах? – продолжил с презрением и скривил свое прозрачное, резко очерченное лицо.
– Поверьте, я в этом немного разбираюсь.
– Ха-ха, разбирается… – он засмеялся болезненным, презрительным смехом. – Я в этом разбираюсь… Ну, так я вам скажу, если вы разбираетесь, это стихи знаменитого и гениального поэта Фогельнеста.
Проговорив это, он рассмеялся еще громче.
– Я не знаю никакого знаменитого польского поэта Фогельнеста, – пожал я плечами.
– Вы его не знаете! – вспыхнул он, и его лицо покраснело. – Но это не значит, что такого поэта не существует. Вот он стоит перед вами собственной персоной: Виктор Фогельнест, одна из самых крупных звезд в современной поэзии! Вы понимаете, – добавил он, – я такая крупная звезда в поэтическом мире, что меня пришлось спрятать в футляр, так что моего сияния не видно… – тут он болезненно и горько рассмеялся.
Он говорил по-польски с красивым выговором. Его, если так можно выразиться, гротескная фигура заключала в себе столько же хитрости, сколько глубокого и надломленного одиночества. На лице лежал отпечаток врожденной способности быстро находить общий язык с самыми разными людьми. Глаза, настоящие черные еврейские глаза, были затуманены, и в то же время в них блестело множество огоньков; они скрывались под покровом ресниц. Он хитро, проницательно, почти ласково глядел на меня. Его глаза охватывали меня целиком, сразу давая понять, кто я и что я; они смотрели гордо, открыто, презрительно – восхитительный взгляд! Нос, бледный, длинный еврейский нос, говорил о благородстве. В целом это было странное, выразительное лицо, в котором отражалась причудливая, одинокая душа.
Удачно пошутив о себе, как о великой поэтической звезде, он даже не улыбнулся. Цирк был слишком ярко освещен, и он стоял так близко, что я не мог этого не заметить. Я ясно видел его лицо после того, как он это сказал. Может быть, он смеется надо мной, веря, что я все приму за чистую монету? Все возможно!
– Что вы здесь делаете? – спросил он дальше и стал ждать ответа, уставившись на меня как полицейский, чтобы оценить правдивость моих слов.
– Мне негде ночевать.
– Так вы решили переночевать здесь?
– Да.
– Кто вам позволил?
– Никто.
Я заметил, что его ненависть ко мне вдруг исчезла. На его лице даже появились признаки дружеского расположения.
Он замолчал и задумался. Вдруг он нервно, коротко рассмеялся, и в пустом цирке этот смех прозвучал отчужденно и страшновато; затем он хитро и льстиво спросил:
– Вы полагаете, я сумасшедший?
– Нет! – ответил я.
– Нет, говорите? В таком случае, вы не знаете людей.
Я удивился такой искренности и разглядел его получше. На его лице все еще было выражение, состоявшее из смеси хитрости, смеха и одиночества. Можно было подумать, что он дурачит меня ради какой-то таинственной цели.
– Нет, вы меня не поняли! – его глаза продолжали сверкать прежним огнем. – И поэтому не говорите мне правды. Поверьте, – он насмешливо улыбнулся, – я смеюсь над вашей правдой… Я-то знаю, что человек, который ночью читает свои стихи в пустом цирке, – сумасшедший…
Я молча наклонил голову над краем ложи так, что с меня упала фуражка…
– Подождите, я вам принесу фуражку.
Через несколько мгновений он оказался рядом со мной в ложе. Теперь я его видел совсем отчетливо. Тени, отбрасываемые задней стенкой ложи, придали его лицу еще более резкие очертания. Он, на дрожащих ногах, с болтающейся головой, наполнил мою душу беспокойством. Он выглядел как пьяный.
Он снова оглядел меня, теперь уже долгим взглядом, внимательно и со всех сторон. Несколько минут прошло в тишине. После этого он протянул мне руку. Я подал ему свою. Он крепко ее пожал и отпустил. Потом сказал грустно и серьезно:
– Вы, я вижу, честный человек, иначе бы вы не были так одеты и не ночевали бы здесь. Я бы хотел быть вам добрым другом, потому что у такого человека, как вы, нет никого в целом свете, и у меня никого нет. Вы смотрите на меня с удивлением и не можете меня понять. Вы, очевидно, принимаете меня за сумасшедшего или пьяного. За полночь пробраться крадучись в театр – это поведение безумца… – он улыбнулся. – Знаете ли вы, что у вас горячая рука? – вдруг вспомнил он и переменил тон разговора. – У вас жар… Вы больны… Вы странно на меня смотрите!.. У меня бывают такие минуты, когда я беспокоен, как непогода, и чувствую, как земля дрожит подо мной. Тогда я вижу, какую безумную и глупую роль я играю на свете. В такие минуты, когда моя душа горит, я слышу в себе некий голос, который велит мне: пойди куда-нибудь в чащу леса, набери в легкие побольше воздуха и кричи, кричи, пока не оглохнешь.
Он сделал маленькую паузу, обхватив голову руками, как осужденный, а потом заговорил снова, но уже спокойней и тише, чем прежде:
– В течение нескольких недель меня мучила одна мысль: пойди, прочитай свои стихи, которые никто не хочет печатать, ночью в театре. Я бы хотел выкричаться в пустом зале. Я даже подпрыгнул, когда мне это взбрело в голову. Как это хорошо, как это очаровательно.
Тут он перевел дыхание и несколько секунд глядел перед собой неподвижно.
Вдруг он подал мне руку, потом, не сказав ни слова, отошел. Он был бледен и обессилен. Внезапно на него напала апатия. Затем его лицо опять приобрело прежний смеющийся, хитрый вид, и он спросил:
– Не кажется ли вам, что я говорю глупости?
Я посмотрел на него внимательно и с удивлением:
– Я вас не понимаю!
Он рассмеялся и убежал.
Стало темно. Я заснул.
15
Было девять часов утра. Я понял это по бою башенных часов, который гулко разносился в пустом здании цирка. Я встал со своей постели и принялся расхаживать туда-сюда, чтобы согреться и размять кости. От скуки я начал считать шаги: пятнадцать, шестнадцать, семнадцать! И размышлять, когда придут открывать цирк. Прошло немного времени, я все считал шаги. Вокруг было темно, потому что в зале не было окон, через которые мог бы проникнуть дневной свет. Можно было подумать, что еще ночь.
– Сколько шагов можно сделать за час? – спросил я сам себя просто так, чтобы думать о чем-нибудь. – Восемьсот два?
Почему восемьсот два? Ровно восемьсот два? Я рассмеялся над тем, что заупрямился на числе восемьсот два. Вдруг я услышал, что кто-то идет.
Цирк уже открыли? Люди уже пришли?
Ага, кто-то идет ко мне в ложу.
Я узнал его в темноте: это был Фогельнест.
– Не можете ли вы мне сказать, кончилась ли ночь? – спросил он меня глухим, невыспавшимся голосом, приглаживая кудрявые черные волосы.
– Давно уже день!
– А откуда вы знаете?
– Я слышал, как часы били на башне.
– Так вы знаете, который час?
– Да. Девять, может быть, полдесятого.
– Они приходят сюда на репетицию в одиннадцать. До тех пор не выйти.
Он уселся. В темноте его глаза горели беспокойным и яростным огнем. Так он просидел около меня минут пятнадцать, не произнеся при этом ни слова.
– Вы уже давно ночуете в цирке? – спросил я его.
Он даже подпрыгнул от гнева:
– Я прошу вас, дайте мне помолчать до одиннадцати.
Он надулся пузырем и продолжал молчать. Я присмотрелся к нему. Фогельнест сидел, ссутулившись, а его глаза смотрели так, будто он кого-то подстерегал. Но до одиннадцати он все-таки не промолчал. Просидев еще пятнадцать минут в тишине, он стукнул кулаком по подлокотнику кресла и заговорил сломленным, грустным и отчаявшимся голосом:
– Черт меня возьми! Я ни к чему не пригоден! Я никуда не гожусь!.. В каком безумии я провел эту ночь! – Он обратился ко мне. – Читать стихи в пустом цирке, где нет никого – что за безумие! Что за идиотизм!.. Ах, я тону в море подобных глупостей!.. И с каждым днем все больше и больше. Я бы хотел сам себя наказать за это. И вот мое наказание: не скажу ни слова до одиннадцати. Вот так пять дней подряд не буду ни с кем разговаривать до одиннадцати часов утра… Если бы вы знали, как я люблю поговорить, вы бы поняли, как тяжело для меня это наказание.
В темноте я все-таки сумел разглядеть, как его лицо скривилось в горькой усмешке.
Что за странный человек! Я никак не мог понять, смеется он или говорит серьезно. Он тут же переменил тон и спросил меня:
– Вы хотели знать, как давно я тут ночую, не правда ли?.. В первый раз, друг мой, в первый и в последний раз… У меня есть дом и жена…
– Вы женаты? – я от удивления перебил его. – Но вы же вчера сказали, что у вас нет никого в целом свете.
– Я так вам сказал… да, я так сказал… и то, что я сказал, – правда.
Он придвинулся ко мне и сжал мою руку. В его глазах блестели слезы.
Я смутился от удивления. Кто этот человек? Чего он хочет? Нет, я его не понимаю! Ни капли не понимаю!
– Вы сегодня пойдете со мной, и вы увидите мою жену! – продолжал он.
Я не сказал «нет».
Он несколько раз провел рукой по волосам.
– Вам кажется странным, что у меня есть жена?.. Вы этого не ожидали?
Он снова улыбнулся и замолчал.
Он говорил очень своеобразно: отрывисто и быстро, бросая слова так, точно не хотел носить их в себе, как будто он задыхался от них. Он смешивал в речи всевозможные предметы, между которыми не было никакой связи, он так и сыпал словами. Вдруг он затих. Он снова был опустошен и измучен. Он рухнул на стул, как груда мертвой плоти, и замолчал.
В половине одиннадцатого открыли цирк. Пришли несколько акробатов, служитель и клоун Долли. Один из акробатов был очень толст. Он едва мог ходить и при этом сопел. Служитель принес на палке тяжелые гири. Долли, одетый в черный костюм и лакированные полуботинки, танцевал на арене, размахивал тросточкой и зло бормотал:
– Чтоб их повесили! Разбудили меня в полдесятого… У меня глаза еще не открываются…
– Хе-хе, – рассмеялся толстый акробат. Его глаза заплыли жиром так, что их едва было видно. – Тебе, Долли, хорошо, когда ты спишь: тогда ты не знаешь, что ты лилипут.
Маленький, невыспавшийся Долли был раздражен:
– А тебе еще лучше: когда ты спишь, ты не знаешь, что ты скотина.
Акробаты расхохотались. Один из них схватил Долли, поднял его и, встряхнув, усадил к себе на плечи. Долли закусил губу и замолчал. Клоун Долли вел себя геройски. Он не испугался. Он боролся изо всех сил. Шутки были его оружием.
– Тебе придется долго меня таскать: вот и видно, что ты осел, раз мне приходится на тебе ездить!
Это помогло. Его тотчас отпустили.
Эти могучие люди не могли справиться с Долли.
Мне понравился маленький Долли. Я бы хотел еще побыть в цирке и поглядеть, что в нем будет происходить. Но Фогельнест потянул меня за рукав.
Мы вышли из цирка.
16
Шел дождь. Улицы были покрыты грязью, и ветер нагло бросался на стены домов, точно хотел повалить их. Он рыдал, выл, вопил так, что закладывало уши. Я поднял воротник и пошел. Фогельнест молчал. Он был задумчив и то и дело сплевывал, не говоря ни слова. Дождь хлестал ему в лицо, которое от напряжения стало еще бледней и костлявей. Вдруг показалась кучка людей. Остановился трамвай. Пассажиры вышли из трамвая и все вместе присоединились к кучке. Мы подошли ближе. Оказывается, задавило собаку. Камни мостовой, рельсы и колеса трамвая были забрызганы кровью, которую быстро смывал дождь. Голова и нога собаки лежали отдельно от тела. Люди говорили, размахивали руками, кричали. Вагоновожатый отвечал и что-то показывал руками во все стороны. Фогельнест взглянул на разрезанное тело собаки и вздрогнул. Я услышал, как клацнули его зубы.
Он зашагал шире, как будто хотел убежать.
– Пошли быстрей! Быстрей! – тащил он меня за рукав.
Теперь мы шли очень быстро. Я слышал, как Фогельнест бормочет про себя:
– Бедная собака!
Фогельнест все еще был мертвенно бледен. Вдруг он заговорил зло, отрывисто, беспрерывно чертыхаясь:
– Собаки, на что нужны собаки! Они годятся только на помойку! – По его тону можно было понять, что теперь он говорит нечто давно обдуманное. – И величайшему мудрецу не понять, для чего в Европе существуют собаки… Я этого тоже не понимаю… Боже мой, как идиотски устроен Твой мир! – закончил он, в отчаянии тряся головой.
Фогельнест выглядел до смешного расстроенным.
Мы свернули в узкую улочку. Высокие грязные дома разглядывали друг друга маленькими окошками. Поставленные в два ряда, друг против друга, они, эти дома для рабочих, пялились с ненавистью на небо, будто поклявшись не впускать на улицу солнце. И на ней действительно было так темно и грязно, как будто бы на оба ряда крыш навалилась скука. Про эту улицу можно было смело сказать: «Здесь нет неба».
Мы поднялись на пятый этаж. Фогельнест открыл дверь, и мы вошли в маленькую комнату. У стола сидела женщина и что-то шила. Она оглядела нас обоих своими умными карими глазами, в которых залегла едва заметная печаль. Она не спросила Фогельнеста, где он был, а встала, отложила шитье, налила две чашки горячего кофе, достала из шкафа буханку хлеба, сахар, масло и все это поставила на стол.
– Будете есть? – спросила женщина печальным и тихим голосом.
– Да, будем, – ответил Фогельнест и дружески хлопнул меня по плечу. – Вы ведь не откажетесь, верно?
Я с удовольствием пил горячий кофе и при этом исподтишка разглядывал женщину. Я удивлялся: почему она не спрашивает, где ее муж был всю ночь? Может, он ей заранее рассказал, куда пойдет? Нет, это невозможно. Она бы не позволила творить такое безумие!
Она была ниже среднего роста, с вытянутым белым лицом, с мягкими толстыми губами, заканчивающимися резкими морщинами. Эти юные, мягкие, красные губы были исполнены детскости и врожденной доброты. Щеки немного пожелтели. На скулах проступал легкий болезненный румянец, говоривший о чахотке. Глаза у нее были большие, карие, добрые, умные и грустные. Длинные каштановые волосы спадали вдоль длинной, белой, тонкой шеи. На ней было чистенькое желтое платье из вискозы, чистая батистовая блузка и тапочки. Весь ее образ говорил об усталости и дышал печалью. Спокойная и тихая, как голубка, она скупилась на слова. Голубые тени, глубоко залегшие вокруг ее умных глаз, выдавали острую нервозность, которая в эту минуту была спрятана, скрыта.
Я, не переставая, смотрел на нее. Вдруг я обратил внимание на то, что в ее каштановых волосах мелькают густые седые пряди, даже не седые, а белые.
Она заметила мой взгляд. Красные болезненные пятна на ее щеках стали видней. Она несколько смутилась, не сумев выдержать своими умными, глубокими глазами мой дерзкий взгляд. Она встала.
– Может быть, выпьете еще кофе? – спросила она приятным, но несколько хриплым голосом.
В нем звучала странная покорность, которая просто поразила меня.
– Не спрашивай, Клара! Налей нам обоим, и мы оба попьем! – сказал Фогельнест, даже не обернувшись к ней.
Она тихим шагом подошла к маленькой печке и налила две кружки кофе. Я принялся за вторую кружку. Фогельнест засыпал. Он уронил голову на стол и начал задремывать. Клара подошла к нему и спросила, как мать спрашивает ребенка:
– Виктор, хочешь спать? Пойди ляг, поспи. Твой друг тебя извинит.
Она повернулась ко мне, и на ее умном, нежном лице появилась легкая улыбка. Я кивнул в знак согласия. Она стянула с Фогельнеста туфли и верхнюю одежду, он улегся на единственную кровать, стоявшую в комнате, и сразу уснул.
Я согрелся. Стало даже жарко. Дождь стучал по жестяному подоконнику, и окно издавало беспокойный звон. Клара снова села шить. Длинные пальцы ее бледной и красивой руки двигались очень ловко. Я почувствовал, что хочу отблагодарить эту добрую женщину каким-нибудь рассказом, рассказом о чем-нибудь интимном, личном, о чем-то, что женщины так любят слушать. Но я не знал, с чего начать. Так я молчал и смотрел на ее бледное, измученное и милое лицо и длинные белые руки. Вдруг она подняла свои большие глаза и робко спросила:
– Вы служили в армии?
– Да.
– А теперь вас отпустили?
– Да, я уже третью неделю хожу в цивильном.
– У вас есть работа?
– Нет, старого места работы, которое я занимал до армии, у меня теперь нет. Фирму ликвидировали.
– Вы ничего не делаете? – спросила она с сочувствием.
– Нет, ничего.
– Вам, конечно, очень плохо?
– Как говорится, не пропадем.
Она замолчала и опустила глаза.
– Вы так плохо выглядите, – продолжала она.
– Да ну, это только так кажется. Я просто давно не стригся и не мылся.
– Вас можно просто испугаться – так скверно вы выглядите. Может быть, умоетесь у нас?
– Большое спасибо, не отказался бы.
Она встала и поставила передо мной тазик с теплой водой и мыло.
Я снял фуражку и, не снимая шинели, умылся. Рукава шинели намокли, и, когда я поднял руки, капли грязной воды упали на чистый пол. Я покраснел от досады и пожалел, что согласился умыться. Кроме того, я стыдился той грязи, которую смыл с лица в тазик. Я взял тазик в руки и, прикрывая его телом, решил вынести во двор, чтобы вылить грязную, черную воду. Я покраснел до ушей. Она, стоя поодаль, вероятно, обратила внимание на мое смущение и из жалости стала смотреть в сторону, делая вид, что не замечает ни тазика с грязной водой, ни больших темных капель, которые упали на пол с моих рукавов. Я вышел во двор, вылил воду, поднялся обратно и, опустив глаза, сел, пристыженный. Я очень досадовал на свою беспомощность. Мне казалось, что я запачкал всю комнату, которая содержалась в такой чистоте и опрятности благодаря тяжелой работе нежных женских рук. Я просто растерялся. Эта история с мытьем могла в тогдашнем моем состоянии довести меня до слез. Я полюбил эту благородную добрую женщину с первой минуты, да к тому же я сам был так сломлен и одинок!
Я сунул в карманы мокрые рукава, чтобы их не было видно, и подумал, что эта женщина, должно быть, зла на меня. Я слышал рассказы о том, что даже самая умная женщина может рассердиться, если, допустим, перевесишь картину на стене, и готова скандалить, лишь бы добиться, чтобы картина висела так, как ей хочется. Вдруг я услышал около моего лица звуки громкого смеха и почувствовал запах женщины.
– Вы забыли вытереть лицо!
Она набросила на мою голову белое полотенце. Я покраснел еще больше и дотронулся до своего лица. Оно было влажным, хотя ветер на дворе немного его обсушил.
– Ха-ха-ха! – засмеялся я. – А я и забыл! Голова садовая!
И я принялся вытирать лицо полотенцем.
Я растерялся еще больше. Быстро вытер лицо. Часы на городской башне пробили полдень.
– Уже полдень, мне пора идти!
Я отложил полотенце, открыл дверь и, крикнув несчастным голосом «Адье!», почти убежал, не попрощавшись и не поблагодарив.
На лестнице я остановился и задумался.
Постояв, я спустился на два марша лестницы и тут вдруг услышал, как за моей спиной распахнулась дверь. Я обернулся. В дверях стояла Клара, напудренная и накрашенная, даже глаза были подведены. Она показалась мне красивой, очень красивой. Она стояла, держа руки на талии, заливисто смеялась звонким женским смехом и смотрела на меня.
Я от удивления так и замер на лестнице.
Неужели это она?
Да.
Дверь захлопнулась.
Всю дорогу до самого цирка я думал об этой женщине. Чего она от меня хотела? Не из тех ли она бабенок, которых тянет согрешить с любым мужчиной?
Я проходил мимо витрины с зеркалами. Меня потянуло взглянуть на себя, я остановился у витрины и стал рассматривать себя в зеркале. Лицо у меня было худое, костлявое и бледное. На подбородке выросла немаленькая борода. Длинные нечесаные волосы, грязные и свалявшиеся, достигали бороды. Когда я хорошенько разглядел себя в зеркале, я заметил, что в моих глазах мелькает дикий огонек бессонных ночей. Я был необычайно бледен, как человек, вставший с одра долгой и тяжелой болезни; можно сказать, что тогда я был страшно бледен. В драной солдатской шинели с поднятым воротником я выглядел как пришелец с того света. Мой растрепанный вид позволял с первого взгляда признать, кто я таков, и сказать обо мне: «Этот не от мира сего…»
Я выглядел не старо и не молодо. Никто бы не сказал, сколько мне лет. Глаза глубоко ввалились, скулы торчали. Я удивился изможденности своего исхудавшего лица. Меня охватила жалость – я выгляжу как привидение! Я вгляделся в зеркало и как будто поперхнулся:
– Эта женщина насмешничала надо мной… не иначе как насмешничала…
Дверь лавки, которой принадлежала витрина, открылась, оттуда вышел толстый господин с сигарой во рту. Он обратился ко мне грубым, сердитым тенором, так, как говорят с низшими:
– Это зеркало не для того здесь стоит, чтобы в него пялились часами!..
Этот злой голос хлестнул меня, как кнут. Я не пошел дальше своей дорогой. Я остался стоять, мысленно готовый к отпору. Мое лицо исказил гнев.
– Имею полное право смотреться в зеркало столько, сколько захочу… Я четыре года провел на войне… Четыре года, понятно? Я дрался на трех фронтах!.. Не думайте, что я нищий… Перед тем, как меня призвали, я был бухгалтером в знаменитой фирме «Борицкий и Ко»… Если не верите, смотрите!
Сам не понимая, что я делаю, я достал из кармана старую рваную бумагу и резко швырнул ее в двери. Это был документ, подтверждавший, что я действительно работал в головном отделении фирмы «Борицкий и Ко». Швырнув в толстяка эту бумагу, я вихрем умчался.
Я пошел медленнее, только оказавшись недалеко от цирка. Я и сам не знал, отчего и почему я чувствовал себя таким опустошенным и сломленным.
Как глупо я разговаривал с тем человеком около зеркала! С каждым днем я становлюсь все глупей… Все у меня теперь не слава Богу…
Все еще шел сильный дождь. Ветер не прекращал раскачивать вывески и фонари. На улице было мало народу, только кое-где попадались одинокие прохожие.
Директор уже пришел в цирк. Он расхаживал взад-вперед по своему кабинету и считал.
– Сегодня пойдете носить афишу сразу после обеда… Старая афиша размокла. Сделали новую. Приходите после обеда, – сказал он мне.
Я постоял еще минуту. Директор оторвался от бумаг и посмотрел на меня.
– Ага… Вы хотите денег? – он вытащил из кармана несколько тысяч марок и швырнул их мне. Я вышел на улицу.
Было темно, как будто наступил вечер. Мои ботинки были полны грязи, а дождь насквозь промочил меня. Я прошел две маленькие улочки. Перед моими глазами все еще стояла жена Фогельнеста – ее глубокие страдающие глаза и юные свежие губы.
Боже мой, как хорошо, когда рядом с тобой есть такой человек! Как мило она вела себя со мной, грязным, оборванным и, главное, незнакомым.
Я думал о ней как о неземном, фантастическом и удивительном существе. Мне казалось, что она давно, давно ждет меня, что она меня откуда-то знает…
Вдруг в моих ушах зазвенел ее смех, которым она смеялась, стоя на лестнице.
Что означал этот смех? Для кого она так вырядилась? Я ничего не понимал.
Я оказался перед парикмахерской. Я вошел в нее и велел меня побрить и постричь. Парикмахер в белом халате посмотрел на меня с недовольным выражением лица. Я ему не понравился. Он велел садиться и позвал маленького ученика, которого обычно использовали для того, чтобы он чистил клиентам платье.
– Побрей господина! – велел парикмахер ученику и повернулся ко мне спиной, чтобы заслонить от других клиентов мою драную шинель, в прорехи которой выглядывала грязная рубашка.
Когда я был пострижен и побрит, мальчик сказал мне, показывая рукой на человека в белом халате:
– Двести марок господину мастеру!
Я вытащил из кармана тысячную купюру и расплатился. Мне дали восемьсот марок сдачи.
– Вот тебе на чай! – я швырнул малому восемьсот марок и быстро вышел.
Когда я уже отошел на некоторое расстояние от парикмахерской, чей-то голос окликнул меня:
– Вы ошиблись… Дали мальчику слишком много денег!
Человек, который ко мне обращался, держал в руке восемьсот марок.
Я пошел дальше, больше не оборачиваясь. Я представлял себе, как удивился малый, пересчитывая такую сумму, и как был удивлен человек в белом халате. Я был удовлетворен.
17
Директор цирка Вангалли последние дни ходил злой и раздраженный. Он расхаживал по своему кабинету, выпуская облака дыма из своих контрабандных, толстых немецких папирос и каждую минуту зло ворчал:
– Пять-шесть тысяч… К черту… Дефицит…
Он не отвечал на мои приветствия, ходил кругами и никого не замечал.
Но однажды он меня все-таки заметил.
– Вам что-нибудь причитается? – спросил он.
– Да. Причитается.
– Сколько?
– Восемь тысяч марок.
Он вытащил из портфеля светлой кожи несколько ассигнаций и протянул их мне.
Я хотел было уйти. Но директор посмотрел на меня глубоким проницательным взглядом и сказал:
– Погодите немного, мне нужно с вами переговорить.
Я остановился на пороге.
– Вы можете хорошо говорить? – спросил он.
– Да, могу, – ответил я, улыбнувшись.
– И по-польски?
– Могу и по-польски.
– Вы сможете у меня заработать на жизнь…
Он помолчал несколько секунд, а потом громко сказал:
– Значит, так, дело вот в чем: я совладелец кинотеатра «Венус», который, как вы знаете, находится в районе, почти сплошь населенном рабочими, большая часть которых не в состоянии читать титры. Во время показа картины вы будете стоять за экраном и в дырку объяснять публике, что происходит в каждой сцене. Понимаете? Вы должны говорить громко и отчетливо, и еще вы должны говорить интересно… Ин-те-рес-но… Вас должно быть слышно, и ваша речь должна доставлять удовольствие… Вы должны привлекать публику. Вы должны говорить смело, бодро, так, чтобы вас хотелось слушать… Например: в картине показана схватка между двумя полицейскими и бандитом Зигомаром [20]20
Фильм «Зигомар» был снят режиссером Виктореном Жассе в 1911 г. Впоследствии он снял еще два фильма об этом персонаже.
[Закрыть]. В этом случае вы должны говорить так: для того, чтобы схватить великого предводителя бандитов Зигомара, было послано десять лучших тайных агентов из числа тех, которыми располагает полицейская префектура Парижа. Верный слуга принес Зигомару сведения, которые узнал из документов, выкраденных им из взломанного железного несгораемого шкафа в полицейской префектуре. Зигомар, услышав эти новости, только улыбнулся, вытащил револьвер, воздел ствол к небу и произнес: «Десять – это не один. Но я, Зигомар, предводитель банды „Черный скелет“, посоветую подлым предателям…»
Директор изменил голос:
– Вы меня поняли, вам нужно будет говорить именно так… Публика ненавидит полицию… Публика сочувствует бандитам… Зигомар – бог. Зигомар – предводитель бандитов – это сила, хо-хо, великая сила!.. Пока Зигомар поднимает свой револьвер, чтобы дать отпор полиции, вы должны говорить: пятьдесят разрывных пуль приготовил Зигомар. Сорок девять – для полицейских, для своих преследователей, а последняя пуля, чтобы пронзить алое сердце в своей геройской груди… Когда Зигомар стреляет, вы не должны говорить: «Зигомар стреляет», а только – «Зигомар устроил канонаду» или «Зигомар бомбардирует»! Когда у Зигомара остается еще двадцать пуль, вы должны объяснять публике: «До последнего выстрела осталось девятнадцать. Победа или смерть. Геройская жизнь или одинокая могила…» Вот как вы должны говорить, вы меня понимаете! Возьметесь? Я вижу, вы интеллигентный человек, у вас должно получиться…
– Надеюсь, что получится, – ответил я.
– Итак, с завтрашнего дня приступайте к вашей новой работе. Завтра ровно в шесть приходите в кинотеатр «Венус».
– Хорошо, адье!
Я вышел на улицу. Стачка ткачей все еще продолжалась. Рабочие, одетые по-праздничному, расхаживали по городу с таким выражением свободы на лице, как будто их только что выпустили из тюрьмы. Они смеялись над толстыми богатыми господами, встречая их на улице. Колючие, острые слова жарких и ядовитых уличных насмешек смело свистели в воздухе.
Рабочий с широко и злобно открытым ртом и ввалившимися, беспокойными, жгучими глазами алкоголика кричал, дерзко глядя в глаза какому-то очень толстому типу, который случайно попался на пути ему и еще двум рабочим:
– Гляньте, он ограбил наши животы! Три четверти его брюха принадлежат нам, братцы! Нашими трудами нажил он себе такое брюхо. Если бы не мы, он бы был худ, как веретено. И что бы он тогда делал, бездельник?..








