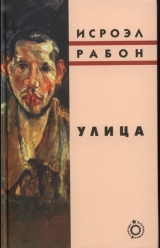
Текст книги "Улица"
Автор книги: Исроэл Рабон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Я надел свою солдатскую шинель и вышел из комнаты, сопровождаемый стариковским криком и детским плачем.
Поднявшись из подвала наверх во двор, я услышал топот детских ног. Я понял, что дети разбежались.
3
Худшим в истории с «польским королем» было, однако, то, что мне теперь снова негде было ночевать. Вернуться на ночлег к старику было невозможно. Его сумасшедшая гордость не допустила бы, чтобы в его комнате находился человек, поднявший на него руку. Тем более, если бы он узнал, что этот человек – еврей.
Дождь перестал. Из северной части города пришел колючий ветерок, предвестник зимы, и принялся сушить мостовую и асфальт тротуаров.
Сделав пару шагов, я ощутил что-то вроде щекотки в правой руке. Сперва я подумал, что меня кто-то останавливает, обернулся, но увидел нечто совсем простое: от рукава моей изношенной солдатской шинели оторвался лоскут, тем самым предоставив ветру свободный доступ к моей грубой солдатской рубахе из толстой фланели.
«Откуда новая прореха?» – возник вопрос в моей голове.
В последние дни на моей шинели стали, откуда ни возьмись, появляться прорехи, будто язвы на больном теле.
Порой случалось, что мне подолгу приходилось стоять и размышлять, где и обо что я зацепился и порвал шинель. Я мучился в раздумьях, пытаясь припомнить все места, в которых побывал за день, за последние два дня. Но все же я никак не мог сообразить, где порвал шинель.
Удрученный, я пришел к выводу, что прорехи знаменуют собой в моей безотрадной жизни что-то вроде новой напасти, среди прочих, которые преследуют меня на каждом шагу – теперь они даже истязают мою верхнюю одежду.
Похолодало. Единственным средством, помогавшим от холода, было пуститься в долгую беседу с самим собой.
Мысли обо всякой небывальщине, о разных глупостях заставляли меня на долгие часы забывать о том, что холодно, что скоро наступит настоящая зима.
Смех разбирал меня от того, как удивительно умно и хитро человек может одурачить свои холодные руки, свое промерзшее тело, мечтающее согреться в постели.
Я ходил по улицам уже несколько часов. Настал час, когда запирают ворота. Тяжелые хриплые вздохи железных ворот и ржавых ключей доносились отовсюду.
Как странно!
Мне показалось, что это меня запирают на безлюдной, чужой улице, на которой я никогда не обрету теплой постели.
Уже четыре с лишним года, с тех самых пор как меня забрали в солдаты, я не ощущал мягкого прикосновения пухового одеяла.
Бряканье ключей зло и ядовито отдавалось в ушах – меня заперли на улице… Мне только и оставалось, что брести из улицы в улицу…
Куда бы пойти переночевать? Если бы у меня было триста марок, я бы отправился к одному еврею у вокзала, у которого ночевал несколько дней после демобилизации, когда у меня еще оставались какие-то деньги.
Холод пробирал до костей. Кроме того, мною все еще владела легкая лихорадка, возбуждение от истории с «польским королем». Я дрожал, мне казалось, что волосы по-прежнему стоят у меня дыбом.
Где бы раздобыть триста марок?
Спустилась тьма, ветер раскачивал деревья.
– Ты пропал, – сказал я сам себе. – Хоть разорвись – ничего тебе не поможет, ты погибнешь на улице!..
На пустой улице показалась тень человека. Я с безотчетной радостью побежал ему навстречу, будто это мой добрый друг пришел ко мне на свидание.
Это была женщина средних лет. На ней была шляпа с широкими темными полями, которые закрывали лицо. В правой руке она несла плетеную кошелку.
Я поприветствовал ее:
– Добрый вечер, сударыня!
Она не ответила на мое приветствие, лишь раскрыла рот от страха, глядя на меня с большим подозрением.
– Вы несете такую тяжесть? Как может женщина тащить такую тяжесть? – сказал я, сам не понимая, что говорю, и взял в руки плетеную кошелку.
Она испуганно вскрикнула, оставила кошелку в моих руках и пустилась наутек.
От изумления я застыл на минуту у кирпичной стены.
– Меня принимают за грабителя!.. Должно быть, я выгляжу очень «благородно»!.. – буркнул я и прибавил шагу, пытаясь догнать женщину.
– Извините, сударыня! – крикнул я изо всех сил, чтобы напуганная женщина, находившаяся уже на приличном от меня расстоянии, услышала. – Извините, я не грабитель, не разбойник, нате вашу кошелку!
– Ага, захотели забрать те несколько злотых, что у меня есть? Полиция! Полиция! – закричала она испуганным голосом.
Вокруг не было ни души. Куда ни глянь – никого.
– Клянусь вам всем, что для меня свято, – заговорил я с ней, – я не собираюсь вас грабить!
– Знаем мы вас, знаем мы вас, негодяев!.. Хотите меня ограбить, так не надо делать вид, будто бы вы приличный человек… – вышла она из себя.
Несколькими короткими перебежками, как учили в армии, я добрался до нее, силой нацепил ей на руку кошелку и пошел обратно.
Когда я уже отошел от нее на несколько метров, она остановилась, развернулась, поразмыслила и крикнула мне вслед:
– Подойдите, молодой человек, подойдите!
Я подошел к ней. Она внимательно смерила меня взглядом, рассмотрела мое лицо сквозь синие очки, которые были едва видны из-за широких полей глубоко надвинутой шляпы. Затем открыла ридикюль, достала банкноту и сунула ее мне.
– Возьмите, молодой человек!.. Возьмите!.. Вы ведь, кажется, солдат? А, были солдатом?.. Вы должны меня простить за то, что я приняла вас за грабителя… Вы ведь ужасно одеты, да и лицо у вас жуткое… А кроме того, ночь, тишина, плохое освещение… К черту этого нового министра!.. Только и делает, что замышляет новые войны, а бедные солдаты мрут с голоду! – быстро и прерывисто сыпала она словами, хотя страх еще не совсем исчез с ее лица. – Вы действительно не грабитель? Ведь это чудо Господне! Выглядите так, будто у вас уже три дня ни крошки во рту не было… К черту этого нового министра!.. Выглядите, как мертвец, как курица ощипанная, которую зарезали, чтобы она не сдохла от болезни, вот как вы выглядите… Вы обязаны дать отдых вашим молодым костям, ведь так можно подцепить чахотку, неизлечимую болезнь… К черту этого нового министра!..
Она махала руками, раскачивалась всем телом, захлебывалась словами, повторяя «к черту этого нового министра» как проклятие, как ругательство. В конце концов, убедив себя в том, что я не грабитель, она мягко взглянула на меня и дала мне нести свою кошелку.
– Вы не хотите брать денег даром – это очень порядочно с вашей стороны, молодой человек!.. Очень порядочно с вашей стороны, что вы меня не убили… Очень порядочно с вашей стороны, что вы не стали грабителем… С другой стороны, что бы вы получили, убив меня? Всего у меня при себе тысяча марок. Моя обувь стоит пять тысяч марок, белье, блузка, юбка, чулки и шляпа – еще пять тысяч марок. Сыр и масло, которые я несу от своего свекра из деревни – четыре тысячи марок. Всего выходит двадцать четыре тысячи марок… А ведь из-за двадцати четырех тысяч марок вас бы расстреляли по приговору военного трибунала!..
Меня рассмешила ее болтовня. Она удивилась моему смеху, приподняла очки и сморщила короткий нос.
– Смеетесь, молодой человек, не верите? Зайдите ко мне, я покажу вам «Курьер» от восемнадцатого августа. Там на целой странице описывается, как некто Михал Квичик из деревни Шнядев украл у крестьянина Антония Щупарека тринадцать тысяч марок и получил за это смертный приговор от военного трибунала в Плоцке… И расстреляли ведь… Украл-то он всего-навсего тринадцать тысяч марок… – Вдруг на ее лице появилось такое выражение, будто она вот-вот расплачется. – Эх, эх! – вздохнула она. – Молодых людей, детей, сосунков восемнадцатилетних, схватили – и на войну… Там они выучились убивать, стрелять, резать друг друга… Вернулись без Бога в сердце, никчемные, дикие, распущенные… Слоняются по улицам, словно хищные птицы, готовы за тысячу марок шею человеку свернуть, горло перерезать… Каждый день на стенах появляются красные плакаты: декрет… трибунал… смертный приговор… Прокурор Шмидт… К черту этого нового министра!.. Жалко несчастных детей… Молодой человек, – внезапно сменила она тон, – вы даже не знаете, как я вам благодарна за то, что вы не стали грабителем!..
Ее бледное лицо на этот раз по-матерински выражало восхищение и удовлетворение. Она, не отрываясь, смотрела на меня довольным взглядом как на кого-то, кто оказал ей непомерную услугу. Страх полностью исчез, и она выглядела доброй, слегка рассеянной.
Перед высоким зданием женщина меня остановила.
– Вот тут я живу, – сказала она.
Я протянул ей кошелку. Она снова вручила мне бумажку. Я молча ее взял. Мне пришло в голову попросить ее о ночлеге.
– Может быть, сударыня, вы пустили бы меня переночевать? Я улягусь на голом полу, ничего, мои кости привыкли к земле. Война приучила ко всему, – сказал я с деланной удалью.
Она глубоко вздохнула и покачала головой.
– Нет, молодой человек, я живу с мужем и детьми в одной комнатушке, сторож нас ненавидит, уже завтра он раструбит на весь двор, что Войчикова приводит ночью солдат. Нет, я не могу, нет!
Она снова открыла сумочку, достала еще одну купюру и протянула мне.
– Возьмите, молодой человек, возьмите, это вам на ночлег… Если будете сильным, продержитесь до тех пор, пока сами не начнете зарабатывать себе на кусок хлеба. Такой молодой человек, как вы, не пропадет, ведь не среди волков живем!
Она взяла мою руку в свою и почти со слезами произнесла:
– Будьте здоровы, молодой человек, не вставайте на скользкий путь, не всегда будет так, как сейчас. Будьте здоровы! Если вам понадобится помощь, приходите ко мне. Я живу тут, на третьем этаже, вон то окошко с зеленой занавеской, – она указала пальцем. – Ни одному нуждающемуся я еще ни разу не отказала. Адье, милый человек! Не забудьте меня как-нибудь навестить!
Меня тронуло ее благородство. Я ответил ей теплым рукопожатием и ощутил, как мое окаменелое одиночество меня отпускает.
– Благодарю вас, сударыня! Благодарю вас!
– Погодите, я кое-что сброшу вам из окна! – крикнула она мне вдогонку. – Вернете в лучшие времена…
Сторож в белом овчинном тулупе с высоким, полностью прикрывавшим голову воротником, из которого выглядывали сонные зенки, открыл ворота.
– До свидания, молодой человек! – крикнула она в последний раз и исчезла за тяжелыми, скрипучими воротами.
Вскоре на третьем этаже открылось окно, окно с зеленой занавеской, и показалась голова женщины в синих очках.
– Осторожно! – крикнула она и кинула мне сверток, обернутый газетой.
– Адье! – еще раз вздохнул ее голос, и окно закрылось.
В свертке были кусок сыра, масло и хлеб, завернутые в большие зеленые листья, еще пахнущие свежестью осенней деревни.
Со свертком под мышкой я принялся искать себе ночлег.
Внезапно я заметил, что нахожусь возле дома сапожника. Ворота были открыты. Сторож забыл их закрыть.
– Спущусь-ка я посмотреть, как дела у старика! Почем знать, не пришиб ли я его?
Быстрыми шагами я вошел во двор. Тихо и осторожно я встал во дворе около подвала, нагнулся к маленькому подвальному оконцу.
В комнате никого не было, никого, кроме старика, который, застыв, стоял на коленях перед иконой.
Я испугался. Кто его знает, не прощается ли он с жизнью? Вероятно, я слишком сильно ударил его кулаком в грудь! Зачем я влез не в свое дело? Он же сумасшедший, по крайней мере, полусумасшедший! Я ведь мог его обезвредить иначе: просто выгнать детей и забрать веревку.
Прошло пять-шесть минут, старик все еще стоял на коленях перед иконой. Может, он так и умер, застыв? Я слышал, что можно умереть в неподвижной позе. Так долго молиться ночью – я не помню, чтобы такое случалось за все то время, что я у него ночевал.
Внезапно он встал, потер руки и подошел к плите. От горячего пара его короткое дыхание перешло в кашель, и он, вытерев усы, взял тряпку, снял с плиты кастрюлю с картошкой, слил воду и выложил картошку на жестяную тарелку.
– Слава Богу, он жив! – вздохнул я с облегчением.
Где-то между корытами он отыскал кусок селедки, уселся за стол и, обнажая желтые зубы, принялся за еду с таким воодушевлением, что я невольно рассмеялся:
– Нет, я спущусь в подвал!
Я постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, резко распахнул ее, оставшись стоять на пороге.
Увидев меня, старик странно скорчился от страха, но тут же пришел в себя и завопил истошным голосом:
– Вон отсюда, убийца, коммунист, цыган! Вон!..
Я попробовал что-то сказать, но по выражению его лица и крику понял, что мне не удастся переночевать у него, и, недолго думая, вышел из подвала и поднялся на улицу.
Я набросился на еду, как саранча, и вскоре проглотил весь хлеб и масло.
Я был сыт, совершенно сыт! Тут же, однако, я почувствовал сильную усталость, особенно в коленях, ноги будто налились свинцом. Я побродил еще с полчаса по пустым закоулкам, пока не подошел к православной церкви. Я уселся на верхней ступеньке, прислонившись спиной к мраморной колонне, поддерживавшей сводчатую крышу навеса.
Минуту-другую перед моими глазами стояла краснокирпичная стена, которая закрывала половину темно-синего тусклого неба. Потом я уже ничего не видел. Я заснул, ощущая, что сижу на айсберге, а ноги мои вморожены в две горные льдины.
Когда я открыл глаза, уже близился день. Неведомо откуда пробивались яркие волны света и исчезали в ночной синеве, в которую все еще был погружен город.
Все те же уличные птички пели на толстых церковных колоннах и мраморных ступенях, весело и бодро прыгая на своих тонких ножках. Они поднимали головки и рассматривали меня своими маленькими зоркими глазками, как нового гостя.
Рядом резко открылось окно, и показались растрепанная светловолосая женская головка, заспанное лицо и полуголая спелая грудь девятнадцатилетней девушки.
Она недолго купалась в холодном рассветном воздухе и быстро захлопнула окно.
Это она, наверное, проверяла сегодняшнюю погоду…
Немного погодя открылась дверь круглого крытого балкона с никелированной балюстрадой. Человек лет пятидесяти вынес табуретку и уселся на балконе. Его огромные легкие в широкой груди заходились в тяжелом астматическом кашле. Глаза уставились неподвижно, безжизненно и выглядели как пуговицы. Всякий раз, задохнувшись от кашля, он резко тряс головой, будто хотел сбросить ее со своих плеч и тем избавиться от астмы.
Мужчина кашлял так резко и звонко, что, казалось, телефонные провода на улице дрожат и отзываются эхом. У него был толстый, красный и складчатый, как грецкий орех, загривок. Кашляя, он хватался за шею, будто хотел сорвать веревку, которая его душит и не дает вдохнуть.
На другом балконе сидел мужчина с маленькой подстриженной бородкой. На его плечи был накинут красно-серый шлафрок, на ногах – мягкие желтые сафьяновые тапочки. То, что шлафрок был старым, вероятно, сшитым еще до свадьбы, было очевидно: он не прикрывал ни толстый живот, ни обширную грудную клетку, которые могли так разбухнуть только за много лет. Кашлял он тихо, но непрерывно, без передышки.
– Гутен таг, герр Фишер [13]13
Добрый день, господин Фишер ( нем.).
[Закрыть], – поздоровался по-немецки тот, который сидел на первом балконе.
– Гутен таг, герр М… – ответил ему второй, вынимая из коробочки пилюли и отправляя их в рот.
– Эта астма, она гонит меня из постели!
– Да, это ужасно!
– Вы принимаете пастилки «Пингвин»?
– Да, только не помогает… Они не те, что были до войны… Это военный эрзац… Я уже двадцать лет их принимаю, герр М, – ответил второй на смеси немецкого и еврейского. – Гадость первый сорт… Я их выкинул, а перед войной они были настоящими…
– Йа, герр Фишер! [14]14
Да, господин Фишер ( нем.).
[Закрыть]
И оба, сдерживавшие кашель во время разговора, теперь закашляли в один голос еще сильнее, захрипели и завздыхали, отчаянно встряхивая головами:
– Йа, герр М!
– Йа, герр Фишер!
Стало светлее. Разрозненные облака и тучи, слонявшиеся по небу, точно они заблудились или запоздали, таяли под лучами выползавшего с востока солнца. Я, совсем застыв от холода, встал и принялся, чтобы согреться, расхаживать быстрым шагом… Показались ночные сторожа и стали мести улицы. Рабочие с синими термосами под мышкой молчаливыми толпами шли на фабрики, потягиваясь со сна.
4
Широкие скамейки на длинной парковой аллее были заняты бедно одетыми людьми. У одной скамейки собралась кучка рабочих и демобилизованных солдат. Шел разговор, в котором каждый имел слово. Я присмотрелся к говорящим, прислушался, о чем у них идет речь. Один из рабочих, худой, с блестящими глазами, худощавым и смуглым от загара лицом и растрепанными черными вихрами красивых, густых волос, кипя и раздражаясь до зубовного скрежета, говорил:
– Нам не нужно ехать… Иностранные рабочие живут в бараках… А эти расфуфыренные французские капиталисты обходятся с ними как с заключенными…
– Ложь! Я сам получил письмо от брата из Франции. Он под Верденом, работает по девять часов, после работы пьет вино и спит с француженками даром, – вмешался второй, постарше, добродушный блондин с маленькими светлыми усиками.
Все рассмеялись.
– Да, – все еще кипятился чернявый. – Франция поставляет всему миру пудру, вино и проституток. Сходите в здешнее ночное кабаре «Ка-карду», увидите сплошь распутных француженок. С женщинами эти французы – герои, все донжуаны, так это у них называется. А работать ленятся, спят до полудня и едят на завтрак несвежие сардины с кислым бордо… На наших рабочих смотрят как на африканских негров… «Работай, работай, пока силы есть, ты не создан ни для чего, кроме работы, – ты не француз». А если попросишь не селить тебя в грязном бараке, состроят кислую мину и ответят: «Нельзя так говорить».
– Наглость говорить такое о Франции! – вмешался третий, с серьезным, спокойным лицом молчаливого человека. – Неправда, что в здешних публичных домах есть француженки! Нет, это местные распутные девки выучились изъясняться по-французски и говорят, что они из Парижа. Это просто такой способ вскружить голову развратному гуляке, цену себе набить…
– Эх, велика разница: немец, француз, поляк, еврей – все буржуи сосут нашу кровь, а потом, когда уже нет сил работать, говорят, что ты со своей женой и ребенком можешь хоть головой о стенку биться, – вмешался голодным голосом четвертый, каждая интонация которого выражала тоску по сытному обеду. – Я здесь ничего хорошего для себя не жду и иду записываться. Кто ж такой умник, чтобы заранее понять, хорошо там будет или нет? В гробу я видал всех проституток: немецких, французских, особенно наших – главное, заработать на хлеб и спать в хорошей постели! – Он собрался уходить и, делая шаг, спросил: – Ребята, кто идет записываться?
Почти все встали и пошли, переговариваясь и размахивая руками. Из разговора я понял, что прибыла французская миссия, которая вербует рабочих, чтобы отстраивать разрушенные районы северной Франции.
Вместе со всеми пошел и я. Я был воодушевлен и взволнован – появилась надежда избавиться от всех моих бед.
5
Перед входом в красное фабричное здание стояло человек двести; над ними висел большой плакат:
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ В СЕВЕРНУЮ ФРАНЦИЮ.
В окнах этого фабричного здания торчали ржавые железные решетки, прикрывавшие треснувшие и разбитые стекла.
Прошла пара часов, пока очередь дошла до меня. В первой комнате за письменным столом сидел маленький толстяк с круглым лицом торгаша, который на все – на вещи и на людей – смотрел сухо и холодно, как на обычный товар, который он теперь собирается купить. Его круглый подбородок почти касался груди, словно у него вовсе не было шеи. В короткой толстой руке он держал перо и писал на длинном листе бумаги.
Паспорта у меня не было, поэтому я показал ему демобилизационное удостоверение, в соответствии с которым он записал мои имя и возраст на длинном листе; несколько раз он покрутил и полистал удостоверение, будто что-то выискивая. В конце концов он сказал:
– Здесь не значится ваш адрес!
Да, я ведь совсем забыл, что я нигде не живу! Я спохватился и быстро, без раздумий, назвал адрес сапожника.
– Здесь, – добавил я, – я живу.
– У вас есть какая-нибудь профессия? – затем спросил он, осматривая мои плечи своими маленькими бегающими глазками, которые блестели так же, как его лакированные полуботинки. Казалось, что и те и другие были намазаны одним и тем же кремом.
– Нет, – ответил я, не желая рассказывать, что когда-то вел бухгалтерию в одной, теперь уже закрывшейся фирме.
Мне говорили, что французы плюются, слыша о таких профессиях, как бухгалтер, курьер и тому подобное.
Закончив со всеми вопросами, он своей короткой толстой рукой указал мне направо.
Из первой большой комнаты узкий коридор вел в маленькое, высокое, сводчатое помещение.
Идя по узкому коридору, я ощущал себя застрявшим в горле этого здания. Со стен и потолка свисали старая расползшаяся плесень и паутина, а высокие окна с битыми зазубренными стеклами придавали фабрике вид огромного мертвого зверя, поросшего, как шерстью, этой плесенью и паутиной. В последнем зале стояли двадцать голых мужчин. Они дрожали от холода. Ветер дул сквозь не заделанные в окнах дыры и шевелил их волосы, как увядшие осенние листья. Все молчали и нетерпеливо глядели на дверь. Некоторые злобно ворчали:
– Долго нам тут еще голышом стоять?
Пришедший вместе со мной из парка блондин с маленькими усиками закурил папиросу и отпустил шутку, которая вызвала смех только у трех-четырех молодых рабочих.
– Французики думают, что мы парижские дамочки – иначе не заставили бы нас стоять тут голыми!..
Остальные даже не улыбнулись, они дрожали от холода и молчали.
Через десять минут вошел доктор – высокий, грузный человек с огромной приплюснутой головой, на которой не было ни единого волоса. У меня мелькнула мысль, что на эту приплюснутую голову можно смело поставить чернильницу и написать письмо – прямо как на гладком столе… В его тяжелых, неверных шагах, которые походили на поступь человека, еще погруженного в сон, таилась необычайная лень. Мне на ум пришли слова вспыльчивого чернявого рабочего, и я с первого взгляда понял, что этот человек уже лет двадцать не видел восхода солнца, потому что спит до полудня… Все его лицо, состоявшее из глубоких морщин, среди которых затерялись глаза, толстый нос и широкий рот с толстыми чувственными губами, рассказывало об удовольствии от жареного и соленого мяса, съеденного поздно вечером.
Он, зажмурив один глаз, смотрел на нас сквозь пенсне, осматривал каждого, крутя его, со всех сторон, даже ощупывал мышцы так, как бедные женщины щупают мясо у мясников на рынке.
Я все еще ощущал его потные пальцы на своей спине, когда он отошел от меня.
Спустя короткое время с нами закончили. Мы оделись, вышли в первую комнату и стали ждать. Из всех рабочих не взяли только троих. Среди них был и я.
Вся моя надежда вырваться из могилы сошла на нет. Было обидно, и я почувствовал, что мои руки трясутся от огорчения, от злости и от мысли, что я и дальше буду шляться по улицам, которые уже сидели у меня в печенках, что я и дальше буду искать кусок хлеба и место, где можно приклонить голову. Слезы подступили к глазам, слезы беспомощности и бессилия от того, что я не могу стянуть с себя жесткую, кишащую вшами рубаху, в которую мое тело заключено, как в глухой панцирь, и от того, что этим отказом мне дали понять, что я стою еще ниже, чем все эти голодные, безработные трудяги, что я ни на что на свете не годен и что при всем моем желании и готовности делать все, выполнять любую работу я все-таки лишний.
– Почему я не могу поехать во Францию? – спросил я толстяка, который всех записывал.
По его взгляду я понял, что задал свой вопрос угрожающим и предостерегающим тоном, требующим быстрого, правдивого ответа без всяких рассуждений и отговорок.
– Как вас зовут?
Я назвал свое имя.
Он встал, достал длинный лист бумаги, который уже убрал в узкий шкафчик.
– Евреев не принимаем! – сказал он, вполоборота повернувшись ко мне.
Быстрыми шагами я вышел из фабричного здания.
6
На улице я почувствовал себя лучше. Полуденное солнце висело в сером небе и от скуки играло с оконными стеклами, на которые падали его слабые, бледно-золотистые лучи, дробившиеся на остроконечные искры.
У галантерейной лавки низенький старик грел на солнце спину.
Мимо прошла маленькая девочка с красивыми светлыми волосами, зачесанными назад и заплетенными в две косички с красными лентами. Ее лицо было прозрачным и ясным, как родниковая вода. Она напевала песенку, которую ей, наверное, задала учительница. Внезапно она выронила книжку из пакета с тетрадями и учебниками, который несла под мышкой.
Я нагнулся, поднял выпавшую книжку и протянул ей.
– Спасибо! – сказала она своим чудесным, ясным и звонким голосом и пошла дальше.
Целую минуту я стоял потрясенный. Слово «спасибо» не выходило у меня из головы, как нечто реальное. Ее ясный, звонкий голос, которым она произнесла это слово, продолжал звучать у меня в ушах. Девочка была уже далеко, только в конце улицы мелькали красные ленты в развевающихся золотых косичках, а я все еще слышал, как она говорит «спасибо»…
– Боже мой, как давно мне не говорили таких простых слов!
На этот раз от изумления и тихой грусти я быстро, почти сразу, сообразил, что уже несколько лет, начиная с моего поступления на военную службу, мне никто не говорил такого слова, такого привычного человеческого слова, которое слышишь на каждом шагу. Первый раз за несколько недель, а может, и месяцев я почувствовал простую радость, которая пьянила меня, как вино. Мне стало хорошо, легкость разлилась по всему телу.
Я сунул руку в карман, достал последние три тысячи марок, которые еще оставались от денег, что дала мне та женщина, и поспешил за девочкой.
Пусть купит себе шоколадку, хорошая девочка!
Город, дома, улицы, люди – все, что я видел, показалось мне еще более чужим и далеким, а я самому себе – еще более ничтожным, еще более одиноким и несчастным.
Эта история напомнила мне другую, произошедшую со мной в детстве, когда я был двенадцатилетним мальчиком.
7
Играя с детьми на рыночной площади нашего местечка, я попал под крестьянскую телегу и сильно зашиб правую руку.
Поначалу мама прикладывала к руке компрессы и какую-то темную мазь, которую прописал фельдшер. Никакой боли я не чувствовал.
Но потом больная рука стала зеленоватой, бескровной, и фельдшер велел ехать со мной в губернский город к доктору, потому что иначе я потеряю руку.
Мама заложила серебряные субботние подсвечники и шелковую шаль, которую она, по ее рассказам, получила от бабушки на свадьбу, разжилась несколькими рублями, одела меня в старый овчинный тулуп, мы сели в поезд и отправились в город.
Впервые в жизни я оказался в таком большом городе.
Когда поезд приблизился к городу и тысячи электрических фонарей вспыхнули, словно вечно бодрствующие огни, мне пришлось зажмуриться.
Высунув голову из окна вагона, я чувствовал, как лучи газовых и электрических фонарей пляшут на моей голове и шее.
Локомотив сдавленно и хрипло засвистел.
У нас на рынке крутился больной астмой пес, который, кашляя, свистел и шипел так же одышливо и хрипло, как теперь свистел этот локомотив.
Закрыв глаза, я воображал, что все вагоны тянет такой большой-пребольшой пес. Черные, перепачканные кочегары бьют его кнутами, а он должен тянуть, он должен…
Внезапно мама вскрикнула:
– Сынок, отойди от окна! – и оттащила меня в сторону.
Я совсем позабыл, что еду к доктору и, может статься, мне отнимут руку. Поезд, несколько часов тряски на лавке в вагоне, новые незнакомые люди, одетые во всевозможную одежду разных цветов, незнакомые поля и леса, усеянные ветряными мельницами, лесопилками и блестящими, как зеркало, реками, в которые смотрятся солнце, луна, звезды и облака, прихорашиваясь перед выходом в свет; фонари, улицы, магазины, витрины – все это опьяняло меня и утомляло мои глаза, которые с великим любопытством хотели ухватить и оставить в памяти все на свете, не упустить ни малейшей детали, чтобы было о чем рассказать друзьям.
Мама держала меня за руку и каждую минуту упрекала:
– Ты ведь не смотришь, куда идешь… На людей натыкаешься…
У большого четырехэтажного здания, отделанного лепниной и карнизами, мы остановились. Мама что-то спросила у прохожего, который, подтверждая, кивнул, и мы поднялись по ярко освещенной мраморной лестнице, на которой стояли обитые клеенкой кушетки. У стеклянной двери мы остановились, мама нажала кнопку на двери. Послышались шаги, и дверь открылась.
Светловолосая женщина провела нас в просторную комнату с мягкими, обитыми плюшем стульями. Вскоре вошел высокий, толстый, гладко выбритый господин с красным, бугристым носом. Он был очень похож на писаря гмины [15]15
Городская или сельская административная единица в Польше. Аналог русской волости.
[Закрыть]пана Гиджяла, который каждое воскресенье и каждый церковный праздник напивался, надевал юбку и блузку, вбегал к Айзику Дозору и тараторил на идише:
– Мазел-топ, Айзик!.. М’эт эсн а хипэ… Х’гей хасэле хобн мит а гутн йид!.. [16]16
Поздравляю, Айзик… Будут есть хупу… Ясобираюсь замуж за хорошего еврея!.. ( искаж. польский диалект идиша).
[Закрыть]
Когда он вошел, мама встала и хотела что-то сказать, показывая на меня рукой. Вошедший перебил:
– Прием стоит пять рублей!
Мама ответила умоляющим тоном:
– Нет, господин доктор, у меня есть только три рубля.
В общей сложности у нее было четыре рубля. Рубль она придержала на расходы.
Доктор вышел, захлопнув дверь с криком:
– За три рубля я не стану марать рук!.. Вы можете идти…
Мама снова села. Она была бледна и печальна. Она смотрела на меня мягко и огорченно, но ее взгляд колол меня, как раскаленная игла.
Вошла светловолосая женщина, которая открыла нам дверь.
– Меньше пяти рублей господин доктор не берет. Напрасно вы здесь.
Мама достала из-за пазухи платочек, развязала его и вытащила две бумажки и серебряные монеты.
Она пересчитала деньги дрожащими руками – было не более четырех рублей.
Все деньги она сунула в руки светловолосой женщине:
– Идите, отдайте это доктору… чтобы спас моего бедного ребенка!.. – Она придвинула меня к себе, крепко прижала к груди и со слезами в голосе произнесла: – Видишь, нехорошо быть бедным!..
Светловолосая женщина вышла. Через несколько минут она вернулась и сказала в дверях:
– Пройдите к господину доктору с вашим мальчиком.
Стоял морозный день конца февраля. Город был закован в белые цепи мороза.
Когда мы вышли из квартиры доктора, было еще холоднее, чем прежде. Тонкий, колючий, мерзлый снег летел наискось, по кривой, будто дыхание замерзшей земли не давало ему упасть на нее, отгоняя ввысь.
Мама держала меня за руку и молчала. Мы долго шли по улицам, а мама все молчала.
Я устал рассматривать дома, витрины, пролетки, автомобили и сани.
Мне очень хотелось есть.
– Мама, я голодный!
Она глубоко вздохнула и опять промолчала.
Мы уже пару часов слонялись по морозу.
Я почувствовал, что мамина рука – словно кусок льда, а лицо у нее – бледное и бескровное, как промерзший снег.
– Почему мы не едем домой? Мы ведь уже были у доктора! – спросил я сам себя.
Тут же до меня дошло: все деньги мы отдали доктору.
Я все понял и больше уже не напоминал о том, что голоден. Я замолчал, как мама.








