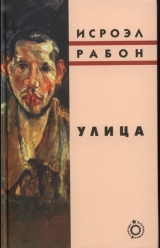
Текст книги "Улица"
Автор книги: Исроэл Рабон
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
Еще один четкий указатель разговорного польского присутствует в речи мальчишки-полового в кабаке – там есть слова на польском Проше бардзо!(«Пожалуйста!»). Впрочем, то, что персонаж, названный «худеньким польским парнишкой» (17-я глава), говорит по-польски, становится понятным еще до того, как звучат эти слова, хотя впрямую это нигде не сказано. Мы же из этих слов узнаём, что все посетители этого нееврейского кабака говорят по-польски. Во многих случаях, даже если отсутствуют прямые и однозначные указания, можно понять, что перед нами перевод с польского на идиш. Примером является случай из вступительной главы, где приводится диалог с фельдфебелем, демобилизующим рассказчика из польской армии. Понятно, что в этой ситуации разговор должен происходить по-польски. На том же языке говорят сапожник и его дети во 2-й главе. И, естественно, по-польски говорит женщина с кошелкой, так как у нее откровенно польская фамилия Войчикова и она читает польскую газету (3-я глава). По-польски говорят все сотрудники конторы, вербующей работников во Францию (главы 4 и 5), рабочие и полицейские (10-я глава). Разговоры в Лодзинском магистрате и со сторожем в приюте тоже ведутся на польском языке (27-я глава).
По всей видимости, разговор с атлетом Язоном тоже происходит не на идише, а на польском, поскольку в начале этого разговора рассказчик и Язон с удивлением обнаруживают, что они оба евреи. Соответственно, в момент знакомства они общаются на каком-то другом языке. Также понятно, что члены разноязыкой цирковой труппы не говорят между собой на идише, да и по-польски тоже. И, тем не менее, даже если принять за данность, что в других сомнительных случаях «в оригинале» разговор происходит на идише, все равно польский остается главным языком той реальности, которая описана в «Улице» [108]108
Дабы завершить картину, заметим, что в 1-й главе «говорят» по-русски, а в 3-й и 25-й – по-немецки.
[Закрыть].
Языковая ситуация, складывающаяся на страницах книги Рабона, дополнительно высвечивает природу персонажей, в том числе рассказчика, который, при том, что он «пишет» книгу на идише, принадлежит к тонкой прослойке польских евреев, для которых польский стал основным языком. Автор создает у читателя четкое ощущение, что языковая проблема расширяется до экзистенциональной и становится дополнительным и труднопреодолимым компонентом общей отчужденности. Не вдаваясь в подробное описание поэта Фогельнеста и его стихов, которые он пишет по-польски, Рабон внятно и недвусмысленно обозначает его статус польского поэта еврейского происхождения, когда приводит Фогельнеста ночью в пустой цирк и заставляет там читать свои стихи. В этой ситуации деградация «высокой» польской поэзии в устах еврея явственно достигает гротескных пропорций [109]109
О значимости этой деградации – правда, в иных обстоятельствах, – рассказывается в рассказе Дер Нистера Унтер а плойт(«Под забором»). См. мой анализ этого рассказа в Ди голдене кейт,43 (1962), с. 47–68.
[Закрыть].
Языковая ситуация, созданная в «Улице», лишний раз подчеркивает необычность этой книги, написанной на идише и посвященной экзистенциональным исканиям польскоязычных персонажей, как евреев, так и поляков. Как было сказано выше, для межвоенной еврейской прозы эта ситуация была далеко не стандартной и не общепринятой [110]110
Персонажи, говорящие по-польски в окружении, где не говорят на идише, появляются в произведениях И.-И. Зингера, Э. Кагановского, Й. Перле и других. В их текстах иногда возникают персонажи-неевреи. И все же в литературе на идише это явление остается маргинальным даже в межвоенной Польше. Я коснулся этого вопроса в докладе на Международной конференции по еврейско-польским связям (Оксфорд, сентябрь 1984).
[Закрыть]. Более того, именно описанной языковой ситуацией, по причине чего «Улица», по сути, является «переводной» книгой, можно объяснить скупое использование рассказчиком еврейских идиом, равно как и общее впечатление бедности языка, которое эта книга производит на некоторых читателей.
* * *
При анализе романа «Улица» нельзя не упомянуть и еще некоторых второстепенных персонажей. Читатель не может не обратить внимание на то, что Рабон очень часто использует образы, аллюзии, сравнения, связанные со всевозможными животными. Ранее уже говорилось о том, что то же самое характерно и для его поэзии. Зачастую это идиоматические и даже устойчивые выражения из идиша, в определенном смысле они напоминают о мощной притчевой традиции в этом языке. Однако нет никакого сомнения в том, что Рабон использует этот прием с целью удивить читателя, хотя иногда легко отследить непосредственный источник того или иного выражения – например, это польская идиома, переведенная на идиш. Когда нам встречаются выражения вроде «маленький мальчик с узким личиком, острым подбородком и маленьким узким лбом, похожий на голодную церковную мышь» (2-я глава), возникает ощущение, что выделенные курсивом слова, которые достаточно странно звучат на идише, просто являются переводом стандартного польского выражения «Głodny jak mysz kościelna». Выражение встречается в главе, где действие происходит в подвале у сумасшедшего сапожника и разговор идет по-польски. Из этого можно заключить, что Рабон усматривает тесную связь между «оригинальным» языком событий и их передачей на идише [111]111
Другой вариант этого идиоматического сравнения: элнт ви майз ин кирхес(«одинокий как мыши в церквях») встречается в книге Рабона «Балут» на с. 55. То же выражение существует и в других языках, не только в польском, однако для Рабона непосредственным источником служит все-таки польский. В «еврейском» контексте выражение однозначно выглядит странно.
[Закрыть].
Сравнения, в которых используются образы животных, носят в романе двухсторонний характер. Человек принимает облик животного и действует соответственно, и, напротив, животное обретает человеческие черты. Двухсторонний характер этого приема можно проиллюстрировать коротким отрывком, где прием представлен в обеих разновидностях (26-я глава):
Извозчики спали на козлах, лошади моргали от снега большими, влажными, грустными глазами. На углу мне встретились две уличные женщины, выставляющие напоказ бледные лица и подбитые глаза. Они разговаривали, кричали друг на друга, размахивали руками. Извозчик, проснувшись от их крика, весело заворчал, сделал снежок и метнул его в одну из женщин:
– Эх, пропащие!
Обе женщины повернулись к нему и принялись, не сходя с места, его бранить, размахивая руками, выкрикивая злые и замысловатые проклятия одно за другим, как собаки, которые боятся укусить, но, не сходя с места, не прекращают лаять.
В текстах Рабона, как правило, появляются кошки, собаки и лошади. Так обстоит дело не только в романе «Улица», но и в книге «Балут», и в его поэзии [112]112
См. описание схватки человека с собаками в «Балуте», с. 32–39. Об образах животных в поэзии Рабона см. выше.
[Закрыть]. Эта особенность его творчества заслуживает более пристального и подробного исследования.
Склонность, порой доходящая до навязчивой идеи, сравнивать животных с человеком, порой по линии противопоставления, особенно ярко выражена в «Улице» в изображении лошадей. Взаимоотношения между человеком и лошадью основаны прежде всего на совместном преодолении невзгод. В этой связи следует подчеркнуть, что в мире, который создан в романе Рабона, нет чистокровных, надменных, ухоженных скакунов. В «Улице» описаны простые рабочие клячи, которые тянут тяжелые телеги, которых впрягают в извозчичьи пролетки. Владельцы таких лошадей стремились, разумеется, выжать из них как можно больше и при этом, как могли, экономили на корме. В 1930-е годы такие лошади были неотъемлемой частью любого польского городского пейзажа. Именно они являлись основным средством перемещения грузов и перевозки пассажиров. Однако, помимо них, Рабон упоминает и о тех лошадях, которые вместе с людьми участвовали в Первой мировой войне, которые тоже погибали в этой бойне.
Взаимоотношения человека и лошади, общность их тяжелых судеб явственно прослеживаются в целом ряде эпизодов романа. Несчастный поэт Фогельнест не может сдержать слез при виде загнанной клячи, которая умирает прямо посреди улицы. Глубина его чувств объясняется тем, что он проецирует эту ситуацию на себя, ибо Фогельнеста ждет схожая смерть (в конце 30-й главы).
Как уже было упомянуто, некоторое время рассказчик работает в цирке. Он носит афиши по шумным городским улицам, причем должен ходить в небезопасном месте – посреди мостовой. Но он приспосабливается к этой работе, и у него возникает взаимопонимание и даже «дружба» с лошадьми, с которыми он постоянно соприкасается (11-я глава):
Странно, но каждый, кто долго ходит по мостовой, начинает чувствовать себя по-свойски с лошадьми. Большие лошадиные глаза на любого смотрят тепло и дружелюбно, будто хотят сказать нечто, будто шлют немой привет. Моя постоянная сосредоточенность на том, чтобы меня кто-нибудь не задавил, пробудило во мне чутье полицейской собаки. Я носом чуял, когда за мной топала лошадь, я отличал запах автомобиля от запаха трамвая. Часто, неся двумя руками афишу с бенгальским тигром, я ловил косой взгляд лошади, шедшей в упряжке, взгляд, полный сочувствия и сострадания, ко мне, человеку…
Человек убежден, что лошадь, его товарищ по несчастью, не нанесет ему вреда. А вот в отношении более современных транспортных средств, которыми управляют люди, он не испытывает подобной уверенности. Очеловечивание лошади с грустными глазами в приведенном выше отрывке совершенно естественно для этой книги. Понятно, почему в городе лошадь ставят выше человека, самой заметной чертой которого является его апатия. Жалость, которую испытывает лошадь к несчастному человеку, падающему спьяну на мостовую, подчеркнута в этом контексте цитатой из стихотворения Бодлера (21-я глава) [113]113
Это переосмысленные строки из стихотворения Бодлера Les Litanies de Satan(«Литании Сатане») из раздела Revolte(«Мятеж») в «Цветах зла». Перевод Рабона неточен и имеет много принципиальных отличий от оригинала. В оригинале «ты» относится к Сатане, что совершенно не очевидно у Рабона. Впрочем, в контексте «Улицы» отличия эти не столь существенны. Возможно, при переводе на идиш Рабон пользовался польскими переводами – этим можно объяснить некоторые расхождения с французским оригиналом. Благодарю моего друга М. Литвина, прекрасного переводчика французской поэзии на идиш, который опознал цитату из Бодлера и сравнил ее с французским оригиналом.
[Закрыть].
Страницей раньше рассказчик размышляет об одиночестве человека, о странном явлении: оказывается, можно проникнуться внезапной мимолетной любовью к неведомому прохожему на городской улице. Ассоциативная связь с описанной в цитате из Бодлера лошадиной сострадательностью совершенно очевидна, причем сравнение с лошадью сделано далеко не в пользу человека.
Парадоксальным образом в тексте Рабона можно найти и обратное. Если человек наделен свойствами или чертами лошади, они, как правило, его не красят. Женщина с лошадиными зубами уродлива (17-я глава), а извозчик, как и лошадь, «пахнет навозом стойла» (17-я глава), то есть отталкивающе воняет. Более того, цирковые борцы с их звериной мощью и звероподобным обликом тоже сравниваются с лошадьми (11-я глава):
Опять вспыхнули рефлекторы, и вышло шестнадцать полунагих великанов с гороподобными мышцами на груди, руках и ногах, среди которых был один негр. Они под приветственную музыку расхаживали по арене, демонстрировали под звуки марша свои великанские тела. Над залом поплыл запах тяжеловозов, запах пота мускулистых жеребцов. Бледная дама в маленькой бархатной шляпке как у французского священника, которая до этого швырнула свой носовой платочек Долли, втянула воздух ноздрями, и ее грудь начала вздыматься.
Этот образ вызывает у женщин эротические ассоциации, рассказчик же не скрывает отвращения, которое вызывает в нем животная похоть (11-я глава) [114]114
«Зверь в человеке» – это наблюдение, которое постоянно встречается в отзывах на произведения Рабона; зачастую его называют центральным элементом его творчества. См., например, работу И.-И. Трунка (примеч. 90).
[Закрыть]:
Дамы в партере втягивали воздух носом, как плотоядные звери, почуявшие запах крови. Шестнадцать нагих тел, сильные гороподобные торсы, будили жажду битвы, борьбы, криков боли и победы.
Запах крови пробуждает зловещие инстинкты.
Собственно, вызывающий потрясение образ нарезанного кусками кровавого мяса – как животного, так и человеческого, – возникает в «Улице» неоднократно и является одним из специфических маркеров прозы Рабона, причем не только в этой книге [115]115
См. «Балут», с. 32–39, и «Очерки 1939 года».
[Закрыть]. В «Улице» этот образ впервые появляется в видении страшной пекарни, где рассказчик видит себя запеченным в пирожок, который потом режут на ломти вместе с его собственным телом. В рассказе атлета Язона тот же образ появляется при описании нападения изголодавшихся свиней на связанных пленных (17-я глава) и в описании убийства любовницы Язона ее мужем. Убийство описано очень кратко, однако эта страшная сцена надолго запечатлевается в памяти из-за одной подробности: у женщины отрезаны груди.
Однако, без всякого сомнения, сильнее всего читателя «Улицы» шокирует не то, что происходит с человеческими существами в этих трех эпизодах, но описание гибели лошади в 13-й главе. Поскольку главный герой «Улицы» – демобилизованный солдат, и особенно в связи с этой главой, книгу можно причислить к литературному направлению, возникшему после Первой мировой, в котором война описывалась во всем ее неприкрытом ужасе [116]116
Действие романа-фельетона Рабона «За занавесом» тоже развивается на фоне событий Первой мировой войны. Рабон обращался к тому же предмету в рассказах Ма-йофеси Дер ринг, см. примеч. 72. См. также рецензию Рабона в Лодзер тагеблатот 24 мая 1929 года на знаменитый роман Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен». Огромное уважение к этой книге, посвященной Первой мировой войне, не мешает рецензенту высказать сомнения в ее художественной ценности. Нужно отметить, что перевод книги на идиш был выполнен Ицхоком Башевисом: Эрих Мария Ремарк, Ойфн майрев-фронт кейн найес(«На Западном фронте ничего нового», Варшава, 1929). На титульном листе надпись; «Авторизованный перевод с немецкого выполнен И. Башевисом под редакцией Михаила Вайхерта».
[Закрыть]. В этой главе не только проявляется вся сила литературного таланта Исроэла Рабона, благодаря ей книга становится самобытным и важным вкладом в развитие военной темы, хотя в конце 1920-х годов эта тема и выглядела несколько избитой.
И здесь возникает параллель: и человек, и лошадь ранены, оба – жертвы войны, оба затеряны среди темных полей, холодных, равнодушных к их страданиям. Раненая лошадь еще дышит, по-человечески постанывает от боли. Поступок человека – он убивает лошадь, чтобы выпотрошить ее и согреться в ее чреве, – сам рассказчик, совершающий это действие, воспринимает как убийство. «Убийца» даже слышит, как лошадь перед смертью по-человечески ойкает. Это «убийство» сохраняет человеку жизнь, но примириться с собственным поступком он не в состоянии. Освободившись от крестных цепей застывшей лошадиной крови, он продолжает мучиться угрызениями совести – глава заканчивается отчаянной мольбой о прощении, обращенной к мертвой лошади (13-я глава):
Движимый внутренним побуждением, я опустился перед мертвой лошадью, встал перед ней на колени и стал просить у нее прощения, плакать, кричать и рвать, рвать на себе окровавленные волосы… [117]117
Процитированный здесь заключительный абзац 13-й главы был по каким-то соображениям изъят при перепечатке в Лодзер тагеблат. Эта глава из книги Рабона стала очень знаменита, поскольку она была включена в Антологие фун дер йидише прозе ин Пойлн цвишн бейде велт-милхомес 1914–1939, цунойфгештелт: А. Цейтлин, И.-И. Трунк(«Антология прозы на идише в Польше между мировыми войнами 1914–1939, составлена А. Цейтлиным, И.-И. Трунком», Нью-Йорк, 1946, с. 611–618). Это глава была отмечена во всех статьях, посвященных «Улице», и недавно перепечатана в варшавском еженедельнике Фолксштиме(«Голос народа», март, 1985).
[Закрыть]
Рассказчик продолжает жить в тени этой незабываемой жуткой сцены и всю жизнь тщетно взыскует прощения, которого так и не получает.
Изображение перепачканного кровью человека, преклонившего колени рядом с изуродованным трупом лошади, вызывает у читателя ассоциации с картинами Хаима Сутина, на которых часто изображена кровь, стекающая с разрубленного на куски мяса. Образ возопившей крови привлек представителей одного поколения, художника и писателя, каждого по-своему, в их поисках художественного воплощения ужаса жизни и смерти, присущего всякой твари.
Посвящается памяти тех, кто во времена великой трагедии перенес великие страдания, но проявил твердость и страстную волю, чтобы, вопреки всем испытаниям, выжить и дать жизнь новому поколению высокообразованных, гордых и деятельных членов еврейской общины.
ИГОРЬ РЕМПЕЛЬ
Dedicated to the memory of those who suffered the most tragic times yet survived with great resilience and passion for their heritage, giving birth, despite all odds, to a new generation of an educated, proud and active Jewish community.
IGOR REMPEL









