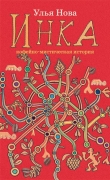Текст книги "Никогда не угаснет"
Автор книги: Ирина Шкаровская
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
«А буде син, i буде мати…»
И, конечно, опаздывает. Уже минут десять, как начался урок. В дверях класса круглая дырочка. Девочка смотрит через неё и видит: у стола стоит учитель математики Александр Антонович. Как всегда, он свежевыбрит и подтянут, из-под тёмного пиджака выглядывает безукоризненно белый крахмальный воротничок. Александр Антонович диктует задачку, а все записывают её в тетрадях. Закончит он диктовать, и Инка войдёт в класс. Александр Антонович человек справедливый и предмет свой знает прекрасно. И всё же, Инка не любит и ужасно, боится математика. Вероятно, оттого, что он какой-то холодный, не похожий на других учителей. Все учителя называют учеников ребятами, пионерами, хлопцами и девчатами, а в торжественных случаях – товарищами. А математик придумал скучное слово: учащиеся.
– Здравствуйте, учащиеся! – говорит он, входя в класс.
Единственный из учителей, Александр Антонович обращается к детям на «вы». Как в гимназии. К тому же он решительно не признаёт лабораторно-бригадного метода и ставит отметки очень требовательно и строго индивидуально. По старой гимназической привычке он обычно прибавляет: двойка, тройка, четвёрка.
Александр Антонович продиктовал задачку, положил учебник на стол и медленным шагом подошёл к двери. Вероятно, через дырочку в двери увидел Инкин глаз.
– Входите, Ивицкая, зачем стоять под дверью?
Инка вошла, боком пробираясь к своей парте.
– Почему вы опоздали? – учитель спокойно-выжидательно смотрит на девочку.
– У меня была неприятность! – ответила Инка.
– Ивицкая считает, что анархия – мать порядка, – слышится голос Лёни Царенко, который пользуется случаем, чтобы вставить крылатую фразу.
Не успевает Инка усесться за парту, как с двух сторон её начинают атаковать вопросами Соня и Липа. На уроках математики не очень-то разговоришься, но если нужно выяснить что-нибудь важное, то при некоторой изобретательности этого можно достичь. Соня кладёт перед подругой розовую промокашку, на которой написано:
«Почему ты опоздала? Что с тобой случилось?»
А Липа под партой что-то быстро показывает на пальцах Инке. Та пытается разгадать. А в это время Александр Антонович вызывает Вовку.
– Черепанов!
Черепок, ухмыляясь, выходит к доске.
– Прошу вас вынуть руки из карманов, – спокойно говорит учитель.
На миг Черепок теряется, вынимает руки из карманов, но снова прячет их и пренебрежительно произносит:
– Скажите, пожалуйста. Это вам не старорежимский режим…
– Да? Ну, в таком случае пожалуйте на место. Я с невоспитанными людьми не разговариваю.
Если бы учитель кричал, сердился, Черепок ответил бы ему что-нибудь грубое. А математик совершенно спокоен. И спокойствие его поразительно действует на разболтанного, привыкшего паясничать Вовку. Он вынул руки из карманов, смотрит на учителя.
– Скажите, Черепанов, что мы называем числовой прямой?
Черепок оглядывается. Никто не подсказывает. На уроках математики подсказывать бесполезно.
– Не знаете?
– Знаю.
– Так отвечайте. Я слушаю.
– Я знаю, но я забыл, – улыбается Черепок.
Учитель задаёт ему ещё несколько вопросов, на которые Вовка отвечает точно так же.
– Вы не приготовили урока. Садитесь, «Неуд», точнее единица, – левая щека Александра Антоновича мелко дрожит.
Затем к доске выходит Юра Павлик – «математическая голова», как называет его учитель. Юра всегда занимается всякими вычислениями, математическими викторинами и загадками, решает задачи собственным, оригинальным способом.
– Ну-с, – улыбаясь говорит Александр Антонович и добрым взглядом окидывает маленького веснущатого Юру. – Решите, пожалуйста, задачку № 5.
Юра быстро пробегает глазами условие и так же быстро стучит мелком по доске. Если бы Инка наполовину, нет, хотя бы на одну треть так умела решать задачи, как Юра!
Говорят, что два человека в один и тот же миг могут подумать об одном и том же. Должно быть, учитель и Инка подумали об одном и том же, потому что, когда Юра сел на место, Александр Антонович посмотрел на девочку скучными глазами и холодно произнёс:
– Ивицкая!
Инка подошла к доске, взяла в руки мелок, написала:
«X – 187 = 215». Нужно найти, чему равняется X. Казалось бы, всё ясно. Инка быстро стучит мелком по доске: «215–187; 215: 187». Вдруг от всех этих иксов и простейших уравнений ей делается ужасно скучно.
«И как ему не холодно в одной тельняшке?» И со всей ясностью возникает перед глазами девочки синеглазый беспризорник Руслан. Снова она что-то вычитает, делит и множит, но это явно не то. Подружки смотрят на неё горестно, а учитель презрительно.
– Садитесь! – говорит он ледяным тоном.
Отметкой можно не интересоваться. «Неуд», точнее единица.
Инка садится на место и чувствует, как у неё горит нос. Когда она волнуется, у неё всегда горит нос.
Учитель начал объяснять новый материал, но Инка так расстроена, что и не пытается слушать.
«Хорошо ещё, – думает она, – что «неуд» влепили только мне, и бригада не пострадала».
Переменка коротенькая, и Инка даже не успевает рассказать подружкам об интересной встрече в парке.
Следующий урок – украинская литература.
Широко распахнув двери, входит Павло Остапович. Его, единственного из учителей, дети не наградили прозвищем.
Да и зачем, собственно, придумывать прозвище учителю, когда настоящее имя отчество так подходит ему. У Павла Остаповича мягкий, чуть глуховатый голос, грустные глаза и высокий шишковатый лоб.
Он называет учеников по-своему – ласковым и коротким словом – «дiтки». Обращаясь к девочке, он говорит: «доню», к мальчишке – «козаче» или же «синку». Даже нарушитель дисциплины, курильщик и отчаянный заводила Черепок смущённо улыбается, когда слышит обращённое к нему «синку». У обладателя многих «неудов». Черепка, по украинской литературе отметка «очень хорошо». Да что Черепок! У всей группы по украинской литературе – «очень хорошо»! И ничего в этом удивительного нет. То, что рассказывает учитель, входит в душу ученика ярко и прочно, на долгие годы, на всю жизнь.
Детство и юность свою Павло Остапович провёл в одном из маленьких и тихих городков Украины. В грозовые дни тысяча девятьсот пятого года тихий городок этот зажил тревожной жизнью. Заволновались, забурлили окрестные сёла. Взбунтовавшиеся крестьяне увозили хлеб с полей помещиков, громили их усадьбы, рубили лес. По ночам, охваченные пламенем, горели экономии. А в уездном городке, в деревянном домике с занавешенными окнами, учитель гимназии Павло Полищук перепечатывал на гектографе обращение Центрального Комитета РСДРП, в котором большевики призывали крестьян к решительной борьбе с царём и помещиками.
В те дни Павло не знал ни минуты отдыха. По ночам участвовал в подпольных собраниях, днём ходил по пригородным сёлам, выступал на сходах. Взволнованно говорил молодой революционер крестьянам об их беспросветной, каторжной жизни, о кривде, о надругательствах, которые терпят они от помещиков и царских урядников. Не раз бросал он в жадно слушающую толпу пламенные строки любимого поэта:
Бодай кати ïx постинали,
Отих царiв – катiв людских!
Поздней осенней ночью тысяча девятьсот восьмого года Павла Полищука арестовали, привезли в Киев и посадили в Лукьяновскую тюрьму.
Наутро пришёл в камеру тюремщик с кандалами.
– Пожалуйста, ваше высокоблагородие, дайте вашу ножку, – насмешливо проговорил он. – Вот, получайте – новенькие. С иголочки. Кандальчики первый сорт… До конца жизни не сносите.
Через полгода Павла Полищука судили. Он был обвинён в том, что возбуждал на сходах крестьян против правительства и произносил мятежные, оскорбительные для особы его величества речи. Приговором военно-окружного суда Павло Полищук был осуждён на вечную ссылку в Сибирь «с лишением всех прав состояния». Вскоре его под конвоем повезли в пересыльную тюрьму, а дальше – погнали по этапу в Сибирь. Целый месяц, вместе с большой партией ссыльных, скованный по рукам и ногам, он шёл через замёрзшую Ангару. Лёд тихо, предательски потрескивал, Ангара только стала, и ревел над головой, рвал полы арестантского бушлата обезумевший ветер. Тогда-то Павло Остапович и простудился. С тех пор прошло много лет. Но ни покои, ни тёплое солнце родного края не могут излечить его от мучительного надрывного кашля. Когда неожиданно начинается приступ, Павло Остапович синеет, хватается руками за грудь, а в глазах светится такое страдание, что дети от жалости чуть ли не плачут. Но как только кашель прекращается, – Павло Остапович снова весел и бодр. Он стоит, выпрямившись, с гордо поднятой седой головой, глаза молодо горят.
О чём будет сегодня рассказывать учитель?
– Добрий день, дiтки!
Павло Остапович медленно прошёлся по классу (он никогда не стоит за столом), остановился у окна, на миг прикрыл рукой глаза и тихим голосом заговорил: о каторжном Оренбургском крае, о мёртвой степи, сторожившей крепость Яман-Кала, что по-киргизски означает «дрянь-город», и о заключённом в эту крепость – рядовом пятого линейного батальона Тарасе Григорьевиче Шевченко.
Тишина стоит в группе. Черепок выдвинулся из-за печки, подпёр кулаком подбородок, приоткрыл рот. Димка не сводит с учителя пытливо-сосредоточенного взгляда. Вера Рябчук сидит прямая, бледная, с головы сбился чёрный платок. Инка и Липа, позабыв о том, что они на уроке, обнялись. Щёки у девочек пылают, глаза горят.
И вот нет уже ни тесной групповой комнаты, ни трудшколы. Нет урока, нет весёлой трели звонка. Есть Павло Остапович, его тихий глуховатый голос и есть кобзарь Тараса Шевченко. И сейчас дети вместе с ним, с поэтом, одетым в побуревший от каторжной пыли солдатский мундир. С Тарасом бродят они по тусклой степи и берегу Арала. С ним плывут на шхуне по капризному Аральскому морю и под скучным небом Мангышлака тоскуют о далёкой родине. Вместе с ним, с Тарасом Григорьевичем, перечитывают стихи из его заветной, захалявной тетради, гневные и печальные стихи о крипаках и бесталанных сиротах, о наймычках, тупых панычах и никчемных жестоких царях, которых народ должен смести с лица земли. А когда Павло Остапович прикрепляет на стене репродукции рисунков Шевченко, тишина сразу же сменяется гулом. Дети вскакивают с мест, отодвигают парты и, отталкивая друг друга, теснятся перед доской, на которой приколоты рисунки: «Автопортрет Шевченко», «Шхуна «Константин», «Киргизские дети-нищие».
Затем так же шумно они усаживаются и мгновенно умолкают. Сколько времени прошло? Павло Остапович и сам позабыл о времени. Скоро по-видимому, будет звонок. Учитель прикрывает глаза рукой, тяжело дышит.
Испуг набегает на лица детей. Инка крепко сжимает Липе руку и быстро, отчаянно быстро шепчет в мыслях:
«Не надо… Ну, не надо, Павло Остапович, милый, золотой, не надо кашлять…»
Помогло. Учитель глубоко вздохнул, присел за стол, тронул ладонью седой висок.
– Слухайте.
И дрогнувшим голосом прочитал:
А люди виростуть. Умруть
Ще ие зачатiï царята…
I на оновленiй землi
Врага не буде, супостата,
А буде син, i буде мати,
I будуть люди на землi.
Прозвенел звонок с урока. Учитель попрощался и ушёл, склонив набок седую голову. Он унёс с собой старый портфель, томик «Кобзаря» и удушливую, разрывающую грудь астму. И он оставил в сердцах детей свет веры в большое человеческое счастье на обновлённой земле.
Сима
Больше уроков не будет, можно идти домой. Но на пороге класса появляется Сима. На ней чёрная сатиновая юбка и синяя косоворотка с узором на вороте: золотистые колосья ржи переплелись с васильками. Правда, колосья и васильки давно поблекли, потому что косоворотка эта много раз стирана и перестирана. И чулки Симины, старые коричневые чулки, много раз штопаны-перештопаны. А какие на ней ботинки! Тяжёлые, неуклюжие мужские ботинки марки «Скороход». Но грубая одежда не портит гибкой фигуры девушки, поблекшая косоворотка ещё больше подчёркивает юную прелесть её лица.
Сима работает слесарем на заводе «Ленинская кузница», там же, где и Рэм. Она – руководитель отрядной живгазеты. Слово это непонятно современному читателю и требует объяснения.
Живая газета представляла собою нечто вроде театрализованной группы. В неё входили дети, умеющие петь, играть, танцевать, декламировать, занимающиеся пластикой и т. п. И так как каждый что-нибудь да умел, то в живой газете участвовал почти весь отряд. Газета эта была действительно живой, потому что откликалась буквально на все события текущей жизни: нота Советского правительства Чемберлену, месячник по борьбе с беспризорностью, выборы в Советы, – всё находило отражение в её программе. Выступали живгазетчики перед красноармейцами и крестьянами, в пионерских клубах и на рабочих окраинах, у своих шефов на заводе «Ленинская кузница» и у подшефных в детдоме имени Третьего Интернационала. Все в одинаковых синих блузах, под марш «Мы кузнецы, и дух наш молод» выходили дети на сцену и звонко выкрикивали рифмованные лозунги, пели частушки, ставили инсценировки и монтажи.
Сима стала у стола, откинула толстую каштановую косу на спину:
– Итак, товарищи живгазетчики, я пришла потолковать с вами об очень важном деле. Скоро великий праздник: десять лет Октября. Давайте обсудим, какую нам подготовить к празднику программу.
С последней парты поднялась Вера Рябчук и направилась к выходу.
– Подожди, Вера! – Сима обернулась, взяла Веру за руку, задержала её в своей: – Разве тебе не хочется участвовать в живгазете?
Вера пренебрежительно улыбнулась, пожала плечами. Но улыбка у неё вышла бледная и жалкая.
– Ты можешь станцевать что-нибудь или же спеть, – сказала Сима. – А может быть, ты декламируешь? Подумай…
– Она может «Отче наш» прочитать под музыку, – сострил Черепок.
Но смех тотчас же стих, потому что Сима даже не улыбнулась: не выпуская Вериной руки из своей, она продолжала ласково уговаривать:
– И ещё ты можешь в пирамиде участвовать. Соглашайся… Ну?
– В пирамиде? – переспросила Вера. – В шароварах и в спортсменке?
И вдруг старушечьим тоненьким голоском она произнесла:
– А-я-яй, вы же взрослая… Как вам не стыдно такое говорить!
И, вырвав свою руку из Симиной, Вера убежала.
– А ведь нехорошо получилось… Очень нехорошо, – с грустью проговорила Сима.
– Нехорошо… – подтвердила Инка. – Вера вообще какая-то странная.
Но тут встал Лёня Царенко.
– Чего её жалеть! – Он поправил очки и вытер нос. – Это же вредный тип.
– И мама её подозрительный элемент, – подал голос Черепок.
Оказалось, что Сима всё знает. И про маму – собеседницу бога, и про фламандскую цепь счастья, и про то, что Вера не состоит ни в одной ячейке.
– А почему вы не повлияли на неё? – спросила Сима.
– Ещё как влияли! – вскочил Черепок. – И на учком вызывали, и в стенгазете карикатуру на неё нарисовали.
Ох, это была карикатура, если бы Сима видела её! Вся школа собралась смотреть. Толя изобразил Веру в монашеской рясе, на коленях, перед иконой. А внизу была подпись:
«Господи, прости мне мои грехи».
– Ну и что же?
– Вера даже не подошла к стенгазете – только белая стала, как бумага…
– Плохо, значит, вы влияли… – задумчиво сказала Сима. – Не будем пока о Вере говорить. Поговорим о живгазете, о новой программе. Прежде всего, как наш шумовой оркестр?
Черепок обвёл группу взглядом победителя и доложил:
– Оркестр в порядке. У нас есть уже три новые трещотки и два рупора из бумажной кассовой ленты. Очень хорошо звучат. Мы подготовили программу классическую и революционную. Из классиков – Моцарта «Турецкий марш» и Шуберта «Музыкальный момент», а из революционных песен «Молодую гвардию» и «Смело, товарищи, в ногу».
– А как дела с учёбой. Черепок?
Меньше всего Вовка ожидал, что ему будет задан такой вопрос. Он сразу как-то сник, глупо заулыбался.
И тут поднялась Липа.
– Очень хорошо, Сима, что ты затронула этот вопрос. Я давно собиралась с тобой поговорить о том, чтобы Черепка освободили от дирижёрства…
– Кто тебя спрашивает? Твой номер восемь… – Черепок багрово покраснел и показал Липе кулак.
– Симочка! – продолжала, волнуясь, Липа. – Пусть все скажут. Может быть дирижёром оркестра человек, который ставит свои личные интересы выше общественных?
– Без громких слов, давай доказательства, – закричал Черепок.
– Доказательства? А кто получил «неуд» по физике? И по черчению? И по математике?
Однако Черепок нисколько не сконфужен.
– А она? – и он показал пальцем на Инку. – Подружка твоя, Инночка, тоже схватила «неуд» по математике.
Но тут вмешалась Сима.
– Я думаю, Вова, тебе всё ясно. Ты не маленький. Как руководитель живгазеты предупреждаю: если ещё раз подведёшь бригаду – дирижёром шумового оркестра тебе не быть. Ясно? Посмотри на меня.
Черепок исподлобья посмотрел на Симу и пробормотал:
– Ясно. – Помолчав, он добавил: – Подумаешь, мне «очень хорошо» получить – раз плюнуть. Я способный, не то, что она. – И снова кивнул головой в сторону Инки.
Он сел на место. Началось обсуждение программы живгазеты.
Постановили: подготовить коллективный монтаж, несколько пирамид и поставить пьесу «Красные дьяволята». Всей группой пошли провожать Симу. Дальше всех по одной дороге с ней – Инке. Она обрадовалась, когда все разошлись и они остались с Симой вдвоём.

– Ох, Инка, – устало проговорила Сима. – Через два дня у меня экзамен по диамату. Буду сидеть всю ночь напролёт, и завтра всю ночь, а потом уж отосплюсь.
Инка внимательно смотрит на девушку и только теперь замечает, как впали у неё щёки и усталость синевой залегла под глазами. Волна горячей любви к Симе охватывает девочку. Как она хочет быть похожей на Симу! Работать на заводе и учиться на рабфаке! Как хочет сидеть одну-другую ночь напролёт, учить диамат, а потом отоспаться…
…А вот и Ново-Жилянская улица, деревянный, покосившийся домик. Окна приходятся почти вровень с землёй. За домом течёт узкая мутная речонка Лыбедь.
– Знаешь что. Инка? – сказала Сима. – Я должна взять дома книжку и отнести её в библиотеку. Если хочешь – зайдём ко мне на минутку, а потом я тебя почти до дома провожу.
Вся Симина семья в сборе. Мама, старенькая бабушка и две сестрички сидят за столом и обедают.
– Симочка пришла! – в один голос восклицают девочки. Инка оглядывает комнату. Бедно, даже убого, но чистота необычайная, нигде ни пылинки, на окнах белоснежные марлевые занавески. И вдруг удивлённый взгляд девочки останавливается на иконе, висящей в углу, над кроватью.
– Это мамина половина комнаты, – перехватив её взгляд, объяснила Сима, – а вот мой кабинет.
В Симином «кабинете» стоит кухонный столик, покрытый чистой газетой, на нём аккуратной стопкой лежат книги, а на стенке висит портрет Карла Маркса. Карл Маркс смотрит на Николая-чудотворца, а Николай-чудотворец на Карла Маркса.
Однажды, – это было несколько лет тому назад, вскоре после того, как Сима поступила на завод и её избрали в бюро цехячейки, – она пришла домой. Поставила в угол табуретку, сняла икону и хотела было отнести её на чердак. Но в это время вошла Матрёна Ивановна – Симина мать. Она ничего не сказала дочери, но в глазах матери девушка прочитала такое страдание, что у неё не хватило решимости довести дело до конца. Она снова стала на табуретку и повесила икону на место.
– Я не могла маме такое горе причинить. Понимаешь, Инка, – тихо сказала Сима, когда они вышли из дому.
– И вот косы… Косы мне мама тоже не разрешает снять… не хочу её огорчать…
Помолчав, Сима спросила:
– А ты почему «неуд» получила?
– Я всё знала, – вспыхнула Инка, – и пример был лёгкий. Но, понимаешь, я думала совсем о другом. Рассказать?
И девочка подробно, не упуская ни одной мелочи, рассказала о встрече с беспризорником.
Сима внимательно слушала.
– Ты ещё с ним встретишься, вот увидишь! Только смотри, держи портфель покрепче, – сказала она Инке на прощанье.
Инка пошла по Жилянской к своему дому. На всех углах горели костры из опавших листьев. Голубой, горьковатый дым окутывал улицы, дома, людей. Девочка прищурила глаза, и люди казались ей необыкновенно красивыми – у них голубые глаза, голубые лица, голубые волосы. Инка думала обо всём сразу: о «неуде» по математике, о Симе и о хлопце в рваной матросской тельняшке. И вдруг Инка вспомнила, что не рассказала Симе о том, что глаза у беспризорника синие-синие, хорошие глаза.
«Пускай холодною землёй засыпан я»
Ксения Леонидовна вошла в комнату, торопливо разделась и сразу же увидела записку, лежащую на рояле.
«Мамуля! Я задержусь», – щуря глаза, читала она неровные строчки. «Приду поздно вечером. У нас репетиция живгазеты, а потом мы идём в детдом, к своим подшефным. Ты не беспокойся, я съела два бутерброда и два пончика. Целую. Инка».
У Ксении Леонидовны устало опустились руки. Машинально сложив записку, она медленно подошла к шкафу, достала потрёпанный саквояжик и задумалась. Что делать? До отхода поезда час. Неужели она уедет, не повидав Инку? Не обнимет её на прощанье, не утешит? Ведь девочке придётся целый месяц жить одной, и в праздники она будет без матери. Как обидно, неудачно всё сложилось! О предстоящей командировке Ксения Леонидовна узнала только сегодня и поэтому не успела ни предупредить дочку, ни подготовиться к поездке. Нужно было накупить продуктов на месяц, чтоб Инке не бегать по магазинам, купить ей ботинки (старые совсем износились), починить примус и сделать ещё множество мелких, но важных дел. И всего этого она сделать не успела. А часовая стрелка между тем незаметно подвигается.
Ксения Леонидовна присела на диван. Прежде всего нужно собраться с мыслями. «Вот так. Сложу вещи, потом напишу Инке записку, оставлю ей деньги и попрошу тётю Мотю…» Стук в двери прерывает нить её мыслей. Тётя Мотя стоит на пороге комнаты. Она сразу же замечает раскрытый саквояж, разбросанные на стульях платья, ноты.
– Уезжаете; верно, Ксения Леонидовна?
– Уезжаю, тётечка Мотя. С бригадой, на район. Концерты будем давать… Через полчаса должна выйти.
Тётя Мотя вытирает пыль с саквояжика и замечает, что на пальто Ксении Леонидовны нет вешалки, а пуговица вот-вот оторвётся. Когда вешалка и пуговицы прочно пришиты, тётя Мотя под диктовку Ксении Леонидовны записывает, что нужно из продуктов купить.
Живут они одной дружной семьёй: Инка, мама, тётя Мотя да ещё Коля-квартирант. Вся семья бывает в сборе довольно редко. Если Инкина мама дома – тётя Мотя на работе, а Коля на занятиях или же на заводе. Если тётя Мотя и Коля дома – Ксения Леонидовна где-нибудь на шефском концерте. Но иногда выпадают такие хорошие вечера, когда все дома. В такие вечера Ксения Леонидовна садится на круглый вертящийся стульчик у рояля, откидывает назад голову с тяжёлым узлом волос на затылке. Несколько минут в комнате стоит тишина. Потом Ксения Леонидовна ударяет по клавишам. Она играет Баха, Шопена, Сен-Санса, Грига… В маленькой комнате звучит то торжественно-победная медь оркестра, то льются полные грусти и очарования мелодии, то звенят чистые, лесные ручейки, щёлкают дрозды, заливаются трелями соловьи. Тётя Мотя сидит на диване, положив руки на колени и слушает музыку, боясь пошевельнуться. В добрых глазах её стоят слёзы. Вспоминается ей детство. Вспоминается, как, не разгибая спины, от зари до зари работала она на панском поле, как была всегда голодной, обиженной, разутой…
Иногда на цыпочках бесшумно входит Коля с конспектом или же с книжкой в руках. Он становится за портьерой так, что его не слышно и не видно, и оттуда смотрит на Ксению Леонидовну, на её маленькие руки, порхающие по клавишам, как белые мотыльки, на склонённую голову. Потом он так же незаметно уходит.
Когда Ксения Леонидовна кончает играть, тётя Мотя вздыхает и, глядя влажными глазами на её порозовевшее лицо, говорит:
– Красивая вы… и хорошая… Новую судьбу вам нужно строить.
Ксения Леонидовна печально улыбается.
– Судьба…
Это короткое слово сказала она себе тогда, когда подруга по гимназии познакомила её со своим братом – молодым прапорщиком – Володей Ивицким. Ксения посмотрела в голубые, очень серьёзные глаза прапорщика и мысленно сказала сама себе:
– Моя судьба.
И не ошиблась. У них оказалось много общего. Оба горячо любили музыку, поэзию, любили бродить в тихих, убранных сухим золотом киевских парках. Володя читал Ксении напамять Блока, волнуясь, говорил о революции и о том, что он будет с теми, кто пойдёт против старого мира.
Володя и Ксения полюбили друг друга и вскоре поженились. Через год у них родилась девочка – Инна.
А ещё через год, после февральской революции, прапорщик Ивицкий вступил в большевистскую партию и был избран председателем полкового комитета. По поручению революционного штаба он возглавил отряд красногвардейцев, который громил немцев, петлюровцев, деникинцев, калединцев, и с честью прошёл путь от Харькова до Царицына. Он погиб в двадцатом году от рук колчаковцев.
Семь лет пролетело с тех пор – семь очень быстрых и очень медленных лет. Незаметно подросла и дочка.
– Нет уж, тётя Мотя, – говорит Ксения Леонидовна, – одна была у меня судьба, другой не будет.
Иногда после музыки Ксения Леонидовна читает напамять стихи, чаше всего Лермонтова. Голос у неё низкий, грудной и, когда она нараспев, чуть задумчиво читает, у Инки начинает щекотать в носу, а сердце сладко замирает. Забравшись с ногами на диван, она слушает клятву Демона и страстную исповедь Мцыри и нескончаемый спор двух гор – Казбека и Шат-горы. Но больше всего её волнует одно стихотворение:
Пускай холодною землёй
Засыпан я.
Мой друг!
Всегда, везде с тобой
душа моя.
Разве это не правда? «Всегда, везде с тобой душа моя».
Когда мама читает эти строки. Инке хочется прижать голову к её груди и сказать матери какие-то ласковые, важные слова. Но слов таких девочка найти не может. Да они и не нужны. Ксения Леонидовна и так знает, о чём думает дочка. Вот и сейчас она поднялась, взяла в руки чемоданчик и с грустью посмотрела на тётю Мотю.
– Ох, и огорчится Инка. В первый раз праздники без меня!
И она обняла тётю Мотю.
– А может быть, постараетесь приехать?
– Вряд ли, – покачала головой Ксения Леонидовна, – зачем же я еду? Людям в праздники особенно хочется хорошую музыку послушать…
Кто-то звонит. Это, оказывается, Коля.
– Уезжаете?
И, не расслышав ответа, Коля выхватывает у Ксении Леонидовны из рук саквояжик и растерянно оглядывается.
– Я вас пойду провожу. Можно? А где ваш багаж?
– Да это всё…
Коля разочарован. Если бы ему сказали, что для соседки нужно поднять дом, он с радостью взялся бы за это…
Вечером приходит Инка – весёлая, возбуждённая.
– Ой, как хорошо у нас получается пьеса «Красные дьяволята». Если б вы только видели, тётя Мотя! – тараторит она в передней, сбрасывая пальто и калоши.
– А мама пришла? – С этим вопросом девочка входит в комнату и, ещё не переступив порога, понимает.
Мама уехала. Не будет её и на праздник! Как Инка не подумала, что такое может случиться! Девочка подходит к роялю, ударяет по клавише и, опустив голову, думает невесёлую думу. Как надеялась она на праздник, как мечтала его провести с мамой вместе! Все, все дети будут праздновать с мамами и с папами. Димка и Толя, и Юра Павлик, и Черепок. У Липы, как и у Инки – нет отца – погиб под Перекопом, но мама у неё такая домовитая, весёлая. Она обязательно спечёт пирог, поставит в вазочки бумажные красные розы и сама наденет праздничное платье. Только одна она… Инка вот-вот начнёт всхлипывать. Но тут входит тётя Мотя и ставит на стол горячие, очень вкусные ватрушки и чай. А вслед за тётей Мотей является Коля. Они усаживаются за столом, и Инка в лицах рассказывает им пьесу «Красные дьяволята». И так увлеклись они её рассказом, даже забыли о том, что пора спать.
– Если ты боишься, я могу у тебя переночевать, – осторожно заметила тётя Мотя, когда Инка закончила рассказывать.
– Что вы, что вы! Я ни капельки не боюсь! – замахала руками Инка.
Пожелав девочке спокойной ночи, Коля и тётя Мотя ушли. И вот теперь-то Инке делается страшно.
И не то, чтобы страшно, а как-то не по себе. Как ни удивительно, но это так. Девочка, которая участвовала ночью в облаве на беспризорников, лазала по трущобам и кладбищам, боится быть в комнате одна.
– Да разве ты одна, Инка?
Кто это сказал? Никто.
Девочка подходит к окну. За окном шумят жёлтые тополя, в небе горят далёкие звёзды.
– Нет, Инка, ты не одна.
С портрета в чёрной раме смотрит на девочку молодой красный командир. На нём френч, а на плечи накинута бурка, на голове папаха с красной звездой. Это Инкин отец. У него такой же нос, как у дочки, короткий, слегка вздёрнутый и такие же ясные, упрямые глаза. Вероятно именно в этой бурке и в папахе стоял он перед шеренгой белобандитов. Они пришли в госпиталь, где на больничной койке лежал он, разметавшись в тифозном бреду. Колчаковцы хотели его прикончить тут же. Но он, сам не понимая, что делает, через силу поднялся с кровати, набросил на плечи бурку и встал.
– Идёмте, – сказал он.

И они повели его, босого, по снегу на площадь, к месту казни, где уже стояли со связанными руками его боевые товарищи-красногвардейцы. Он шёл, и в голове у него мутилось, а в глазах плясали зелёные, красные, лиловые огни. Он ничего не видел и обо всём забыл. О жене, и о маленькой дочурке, и о том, что его ведут на расстрел. В затуманенном сознании вспыхивали, сбивались в клубок слова, фразы, и он никак не мог отыскать то, что хотел. И только став рядом с товарищами, он внезапно спас, вытащил из горячечного бреда эти единственно важные, нужные слова.
– Да здравствует Советская власть! – крикнул он слабым, срывающимся голосом.
– Смирна-а! – скомандовал колчаковец в английской форме. – По совдепии пли!
Инка не помнит отца. Ей было всего четыре года, когда он погиб. Но очень часто она к нему мысленно обращается. И он тоже очень часто беседует с ней. Вот и сейчас он сказал:
– Неужели моя дочка, дочка красного командира, такая трусиха?
– Ничего подобного! – громко проговорила Инка и рассмеялась, услыхав свой голос.
Потом она быстро постелила себе, нырнула с головой под одеяло и, по привычке подогнув коленки, задумалась.
– А что хорошее будет завтра?
Инка верит в то, что каждый день случается что-нибудь хорошее. И она права. Каждый день бывает хорошее, но люди не всегда это замечают.