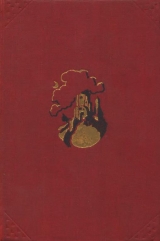
Текст книги "Немецкая романтическая повесть. Том II"
Автор книги: Иозеф Эйхендорф
Соавторы: Генрих фон Клейст,Клеменс Брентано,Ахим фон Арним
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц)
Тщетно менял он резиденции и одеяния, тщетно предпринял он даже путешествие в Африку. Когда он полагал, что навсегда уже от него отделался, стоило только какому-нибудь дурному вожделению овладеть его мыслями, как сейчас же возникал рядом с ним альраун: то в виде сверчка, зовущего его из-за печки, указывая где он мог бы найти деньги и случай для осуществления своего намерения, то в виде паука, спускающегося с потолка на его письменный стол, то в виде жабы, пересекавшей ему дорогу, когда он гулял по саду; нередко жужжал он, пролетая в виде жука, вечерами и ночью кричал он голосом ночной птицы. Карл прислушивался и слишком часто слушался его голоса – горе нам, потомкам его эпохи! Если многое стало для него возможным благодаря этому духу, добывавшему ему деньги, то, с другой стороны, это привело к тому, что он рано окончил свое царское поприще и ему пришлось праведной жизнью, покаянием и молитвой отгонять от себя всякие дурные вожделения.
Будучи в Генте, подавленный воспоминаниями о своей первой любви и о ее закате, решил он торжественно проводить солнечный закат своей собственной жизни. Здесь со слезами благословил он своего сына Филиппа, простился с послами при своем дворе и до своего отъезда в Испанию зажил отныне уединенной жизнью отшельника. В день своего рождения стал он настоятелем учрежденного для него иеронимитского монастыря св. Юста в Испании; он думал о том, что в этот же день появился на свет и альраун, так губительно повлиявший на его жизненный путь, и говорил себе, что именно в этот день, в который он родился на землю, он должен вновь родиться для царства небесного. Его искренняя молитва была услышана, и его окровавленный бич, сохраненный по смерти его, как святыня, показывает каких трудов ему стоило освободиться от своей привычной излюбленной мысли; нас же, предки которых столь пострадали от его политики, все время возмущаемые и угнетаемые презренным сребролюбием альрауна и, наконец, погубленные разъединением Германии, которое он вызвал, как ни старался тому помешать, не обладая достаточным патриотическим чувством, – нас примиряет с его личностью повесть о неудачах его первой любви и его раскаяние, и мы видим, что только святой на троне мог бы побороть все превратности той эпохи.
Так и он сам почувствовал себя оправданным, когда, чтобы испытать, готово ли его сердце к великому переводу, который захватывает врасплох даже дряхлую старость, и в том случае, если она свыклась с мыслью о нем, и в том случае, если она нарочитой деятельностью старается отогнать о нем всякую мысль, – он приказал воздвигнуть себе в монастырском храме по своему собственному плану великолепное надгробие, изумительно выполненные галлереи которого, расписанные портретами его предков, увенчивались склепом, где должна была стоять его гробница. Он почувствовал себя оправданным, когда живым лег в эту гробницу, приказал поставить ее наверх, под похоронное пение, колокольный звон, в окружении черных свечей, и там сквозь земную крышу храма узрел Изабеллу, которая, неся ему утешение и любовь, встречала его на полях предвечных идей, где заблуждения человека вместе с телесным его бременем рассыпаются во прах. Она кивала ему, и он последовал за ней и узрел в светлых утренних лучах Изабеллу, указывавшую ему путь к небесам, и спросил присутствующих, неужели уже такой поздний день. Но архиепископ ответил, что еще – ночь. Тогда предал он свою душу в руки божий и умер.
Спросим свое сердце, как мы хотели бы умереть: конечно, смертью Карла, с возлюбленной нашей юности, подобно ангелу парящей между нами и солнцем, от которого мы отстраняемся, потому что оно слепит нас, – подобно цветному занавесу, так что даже тени рук, срывающих призрачные цветы, кажутся окрашенными. Это погребение Карла не должно нас пугать странной своей театральностью. Та же самая мысль, воплощенная в действие властителем мира, тревожит многие души, прожившие строгую жизнь; но она остается лишь мыслью и кроме того часто претворяется в заботу о распорядке действительного погребения, в которой не столь выражается тщеславие, сколь желание подобающим образом завершить жизнь, проведенную согласно определенным твердым принципам. Наше суетное время с пренебрежением относится ко всякому торжественному похоронному обряду, наши же благочестивые предки часто давали в единственное приданое невесте приличный саван, и пышная гробница завершала скромную жизнь. Кто дерзнет порицать это как причуду? Это было одним из выражений того единства, которое впечатляет нас во всей их истории, но живее всего – в памятниках многовекового их религиозного благоговения, которое воплощается в церковных зданиях старой Германии. Какое единство и согласованность всех отношений, как крепко все зиждется на земле, и, в то же время, все устремлено к небу, все ведет к нему, в дивной красоте завершаясь на грани его! Ввысь к небу устремляет церковь, словно руки молящихся, бесчисленные цветы и возвышенные изображения, все они направлены вверх ко кресту, который увенчивает здание, как эмблема завершения божественной жизни на земле, который, как высшее великолепие земли, вдохновляющее ее собой к бесконечным подвигам, только один и сверкает золотом, и никакое другое изображение или эмблема во всей священной истории, представляемой зданием храма, не дерзает им украситься.
Не только над погребением императора Карла, но и над жизнью его держало свой долгий посмертный суд потомство, однако лишь современники могут оценить властителя к концу его жизненного поприща, и сколь поучительными представляются тут суды над мертвыми древних египтян; но они не имеют отношения к нашему европейскому миру. Еще и поныне встречаем мы их в Абиссинии, еще и поныне потомки нашей Изабеллы на следующий день по смерти открыто выставляются, на троне при входе в пирамиду, служащую им местом упокоения, и каждый обязан высказать, что думает он об умершем. Также и над Изабеллой был произнесен этот посмертный суд; еще и поныне абиссинцы говорят об этом суде, который она еще при жизни велела держать над собой и вписать его в книгу; они показывают и поныне у истоков Нила ее изображение, где она всех их вместе держит в некоем решете, сквозь которое, словно бесчисленные ручьи, они сбегают на землю, в знак того, что хотя она и объединила разрозненные племена абиссинцев, или цыган, однако не могла помешать тому, чтобы вследствие внутренних раздоров они не разбежались в разные стороны. Мы обязаны этими сведениями знаменитому путешественнику Тавринию, подлинные слова которого мы здесь приводим.
Славная королева Изабелла призвала сына своего Лрака, зачатого ею от Карла согласно Адрианову предсказанию, своего полководца Слейпнера, последовавшего за ней бедным странствующим студентом, далее, всех сановников и старшин народных ко входу большой пирамиды у истоков Нила, которую она воздвигла себе для гробницы. Это было 20 августа 1558 года, в тот самый день, когда ее возлюбленный Карл живым созерцал свое собственное торжественное погребение, и она словно предчувствовала это, желая предварить свое расставание с жизнью подобным же суровым обрядом. Тогда объявила она, дружественно простившись со всеми, указав безутешному Слейпнеру на небеса, где его любовь получит богатое воздаяние, и прижавши своего сына к сердцу. Тогда, говорю я, ибо, много раз слышал этот рассказ, объявила она, что чувствует себя слишком больной и дряхлой, чтобы дольше стоять во главе правления, и так как она теперь перестает властвовать и как бы уходит из мира, то ее горячее желание и последняя ее просьба, чтобы древний священный обычай суда над умершими не откладывали до ее действительной телесной смерти, но чтобы каждый ныне же, покуда она будет лежать в своем гробу, прошел мимо нее и высказал о ней свое мнение, клятвенно подтвердив его и ничего не утаивая. Так объявила она, и так как никакие мольбы, никакие слезы не могли заставить ее изменить свое решение, то тут же все были приведены к присяге. Королева легла, всеми оплакиваемая, в свою гробницу, и каждый подошел к ней по достоинству и согласно обычаю и громко огласил для записи в королевскую книгу свое глубоко продуманное суждение. О блаженный день для праведницы! Сколь легки были порицания по сравнению с теми упреками, которыми так часто она сама себя осыпала! Священнослужитель, сообщивший мне об этом все подробности, прочел мне из старого пергаментного свитка, что с ней было при этом и как блаженно она скончалась во время сего суда над ней; из этого свитка я тотчас же дерзнул перевести этот рассказ на наш родной немецкий язык, причем, однако, мне иногда не хватало copia verborum[4]4
Запаса слов.
[Закрыть], по каковой причине я дал снова пересмотреть свой перевод магистру Узену, который весьма его улучшил: «Она погрузилась во время суда в радостно-созерцательное состояние. Из тумана, все еще окутывавшего прекрасную страну, созданную ею, выступили перед ней сначала ближние блаженные сады, а в них снова спокойно играли счастливые дети ее гонимого народа; и фонтаны били там, где прежде крокодилы на сухом песке грелись на солнце; и красные и синие птицы пели там, где прежде шипели змеи. Далее показался перед ней зеленый луг, полный цветов, и ягнята, звеня колокольчиками, медленно двигались между стеблей, там, где прежде смерть подстерегала все живое в бездонных топях. И тогда потекла перед ней великая Река, река рек, девственный металл земного мира, блестяще полированный, как меч, и весла кораблей ее бороздили там, где прежде лишь рыба в мелкой воде дерзала плавать. Но прекраснейшее находилось по ту сторону, и как в затаенных мыслях своей души она мечтала неутомимыми стараниями для своего возлюбленного народа обтесать все отдельные камни в дворцы будущего могущества, так теперь уже воссияли ей по ту сторону замки и храмы будущих властителей, в свете восходящего солнца. Изумленная, она приблизилась к реке и стала смотреть только на ту сторону, где то, что в своих грезах чаяла она воплощенным, явилось ей осуществленным в действительности, и бросилась она в реку, и волна унесла ее, и вот она уже была по ту сторону – этим образом пытался благочестивый свидетель ее кончины выразить и объяснить блаженство ее умирающего лица».
Любвеобильная Изабелла! Невинной обрели мы тебя в малом кругу твоей юной любви, почему должны мы сомневаться, внимая рассказам путешественников, в том, что ты, и с высоты трона обозревая целый мир, осталась верной себе? Ибо что такое мир сей против той верности, которая, испытанная однажды, пребывает вовек неизменной? Твоя любовь не закатилась, будучи отвергнутой; единственный твой не понял, не оценил, не сохранил ее, и она обратилась к народу, который в твоей любви обрел свое освобождение. Никакое страдание, никакое раскаяние, никакое сомнение не отвратит твоего взора назад к тому, кого ты оставила, ибо он отказался от тебя; то, что чистую душу вдохновляет в одно мгновение, пребывает в ней непреложным законом навеки. Чистый образ юной жизни! мы обращаем взоры к тебе и молим: очисти нас от воображаемых страданий любви и от мнимых грехов нашего времени; посмертный суд людской не должен нас пугать, но кто не страшится судей в себе самом, неумолимой строгости мыслей, не поддающихся ни на какой обман, которым мы можем удовлетворить других, но не свою собственную духовную силу! Святая Изабелла, овей небесным дыханием пылающее мое чело, когда я буду держать суд над самим собою! – В небе стоит грозящая комета и накаляет осень до летнего жара, до какой же раскаленности доведет она весну! Утешься, душа, утешься и ты, мир, – тебе много обещано от господа!
Перевод М. Петровского
КЛЕМЕНС БРЕНТАНО
РАССКАЗ О ЧЕСТНОМ КАСПЕРЛЕ И ПРЕКРАСНОЙ АННЕРЛЬ
Лето только начиналось. Соловьи пели по дорогам всего только несколько дней и умолкли нынешней ночью, обвеянной свежестью отдаленных гроз. Ночной сторож возвестил одиннадцать часов. Возвращаясь домой, я увидел перед дверью большого здания кучку разного рода людей, по дороге из пивной собравшихся вокруг кого-то, сидящего на ступеньках крыльца. Их участие показалось мне столь живым, что, заподозрев какой-нибудь несчастный случай, я подошел.
На ступеньках сидела старая крестьянка и, как горячо ни хлопотали собравшиеся вокруг нее, не обращала на их любопытные вопросы и добродушные предложения никакого внимания. Было что-то поразительное, чуть ли не величественное в том, как твердо эта добрая старушка знала, чего хотела, и устраивалась на ночлег при людях и под открытым небом так, как будто бы была одна в своей каморке. Она накинула на себя фартук, натянула глубже на глаза большую черную клеенчатую шляпу, пристроила свой узелок себе под голову и не отвечала ни на какие вопросы.
«Что с этой старой женщиной?» – спросил я одного из присутствующих. Со всех сторон посыпались ответы: «Она прошла шесть миль из деревни, она не в состоянии итти дальше, она не знает города, у нее есть друзья на противоположном конце города, и она не найдет к ним дороги». – «Я охотно бы её проводил, – сказал один, – но путь туда далек, а у меня нет с собой ключа от моего дома. Кроме того, она, верно, не знает и дома, куда направляется». «Здесь-то все же нельзя этой женщине оставаться ночевать», – сказал один из вновь подошедших. «Но она уперлась на этом, – ответил первый; – я давно ей сказал, что доведу ее до дому; впрочем, она говорит совсем бессвязно, может быть, она даже пьяна». – «Она, по-моему, слабоумна. Но здесь ей ни в коем случае нельзя оставаться, – повторил тот, – ночь долга и прохладна».
Во время всей этой болтовни старуха, совершенно не стесняясь, точно она была глуха и слепа, закончила свои приготовления, когда же последний еще раз повторил: «Здесь ей все же нельзя оставаться», – она ответила удивительно низким и серьезным голосом:
«Почему мне здесь не остаться? Разве это не герцогский дом? Мне восемьдесят восемь лет, и меня герцог наверное не прогонит со своего порога. Три моих сына умерли на его службе, и мой единственный внук простился с жизнью; бог простит ему это, наверное, а я не хочу умереть, пока он не будет с честью предан земле».
«В восемьдесят восемь лет отмахать шесть миль! – сказали окружающие; – она утомлена и ребячлива, в таком возрасте человек слабеет».
«Но здесь, матушка, вы можете получить насморк и сильно заболеть, да и скучно вам будет», – сказал один из народа и наклонился к ней поближе.
Тут старуха промолвила снова своим низким голосом, полупросительно, полуповелительно:
«Ах, оставьте меня в покое и не будьте неразумны; что мне насморк, что мне скука? Время уже позднее, мне восемьдесят восемь лет, скоро наступит утро, и я тогда пойду к своим друзьям. Когда человек набожен, испытал удары судьбы и может молиться, то провести еще какие-то несколько жалких часов он и подавно сможет».
Собравшийся народ постепенно разошелся, и последние из стоявших еще вокруг поспешили удалиться, увидев проходившего по улице ночного сторожа, которого они намеревались просить отпереть входные двери в их жилища. Только я один еще оставался. Улица стихла. Я ходил задумчиво взад и вперед под деревьями находившейся передо мною площади; характер крестьянки, решительный, серьезный тон ее речи, ее стойкость в жизни, которая проходила в круговороте своих времен года восемьдесят восемь раз перед ее глазами и на которую она смотрела лишь как на преддверие храма, меня глубоко потрясли. «К чему все страдания, все вожделения моей души? Звезды следуют беззаботно по своему вечному пути. Зачем ищу я утешения и успокоения, от кого жду я их и для кого? Все, что я здесь ищу и люблю и чего добиваюсь, приведет ли меня к тому, чтобы я, подобно этой доброй, благочестивой душе, в состоянии был провести ночь у порога дома, пока не наступит утро, и найду ли я тогда, подобно ей, друга? Увы, мне не дойти до города, я упаду от усталости перед его вратами, если еще раньше не попаду в руки разбойников». Так разговаривал я сам с собой и, приближаясь по липовой аллее снова к старухе, услышал, что она молится про себя вполголоса с поникшей головой. Меня это страшно тронуло, я подошел к ней и сказал: «Храни вас бог, благочестивая матушка, помолитесь немного и за меня!» – с этими словами я бросил ей талер в фартук.
На это старуха сказала совершенно спокойно: «Тысячу раз благодарю тебя, милосердый, что ты услышал мою молитву».
Я вообразил, что это она мне говорит и сказал: «Матушка, разве вы меня о чем-нибудь просили? Я этого не знал».
Тут старуха встрепенулась и сказала: «Милый господин, ступай-ка домой, помолись хорошенько и ложись спать. Зачем шляться так поздно по улицам? Это вовсе не полезно молодежи, так как враг бродит вокруг и старается поймать кого-нибудь в свои сети. Много погибло от такого ночного гуляния. Кого ищешь ты? Господа? Он пребывает в сердце человека, живущего добродетельно, а не на улице. Но если ты ищешь врага, то ты уж обрел его; ступай-ка по добру по здорову домой и помолись, чтобы от него избавиться. Доброй ночи!»
С этими словами она совершенно спокойно повернулась на другой бок и сунула талер в свой дорожный мешок. Все, что старуха делала, производило на меня странное, серьезное впечатление, и я сказал ей: «Милая матушка, вы, наверное, правы, но ведь вы же сами меня здесь и удерживаете. Я услышал, что вы молитесь, и обратился к вам с просьбой помянуть и меня в вашей молитве».
«Это уже исполнено, – сказала она. – Когда я увидела, что ты бродишь по липовой аллее, то помолилась, чтобы бог внушил тебе хорошие мысли. Теперь они к тебе явились, а потому иди-ка ты спать!»
Но я подсел к ней на ступеньку крыльца, взял ее иссохшую жесткую руку и сказал: «Позвольте мне просидеть здесь с вами всю ночь и расскажите мне, откуда вы и что вам нужно здесь в городе; вам здесь некому помочь, в вашем возрасте бывают ближе к богу, чем к людям; свет переменился с тех пор, как вы были молоды».
«Не думаю, – отвечала старуха, – я за всю мою жизнь не заметила никакой разницы. Ты еще слишком молод, а в молодости люди всему удивляются; в моей жизни все так часто повторялось, что я гляжу на все с радостью только потому, что бог устроил это ко благу. Не следует, однако, отвергать доброго пожелания, хотя нам в нем и нет особой нужды, иначе можно остаться без доброго друга, когда в другой раз в нем будет большая нужда; ну, оставайся, посиди со мной, да посмотри, чем можешь ты мне помочь. Я расскажу тебе, что погнало меня в этакую даль, в город. Никак не думала, что придется мне побывать здесь еще раз. Семьдесят лет прошло с тех пор, как была я служанкой в доме, на пороге которого я сижу; с тех пор я так и не бывала в городе. Как время-то идет! Не быстрее руку повернуть. Как часто сидела я здесь по вечерам семьдесят лет тому назад и поджидала моего дружка, служившего в гвардии! Здесь мы друг другу и слово дали. Когда он здесь… но тише, идет дозор».
Тут она запела сдержанным голосом, как обычно поют молодые служанки и слуги у дверей дома в прекрасные лунные ночи, и я прослушал с истинным наслаждением следующую старинную песню:
Когда настанет страшный суд,
Все звезды наземь упадут.
Вы, покойники, покойники, восстанете от сна.
Перед страшным судом вы предстанете сполна.
Взойдете вы вверх к высоким чертогам,
Туда, где сидят ангелочки пред богом.
Проходил там господь Иисус Христос,
Большую радугу пронес.
Проходили там евреи-злодеи,
Что в дни оны распяли Христа в Иудее.
Деревья засветились все,
Камни искрошились все.
Кто эту молитву читать горазд,
Пусть читает на дню единый раз.
Его душа будет навек чиста,
Когда все мы придем пред Иисуса Христа!
Аминь.
Когда дозор подошел к нам ближе, добрая старушка растрогалась. «Ах, – сказала она, – ведь сегодня шестнадцатое мая, но все-таки все осталось попрежнему, совсем как тогда, только что у них другие фуражки и нет больше кос. Все равно, лишь бы сердце было доброе!» Офицер, командовавший дозором, остановился около нас и уже собирался спросить, что мы здесь так поздно делаем, как я узнал в нем знакомого мне прапорщика, графа Гроссингера. Я рассказал ему вкратце, в чем дело, и он сказал мне несколько взволнованно: «Вот вам для старухи талер и роза, – которую он нес в руке, – эти деревенские старушки любят цветы. Попросите старушку продиктовать вам завтра текст песни и принесите его мне. Я давно добивался этой песни, но нигде не мог ее достать». На этом мы расстались, так как часовой расположенной по близости гауптвахты, до которой я его проводил через площадь, крикнул: «Кто идет?» Он сказал мне еще, что состоит в карауле у дворца и чтобы я его там навестил. Я вернулся к старухе и передал ей розу и талер.
Розу она схватила с трогательной пылкостью и прикрепила ее к своей шляпе, причем произнесла несколько более высоким голосом и почти плача следующие слова:
Вы, розы-цветочки, на шляпе моей!
Каб денег побольше, я б жил веселей
Меж роз с моей любимой.
Я сказал ей: «Э, матушка, да вы совсем чувствуете себя молодцом!».
Она ответила:
Молодцом, молодцом
Ходил ходуном:
Весь дом – вверх дном.
А потом, потом —
Кувырком, кувырком.
Нет чуда в том.
«Взгляните-ка, милый человек, разве не хорошо было, что я осталась здесь сидеть? Все идет по-старому, верьте мне. Сегодня исполнилось семьдесят лет, как я сидела здесь у дверей, была проворной служанкой и любила петь всякие песни. Тогда я тоже пела песню про страшный суд, как и сегодня, когда мимо проходил дозор, и один гренадер бросил мне, проходя, розу на колени – лепестки ее и посейчас хранятся в моей библии – это было мое первое знакомство с моим покойным мужем. На другое утро я пошла, прикрепив эту розу, в церковь, и там он меня встретил, и скоро все уладилось. Вот почему меня так обрадовало, что мне сегодня снова досталась роза. Это означает, что я должна придти к нему, чему я сердечно радуюсь. Четверо сыновей и дочь у меня умерли, а третьего дня простился с жизнью и мой внук – помоги ему господи и смилостивись над ним! Завтра меня покинет еще одна добрая душа. Но что я говорю: завтра, разве уже не прошла полночь?»
«Двенадцать часов уже пробило», – ответил я, удивленный ее речью.
«Да дарует ей бог утешение и покой на оставшиеся ей четыре часочка!» – сказала старуха и смолкла, сложив молитвенно руки. Я не мог говорить, так потрясли меня ее слова и все ее поведение. Но, видя, что она остается неподвижной и что талер, данный офицером, продолжает лежать у нее на фартуке, я сказал ей: «Матушка, спрячьте талер, а то как бы вы его не потеряли!»
«Его мы не спрячем, его мы подарим моей приятельнице в час ее крайней нужды! – возразила она. – Первый талер я возьму завтра домой, он принадлежит моему внуку, он должен им воспользоваться. Видите ли, он всегда был отличным парнем и не пренебрегал ни своим телом, ни своей душой – ах, боже мой, своей душой! Я молилась всю дорогу, это невозможно, милосердный бог не даст ему погибнуть. Из всех ребят он был самый чистенький и прилежный в школе, и удивительно, как он стоял за честь. Его лейтенант всегда говаривал: «Если в моем эскадроне сидит честь, то квартирует она у Финкеля». Он служил в уланах. Когда он в первый раз вернулся из Франции, то рассказывал всякие примечательные истории, но речь в них всегда шла о чести. Отец его и сводный брат служили в ополчении и часто спорили с ним о чести, так как чего у него было слишком много, в том у них был недостаток. Бог да простит мне мой тяжкий грех, не хочу говорить о них плохо, каждому приходится нести свое бремя; но дочка моя покойная, его мать, доработалась до смерти из-за этого лентяя; она не могла осилить его долгов. Улан рассказывал про французов, и когда отец и сводный брат хотели их совсем очернить, улан сказал: «Отец, вы этого не понимаете, в них все же сидит много чести». Тут сводный его брат сказал ехидно: «Как смеешь ты болтать перед твоим отцом такой вздор о чести? Ведь он был унтер-офицером в Н-ском полку и должен понимать это лучше, чем ты, простой солдат». «Да, – сказал старый Финкель, который тут тоже заартачился, – я был унтер-офицером и не одному хвастливому парню всыпал двадцать пять; жаль, что у меня не было французов под командой, вот они бы это здорово почувствовали со всей их честью!» Слова эти очень огорчили улана, и он сказал: «Я расскажу вам кое-что об одном французском унтер-офицере, что мне больше по вкусу. При прошлом короле вздумали вдруг ввести во французской армии палки. Приказ военного министра объявлен был в Страсбурге на большом параде, и войска выслушали его в строю, затаив злобу. Но так как по окончании парада какой-то рядовой допустил бесчинство, то его унтер-офицеру было приказано дать ему двенадцать ударов. Это было ему строго приказано, и пришлось повиноваться. Но, когда он кончил свое дело, он взял ружье у человека, которого бил, поставил его перед собой на землю и нажал ногой на курок, так что пуля пронзила ему голову и он пал мертвым. Это было доложено королю, и приказ наказывать палками был немедленно отменен. Смотри, отец, вот это был парень, в котором сидела честь!» – «Дурак он был», – сказал брат. – «Жри сам свою честь, если проголодался!» – проворчал отец. Тут внук мой взял саблю, вышел из дому и пришел ко мне в домик, рассказал мне все и горько заплакал. Мне нечем было ему помочь. Хоть я и не могла опровергнуть историю, которую он и мне рассказал, но все-таки постоянно повторяла ему: «Честь воздавай одному богу!» Затем я дала ему свое благословение, потому что отпуск его истекал на следующий день, а ему хотелось еще заехать в одно местечко на расстоянии мили, где в помещичьем доме жила в услужении моя крестница, которая была ему очень по душе; он собирался да ней когда-нибудь жениться. Конечно, они вскоре и будут вместе, если бог услышит мою молитву. Он уже вышел в отставку, а крестница моя получит ее сегодня; приданое мною уже все собрано, и на свадьбе кроме меня никого не будет». Тут старушка снова умолкла и, по-видимому, молилась. Я погрузился в размышления о чести и о том, может ли крестьянин считать смерть этого унтер-офицера прекрасной. Мне хотелось, чтобы кто-нибудь дал мне по этому поводу достаточные разъяснения.
Когда сторож возвестил час ночи, старуха сказала: «Ну вот, мне осталось еще два часа. Э, да ты еще здесь, что же ты спать не идешь? Завтра ты не сможешь работать, и тебе попадет от твоего мастера; какое твое ремесло, добрый человек?»
Я не знал хорошенько, как объяснить ей, что я писатель. Сказать ей, что я ученый, я не мог, не соврав. Удивительно, что немец всегда несколько стыдится признаться, что он писатель. Перед людьми низших сословий в этом неохотнее всего признаются, так как им при этом обычно приходят на мысль библейские книжники и фарисеи. Звание писателя у нас не получило такого права гражданства, как homme de lettres у французов, у которых писатели принадлежат к особой профессии и в своих работах более подчиняются установленным правилам; у них можно даже спросить: où avez vous fait votre philosophie? – где проходили вы вашу философию? К тому же француз и сам производит впечатление более сложившегося человека. Впрочем, не один только этот, чуждый немцам, обычай затрудняет нас произнести слово «писатель», когда нас у ворот спрашивают, чем мы занимаемся, – нас удерживает от этого какое-то внутреннее чувство стыда, чувство, присущее каждому из тех, кто торгует свободными и духовными благами, непосредственным даром небес. Ученым приходится меньше стыдиться, чем поэтам, ибо они обыкновенно вносят плату за свое ученье, находятся частью на службе у государства, расщепляют толстые колоды или работают в шахтах, где приходится откачивать много подземной воды. Но так называемый поэт чувствует себя хуже всего, ибо он большей частью удирает на Парнас со школьной скамьи, да и вправду есть что-то подозрительное в том, когда поэт бывает таковым по профессии, а не между прочим. Ему очень легко можно было бы сказать: «Милостивый государь, каждый человек обладает от природы не только мозгом, сердцем, желудком, селезенкой, печенью и т. п., но и поэтической жилкой; но если кто перекармливает, упитывает или откармливает одну какую-нибудь из этих частей и отдает ей предпочтение перед всеми остальными, или даже делает ее орудием наживы, то он должен стыдиться перед лицом всех остальных людей. Тот, кто живет за счет поэзии, теряет чувство равновесия, да и гусиная печенка чрезмерной величины, как она ни вкусна, объясняется болезнью гуся». Всем людям, не зарабатывающим свой хлеб в поте лица, приходится до известной степени смущаться; это-то и чувствует тот, кто еще не целиком окунулся в чернила, когда ему приходится сказать, что он писатель. Такого рода мысли мелькали у меня, и я соображал, что мне сказать старухе, которая, удивленная моим колебанием, посмотрела на меня и сказала:
«Я спрашиваю, каким ремеслом ты занимаешься? Отчего ты не хочешь мне это сказать? Если ты не занимаешься честным ремеслом, то можешь еще им заняться, почва ведь тут золотая. Ведь не палач же ты или шпион, намеревающийся меня выспросить? Мне все равно, чем бы ты ни был, скажи только, кто ты такой! Если бы ты этак днем здесь сидел, я бы подумала, что ты просто лентяй, дармоед, прислоняющийся к стенам домов, чтобы не свалиться от лености».
Тут мне пришло в голову слово, которое могло бы, может быть, послужить мостом ко взаимному пониманию: «Я писец, милая матушка», – сказал я. – «Так зачем же ты этого сразу не сказал? – молвила она. – Ты, стало быть, пером работаешь; для этого нужна хорошая голова, быстрая рука и доброе сердце, а не то нагорит. Так ты писец? Не можешь ли ты в таком случае составить для меня прошение герцогу, чтобы оно наверняка было удовлетворено, а не осталось лежать среди многих других?»
«Прошение, милая матушка, – сказал я, – разумеется, я могу написать и буду всячески стараться, чтобы оно было составлено как можно убедительнее».
«Ну, это хорошо с твоей стороны, – ответила она. – Да вознаградит тебя господь, и дарует он тебе в старости такое же спокойное мужество и такую же прекрасную ночь с розами и талерами, как мне, а также и друга, который составит тебе прошение, если оно тебе понадобится. А теперь ступай-ка домой, милый друг, купи себе лист бумаги и пиши прошение; я тебя здесь подожду. Через час я пойду к моей крестнице; ты можешь пойти со мной; она тоже обрадуется прошению. У нее, знаю, доброе сердце, но пути господни неисповедимы!»
С этими словами старуха снова умолкла, опустила голову и, повидимому, молилась. Талер все еще лежал у нее на коленях. Она плакала. «Что с вами, милая матушка, что вас так огорчает? Вы плачете?» – сказал я. – «А почему же мне не плакать? Я плачу о талере, плачу о прошении, обо всем я плачу. Но ничто не помогает; на земле, тем не менее, все гораздо лучше, чем мы, люди, этого заслуживаем, и горькие, как желчь, слезы все же еще слишком сладки. Взгляни-ка на золотого верблюда там у аптеки! Как великолепно и чудно сотворил все господь! Но человек этого не сознает. И такой верблюд скорее пройдет через угольное ушко, чем богатый в царство небесное. – Но что же это ты все тут сидишь? Ступай, купи лист бумаги и принеси мне прошение».








