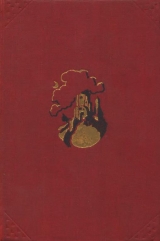
Текст книги "Немецкая романтическая повесть. Том II"
Автор книги: Иозеф Эйхендорф
Соавторы: Генрих фон Клейст,Клеменс Брентано,Ахим фон Арним
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 29 страниц)
В тот самый день, когда была назначена казнь господина Фридриха и Литтегарды, которую император, не знавший о сомнениях, возникших в груди самого графа, не считал себя в праве дольше откладывать, ратман вошел с этим письмом в комнату больного, который метался по своему ложу в мрачном отчаянии. «Довольно! – воскликнул он, прочитав письмо и получив кольцо, – я устал глядеть на солнечный свет! Достаньте мне, – обратился он к настоятелю, – носилки и проводите меня, несчастного, силы которого рассыпаются в прах, на место казни: я не хочу умереть, не выполнив дела справедливости!» Настоятель, глубоко потрясенный этим происшествием, немедленно приказал четырем служителям поднять его на носилки; и одновременно с несметной толпой людей, собравшихся по колокольному звону вокруг костра, на котором господин Фридрих и Литтегарда были уже крепко привязаны, прибыл он на место с несчастным, державшим в руке распятие. «Остановитесь! – воскликнул настоятель, приказав опустить носилки насупротив балкона императора, – раньше чем подложить огонь под костер, выслушайте слово, которое уста этого грешника должны вам открыть!» – «Как? – воскликнул император, поднявшись со своего седалища, бледный, как смерть, – разве священный божий приговор не высказался решительно за правоту его дела, и разве после того, что произошло, еще возможно думать, что Литтегарда не виновна в том преступлении, в коем он ее изобличил?» С этими словами он, пораженный, сошел с балкона; и более тысячи рыцарей, за которыми, перелезая через скамьи и загородки, последовал народ, окружили тесной толпой ложе больного. «Не виновна, – отвечал последний, причем, опираясь на настоятеля, он наполовину приподнялся, – не виновна, как то высказал приговор вышнего бога в тот роковой день перед очами всех собравшихся граждан Базеля! Ибо он, пораженный тремя ранами, из которых каждая была смертельна, цветет, как вы видите, полный сил и жизни; между тем как удар, нанесенный его рукою, который, казалось, едва коснулся верхнего покрова моего тела, в медленном грозном развитии поразил жизненное его ядро и сломил мои силы, как ураган ломает дуб. Но на случай, если у маловерного еще остаются сомнения, вот доказательство: Розалия, ее камеристка, – вот кто принял меня в ту ночь святого Ремигия, в то время как я, несчастный, в ослеплении чувств, воображал, что держу в своих объятиях ее, всегда с презреньем отвергавшую мои предложения!» При этих словах император остановился на месте, словно окаменев. Обернувшись к костру, он послал рыцаря с приказанием взобраться по лестнице и отвязать камерария и даму, которая уже лежала в обмороке в объятиях своей матери, и привести их к нему. «Видно, каждый волос на вашей главе охраняет ангел! – воскликнул он, когда Литтегарда, с полуобнаженной грудью и распущенными волосами, об руку со своим другом, господином Фридрихом, колени которого подгибались под впечатлением этого чудесного избавления, подходила к нему через окружавший их и с благоговейным изумлением расступавшийся народ. Он поцеловал в лоб их обоих, преклонивших перед ним колени, и, попросив у жены горностаевую мантилью, которая была на ней, набросил ее на плечи Литтегарды и на глазах у всех собравшихся рыцарей предложил ей руку, намереваясь сам отвести ее в покои своего императорского дворца. В то время как камерарий, в свою очередь, вместо покаянной одежды, облекался в рыцарский плащ и шляпу с пером, император снова обернулся к графу, жалостно распростертому на носилках, и, движимый чувством сострадания, так как тот выступил на погубивший его поединок не преступным и святотатственным образом, он спросил стоявшего рядом с ним врача, неужели для несчастного нет никакого спасения. «Напрасно! – отвечал Яков Рыжебородый, опираясь в ужасных судорогах на колени врача, – я заслужил смерть, которую терплю. Ибо знайте, так как рука земного правосудия меня уже не достигнет, что я убийца моего брата, благородного герцога Вильгельма Брейзахского; злодей, сразивший его стрелою из моего оружейного склада, был за шесть недель перед тем нанят мною на это дело, которое должно было доставить мне корону!» С этими словами он упал на носилки и отдал богу свою черную душу. «Ах, предчувствие моего супруга, самого герцога! – воскликнула стоявшая рядом с императором регентша, которая, также спустившись с балкона дворца, направилась в свите императрицы на дворцовую площадь, – предчувствие, которое в самое мгновенье своей смерти он мне открыл в отрывочных словах, в то время лишь плохо мною понятых!» Император в негодовании ответил: «Так пусть же рука правосудия поразит твой труп! Возьмите его, – крикнул он, обернувшись, стражникам, – и предайте немедленно палачам осужденного, каковым является он; дабы память его была заклеймена, пусть он сгинет на этом костре, на котором мы готовы были из-за него принести в жертву двух невинных!» И затем, в то время как тело несчастного, вспыхнув красноватым пламенем, было рассеяно и развеяно северным ветром по воздуху, он повел госпожу Литтегарду в сопровождении всех своих рыцарей в замок. Императорским указом он восстановил ее в правах на ее наследственную долю после отца, которою братья в их неблагородной алчности уже завладели; и уже по прошествии трех недель в Брейзахском замке была отпразднована свадьба обоих прекрасных нареченных, во время которой герцогиня, чрезвычайно обрадованная тем оборотом, какой приняло это дело, передала Литтегарде, как свадебный подарок, большую часть имений графа, конфискованных по закону. Император же после обручения повесил на шею господину Фридриху почетную цепь; и как только, покончив со своими делами в Швейцарии, он снова прибыл в Вормс, то повелел, дабы в статутах священного божественного поединка всюду, где высказывается предположение, что вина через него непосредственно обнаруживается, были вставлены слова: «если такова воля божия».
Перевод Г. Рачинского
ИОСИФ ФОН ЭЙХЕНДОРФ
ИЗ ЖИЗНИ ОДНОГО БЕЗДЕЛЬНИКА
Глава перваяКолесо отцовской мельницы снова весело зашумело и застучало, усердно звенела капель, слышалось щебетание и суетня воробьев; я сидел на крыльце, протирая глаза, и грелся на солнышке. В это время на пороге показался отец, в ночном колпаке набекрень; он уже с раннего утра возился на мельнице; подойдя ко мне, он молвил: «Ах, ты, бездельник! сидишь себе опять на солнышке, кости греешь да потягиваешься, что есть мочи, а мне одному отдуваться. Больше не стану тебя кормить. Весна на дворе, поди-ка по белу свету и сыщи себе сам хлеба на пропитание!»
«Ну, что же, пускай, – возразил я, – если я такой бездельник, пойду по свету попытать счастье». По правде говоря, мне это было по душе: недавно мне самому пришло на ум постранствовать; овсянка, всю осень и зиму так печально чирикавшая под нашим окном: «Возьми меня, возьми меня, молодец!» теперь, пригожей весенней порой, задорно и весело выкликала, сидя на дереве: «Молодец, не трусь, молодец, не трусь!»
Итак, я вошел в дом, снял со стены свою скрипку, (я очень недурно играл), отец дал мне еще на дорогу малую толику денег, и я побрел по нашему большому селу. Не без тайной радости смотрел я, как со всех сторон старые мои знакомцы и приятели выходили на работу, рыли и пахали землю сегодня, как и вчера, и так изо дня в день; а я шел куда глаза глядят» Я кричал беднягам направо и налево: «Счастливо оставаться», но никто на это не обращал внимания. А у меня на душе был сущий праздник. Когда я, наконец, вышел на широкий простор и свернул по большой дороге, я взял свою милую скрипку и принялся играть и петь:
Кому бог милость посылает,
Того он в дальний путь ведет,
Тому он чудеса являет
Средь гор, дубрав, полей и вод.
Кто век свой коротает дома,
Того не усладит рассвет;
Ему докука лишь знакома,
Заботы, люльки да обед.
Ручей проворный с гор несется,
И жаворонка трель слышна —
И я пою, когда поется,
Когда весельем грудь полна.
Бог – мой вожатый неизменный.
Кто ниспослал сиянье дня
Ручьям, полям и всей вселенной —
Тот не оставит и меня.
Тут я обернулся и вдруг вижу, подъезжает роскошная карета; верно, она ехала за мной по пятам, да я не приметил: в сердце моем все звучала песня, и оно замирало от счастья. Из кареты выглянули две знатные госпожи и стали прислушиваться к моему напеву. Одна из дам, помоложе, была настоящая красавица, а впрочем, обе они мне понравились чрезвычайно. Я замолк, а старшая приказала кучеру остановиться и с очаровательной улыбкой обратилась ко мне: «Эй, ты, веселый молодец, какие славные песни ты распеваешь!» Я, не будь дураком, сразу ответил: «Если бы мне привелось служить вашей милости, я бы спел песни и получше этих». Она продолжала: «Куда ты держишь путь в такую рань?» Мне стало стыдно, что я этого и сам хорошенько не знаю, и я отвечал задорно: «В Вену». Тут обе дамы заговорили друг с другом на чужом языке, которого я не понял. Младшая несколько раз покачала головой, а старшая все смеялась и наконец крикнула: «Эй, ты, становись на запятки, мы тоже едем в Вену!» Как описать мою радость! Я отвесил вежливый поклон, одним прыжком вскочил, куда мне было указано, кучер щелкнул бичом, и мы помчались по дороге, залитой солнцем, так что у меня ветром чуть не сорвало шляпу.
За мной уносились селения, сады и церкви, передо мной вырастали новые селения, замки и горы, под, ногами мелькали, многоцветные пашни, рощи и луга, над головой, в ясном голубом воздухе, реяли бесчисленные жаворонки, – мне стыдно было громко закричать, но в глубине души я ликовал и вертелся и прыгал на запятках, так что чуть было не уронил скрипку, которую держал под мышкой. Тем временем солнце подымалось все выше, на горизонте показались тяжелые белые облака, рожь слегка шелестела, а в воздухе и кругом на широких нивах все стихло и стало пустынно и душно; тут мне впервые вспомнилось наше село, и отец, и наша мельница, и тенистый пруд, где было так таинственно и прохладно, вспомнилось, как все это далеко, далеко от меня. И мне стало так чудно́ на душе, словно вот-вот я должен вернуться; я засунул свою скрипку за пазуху, присел на запятки и предался раздумьям, а вскоре и уснул.
Когда я открыл глаза, карета стояла под тенью высоких лип; сквозь них между колоннами виднелась широкая лестница, ведущая к роскошному замку. С другой стороны за деревьями я различал башни Вены. Дамы, верно, давно вышли из кареты. Лошадей выпрягли. Я немало испугался, увидев, что кругом никого нет, и поспешил к замку; вдруг я услыхал, как в окне наверху кто-то засмеялся.
Тут в замке пошли чудеса. Сперва я очутился в просторных прохладных сенях и стал осматриваться; вдруг я почувствовал, кто-то дотронулся до моего плеча тростью. Я живо обернулся: передо мной стоял высокий господин в парадной одежде, с широкой перевязью, шитой золотом и серебром, свисающей до самого пояса, в руке он держал жезл с посеребренным набалдашником; у господина был огромный орлиный нос, какие бывают только у знатных господ, а всей своей осанкой он смахивал на надутого индюка, расправившего свой пышный хвост; господин спросил, чего я желаю. Меня это так ошеломило, что с перепуга и от удивления я не мог слова вымолвить. Вскоре по лестницам пробежало несколько слуг; те ничего не сказали, только оглядели меня с головы до ног. Вслед за тем появилась девушка-горничная, как я потом узнал, и объявила мне без дальних слов, что я очаровательный мальчишка и господа спрашивают, не желаю ли я остаться у них в услужении – учеником у садовника. Я пощупал свой камзол; малая толика денег, которую отец, дал мне на дорогу, исчезла – бог весть, верно, я выронил их из кармана во время дорожной тряски; я только умел играть на скрипке, но господин с жезлом мимоходом уже мне объявил, что за это я не получу ни гроша. Поэтому я с замиранием сердца промолвил «да», исподтишка косясь на грозную фигуру, которая, словно маятник башенных часов, продолжала расхаживать взад и вперед и сейчас снова показалась издали во всем своем страшном и царственном величьи. Наконец пришел садовник; он стал что-то ворчать себе под нос о всяком сброде и деревенском дурачье и повел меня в сад; по пути он прочел мне целую проповедь – о том, что я должен быть всегда трезвым и работящим, не бродяжничать, не заниматься художеством, которое не кормит, и прочими пустяками; тогда из меня современем, может, что и выйдет. – Он меня еще многому поучал, только я с тех пор почти все позабыл. Да и вообще не могу понять, как со мной это приключилось, но я на все отвечал «да», – я походил на мокрую курицу. – Словом, благодаря богу, у меня теперь был кусок хлеба.
Настали для меня привольные дни: еды было вдоволь и денег в достатке на вино, да и на прочие надобности; к сожалению только у меня было немало работы в саду. Павильоны, беседки и прелестные зеленые аллеи пришлись мне также по вкусу; если бы я только мог в них по воле гулять и вести умные речи, как те господа и дамы, которые приходили сюда всякий день! Стоило только садовнику за чем-нибудь отлучиться, как я тотчас доставал короткую трубку, садился в саду и начинал придумывать разные учтивости, которыми я занимал бы прекрасную молодую госпожу, что привезла меня сюда, если бы мне довелось быть ее кавалером и с ней прогуливаться. А то бывало, в душные дни, после обеда, когда все кругом стихнет и слышно только, как жужжат пчелы, я ложился на спину и глядел, как в поднебесья плывут облака и несутся к моему родному селу, а травы и цветы чуть колышатся, и мечтал о своей госпоже; случалось не раз, что красавица проходила где-нибудь вдали, с гитарой и книгой в руках, словно ангел, тихая, высокая и прекрасная; и я хорошенько не знал, вижу ли я все это во сне или нет.
Однажды я шел на работу и, проходя мимо павильона, стал напевать песенку:
В лесу ли я блуждаю,
Бреду ли по меже,
Гляжу ли в даль без краю —
Привет я посылаю
Прекрасной госпоже.
Вдруг вижу, как в прохладном сумраке павильона, из-за полуотворенных ставен и цветов сверкнули прекрасные, юные глаза. Я так струсил, что не допел до конца песни и побежал без оглядки на работу.
Однажды вечером, – день был субботний, и я предвкушал радость наступающего праздника, – стоял я со скрипкой в руках у окна беседки и все думал о сверкающих очах; вдруг в сумерках показалась горничная девушка и приблизилась ко мне. «Вот тебе посылает моя прекрасная госпожа, чтобы ты это выпил за ее здоровье. А затем доброй ночи!» Сказав это, она проворно поставила на подоконник бутылку вина и тотчас скрылась за цветами и терновником, словно ящерица.
А я еще долго стоял, как зачарованный, перед чудесной бутылкой и не знал, что со мной творится. – Я и перед тем весело поигрывал на скрипке, ну а сейчас и подавно заиграл и запел во всю и допел до конца песню о прекрасной госпоже и многие другие песни, какие я знал, так что даже соловьи проснулись; месяц и звезды давно взошли над садом. И какая же то была чудесная ночь!
В колыбели никто не знает, что его ждет в будущем, и слепая курица нет-нет, да и клюнет зернышко; весело смеется тот, кто смеется последним; чего не ждешь, то и случается; человек предполагает, а бог располагает; так размышлял я, сидя на другой день в саду и покуривая трубку; оглядывая себя, я чуть было не подумал, что я в сущности порядочный оборванец.
С этих пор я каждое утро вставал спозаранок, раньше садовников и других рабочих, что вовсе не входило в мои привычки. В саду было чудо как хорошо. Цветы, фонтаны, кусты роз и весь сад сверкали на утреннем солнце, как золото и дорогие камни. А в высоких буковых аллеях было так тихо, прохладно и хорошо, словно в церкви, одни только птицы порхали и клевали песок. Перед замком, прямо против окон, где жила прекрасная госпожа, рос цветущий куст. Туда я приходил с раннего утра и, таясь за ветвями, украдкой заглядывал в окна, ибо показываться ей на глаза у меня нехватало духу. И тут я всякий раз видел, как прекрасная дама в белоснежном платье, разрумянившаяся и малость заспанная, подходила к раскрытому окну. Подчас она заплетала свои темные косы, скользя при том милым веселым взором по кустам в саду, подчас она подвязывала цветы, растущие под окном, или же белой рукой бралась за гитару; тогда ее волшебное пение раздавалось по всему саду, – у меня до сих нор сердце сжимается от тоски, стоит припомнить какую-либо из ее песен – ах, как давно все это было!
Так продолжалось примерно с неделю. Но однажды, когда она снова стояла у окна и кругом было тихо, злополучная муха попадает мне в нос, я начинаю отчаянно чихать и никак не могу остановиться. Она высовывается из окна и видит, как я, несчастный, притаился в кустах. Тут я устыдился и долго не приходил больше.
Наконец я снова отважился; окно, однако, было на сей раз закрыто, я прождал четыре, пять, шесть утр, сидя в кустах, но она так и не показалась. Мне это наскучило, я собрался с духом и стал каждое утро, как ни в чем не бывало, прогуливаться перед замком под всеми окнами. Однако милая, прелестная госпожа все не появлялась. В соседнем окне я стал примечать и другую даму. Я ее еще до сего времени хорошенько не разглядел. А в самом деле, она была румяна и дородна и отличалась пышностью и горделивостью – ни дать, ни взять – настоящий тюльпан. Я ей неизменно отвешивал почтительный поклон, и – было бы несправедливо утверждать противное – она меня всякий раз благодарила, кивала мне и чрезвычайно любезно подмигивала. И один лишь раз мне показалось, будто и красавица стояла у окна за занавеской и оттуда выглядывала.
Много дней прошло, а я ее все не видел. Она больше не приходила в сад, не подходила к окну. Садовник обозвал меня тунеядцем, ничто меня не радовало, собственный нос казался мне помехой, когда я смотрел на божий мир.
Как-то раз в воскресенье под вечер я лежал в саду и смотрел на синий дым моей трубки; мне было досадно, что у меня нет никакого ремесла и что мне даже завтра не с чего опохмелиться. А другие парни, тем временем, принарядились и отправились в соседнее предместье потанцовать. Стоял теплый летний день; разряженный народ мелькал между светлыми домами и бродячими шарманщиками. Я же, тем временем, сидел, словно выпь, в камышах уединенного пруда и покачивался в лодке, привязанной там; а над садом гудел вечерний звон из города, и лебеди плавно скользили по глади воды. Не могу сказать – до чего мне было грустно.
Между тем издалека до меня донеслось множество голосов, веселый говор и смех, все ближе и ближе; в зелени замелькали красные и белые шали, шляпы и перья, и вдруг вижу – по лугу, прямо на меня, движется целая гурьба молодых господ и дам из замка, и среди них обе мои дамы. Я встал и хотел удалиться, но тут старшая из прекрасных дам меня увидала. «Ах, да ведь это прямо, как на заказ, – смеясь, воскликнула она, – свези-ка нас на тот берег!» Дамы, осторожно и с опаской, вошли одна за другой в лодку, кавалеры помогали им и кичились малость своей храбростью на воде. Как только женщины уселись на боковые места, я оттолкнулся от берега. Один из молодых господ, стоявший на носу, стал незаметно раскачивать лодку. Дамы в испуге начали метаться, а иные даже закричали. Прекрасная госпожа сидела у самого края и держала в руках лилию; с тихой улыбкой смотрела она вниз, на светлые волны, стараясь коснуться их цветком: вся она, вместе с облаками и деревьями, отражалась в воде, словно ангел, плавно движущийся по темнолазурному небу.
Пока я на нее глядел, другой даме – веселой и дородной – пришло на ум попросить меня что-нибудь пропеть. Весьма изящный молодой господин в очках, сидевший рядом с ней, проворно к ней оборачивается, нежно целует ей руку и говорит: «Благодарю вас за прекрасную мысль! Народная песнь, которую сам народ поет на просторе, среди лесов и полей, это – альпийская роза на альпийской лужайке, это – душа народной души, а всякие сборники народных песен – лишь гербарии». Я же возразил, что ничего не могу спеть такого, что пришлось бы по вкусу столь высоким господам. На беду рядом со мной очутилась плутовка-горничная; оказывается, она стояла тут же с корзиной, полной чашек и бутылок, а я ее сперва вовсе и не приметил: «А разве ты не знаешь славную песенку про распрекрасную госпожу?» – заметила она. «Да, да, спой нам ее, не робей», – снова воскликнула дама. Я густо покраснел. А тут и красавица оторвала свои взоры от воды и обратила их на меня, так что меня всего проняло. Тогда я, недолго раздумывая, решился и запел полным голосом:
В лесу ли я блуждаю,
Бреду ли по меже,
Гляжу ли в даль без краю —
Привет я посылаю
Прекрасной госпоже.
Немало я сбираю
В саду моем цветов,
Венки из них свиваю
И сотни в них дум вплетаю,
И много милых слов.
Ей протянуть не смею
Ни одного цветка.
Ведь я – ничто перед нею,
И сам, как цветы, бледнею,
А в сердце моем тоска.
Я рук не покладаю,
Моя приветна речь,
И как я ни страдаю —
Я землю все копаю,
Чтоб в землю скоро лечь.
Мы причалили, господа вышли на берег, я заметил, что некоторые из молодых людей, в то время как я пел, строили разные рожи и лукаво пересмеивались и шептались с дамами на мой счет. Когда мы шли домой, господин в очках взял меня за руку и что-то мне сказал, но право, я и сам не знаю что, а дама постарше ласково на меня поглядела. Покуда я пел, моя прекрасная госпожа не подымала глаз и сейчас же ушла, не сказав ни слова.
У меня глаза были полны слез, еще когда я начал петь, а теперь, когда песня была пропета, сердце мое готово было разорваться от стыда и боли, я только сейчас понял, как она прекрасна и как я беден, осмеян и одинок на свете – и когда все скрылись в глубине сада, я не мог более сдерживать себя, бросился в траву и горько заплакал.








![Книга Русская живопись первой половины XIX века. Романтизм, академизм и бидермайер [статья] автора Елена Кукина](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)