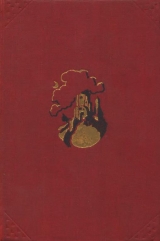
Текст книги "Немецкая романтическая повесть. Том II"
Автор книги: Иозеф Эйхендорф
Соавторы: Генрих фон Клейст,Клеменс Брентано,Ахим фон Арним
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
Это происшествие, глубоко устыдившее Николо, пробудило в груди несчастного жгучую ненависть к Эльвире; ибо ее считал он виновной в оскорблении, которое всенародно нанес ему старик. Много дней Пиаки не говорил с ним ни слова; но, так как Николо, по причине оставленного Констанцией наследства, все же нуждался в его расположении и услугах, то он и был вынужден однажды вечером, с видом раскаянья схватив руку старика, обещать ему, что он бесповоротно и навсегда порывает с Ксавьерой. Но он не намерен был держать это обещание. Более того сопротивление, которое ему оказывалось, лишь увеличивало его упорство и научало его обходить искусно бдительность стариков. Вместе с тем Эльвира никогда не казалась ему прекраснее, чем в тот миг, когда, к его позору, она приоткрыла дверь в его комнату, где была девушка, и тотчас же затворила. Негодование, зажегшее легким румянцем ее щеки, сообщило бесконечную прелесть ее кроткому лицу, лишь редко оживляемому сильными чувствами; ему казалось невероятным, чтобы она сама, при стольких соблазнах, не вступила на тот путь, на котором он так позорно был ею наказан, срывая цветы, растущие на нем. Он горел желаньем оказать ей в глазах старика ту же услугу, что и она оказала ему, и только ждал и искал случая, чтобы намерение это привести в исполнение.
Однажды, как раз в такое время, когда Пиаки не было дома, он проходил мимо комнаты Эльвиры и, к своему удивлению, услышал, что там говорили. Охваченный внезапной коварной надеждой, приник он зрением и слухом к замочной скважине, и – о небо! – что увидел он? В восторженном самозабвении лежала она у чьих-то ног, и, если он не мог видеть человека, все же он вполне явственно слышал, как она с любовью прошептала имя: Колино. С бьющимся сердцем он приник к окну в коридор, откуда, не выдавая своего намерения, он мог наблюдать вход в ее комнату, и, когда раздался слабый шум отодвигаемой задвижки, он уже решил, что наступает неоценимый миг и что он сможет сорвать личину с притворщицы, но вместо незнакомца, которого он ожидал увидеть, вышла Эльвира, никем не сопровождаемая, с равнодушным и спокойным взглядом, которым она издали окинула его. Она несла подмышкой кусок полотна, вытканного ею самою, и, заперев комнату на ключ, который сняла с пояса, в полном спокойствии стала спускаться по лестнице, держась рукой за перила. Это притворство, это кажущееся равнодушие, казалось ему верхом дерзости и хитрости; как только она скрылась из его глаз, он подыскал ключ и, тревожно осмотревшись кругом, тихо отпер дверь в ее покой. Но как удивился он, найдя его пустым и во всех четырех углах, которые обыскал он, не обнаружив ничего, что хоть немного походило бы на человека, кроме разве висевшего в углублении стены за красной шелковой занавесью и освещенного особым светом портрета, на котором изображен был во весь рост молодой рыцарь. Николо испугался, сам не зная почему, и множество мыслей промелькнуло в его уме при виде больших глаз портрета, неподвижно смотревших на него; но прежде чем он собрал свои мысли и привел их в порядок, его охватил страх, что Эльвира найдет его и накажет; он в немалом замешательстве запер дверь и скрылся.
Чем больше он думал об этом странном обстоятельстве, тем большую важность приобретал для него портрет, обнаруженный им, и тем жгучей и болезненней становилось желание узнать, кто на нем изображен. Ибо он видел все очертание ее коленопреклоненного тела, и было слишком явно, что тот, перед кем она простиралась на коленях, и был юный рыцарь с портрета. В тревоге, завладевшей его душой, отправился он к Ксавьере Тартини и рассказал ей о странном событии, случившемся с ним. Ксавьера, сходившаяся с ним в желании погубить Эльвиру, – ибо все препятствия, которые они встречали на своем пути, исходили от нее, – выразила желание взглянуть на портрет, находившийся в ее комнате. Ибо она могла похвалиться обширными знакомствами среди итальянской знати, и если тот, о ком шла речь, хоть раз посетил Рим и обладал хоть некоторой известностью, то она могла надеяться, что знает его. Вскоре и случилось так, что супруги Пиаки, собиравшиеся навестить родственников, в одно воскресенье уехали за город, и Николо, как только узнал, что поле действий свободно, сразу поспешил к Ксавьере и привел ее, вместе с ее маленькой дочерью от кардинала, в комнату Эльвиры, под предлогом, что это – иностранка, желающая осмотреть картины и вышивки. Но как смущен был Николо, когда маленькая Клара (так звали девочку), только он приподнял занавесь, воскликнула: «Боже мой! Синьор Николо! Кто же это, как не вы?» Ксавьера молчала. В самом деле портрет, чем дольше она смотрела на него, обнаруживал поразительное сходство с Николо, особенно, когда она, насколько позволяла память, представляла его себе в рыцарском одеянии, в котором несколько месяцев назад он был вместе с нею на карнавале. Николо, отшучиваясь, пытался прогнать внезапный румянец, разлившийся по его щекам; он произнес, целуя девочку: «Право же, милая Клара, портрет так же походит на меня, как ты на того, кто считает себя твоим отцом». Но Ксавьера, в груди которой зашевелилось горькое чувство ревности, окинула его взглядом; став перед зеркалом, она сказала, что, в конце концов, безразлично, кто этот рыцарь, простилась довольно холодно и покинула комнату.
Николо, как только Ксавьера удалилась, пришел в сильное возбуждение от происшедшего. Он с немалой радостью вспоминал о том странном и глубоком потрясении, в которое он поверг Эльвиру своим фантастическим появлением ночью. Мысль, что он пробудил страсть в этой женщине, прославленной, как пример добродетели, льстила ему почти столько же, сколько и страстная надежда отомстить ей, а так как он видел, что становится возможным одним ударом удовлетворить оба вожделения, то он и начал с великим нетерпением ожидать возврата Эльвиры и того часа, когда, взглянув ей в глаза, он сможет увенчать уверенностью свою колеблющуюся надежду. Ничто не нарушало его упоения, кроме воспоминания о том, что именем Колино называла Эльвира портрет, на коленях перед которым застал он ее, подслушивая в замочную скважину; но в самом звуке этого мало употребительного во всей местности имени, было нечто, погружавшее его сердце в сладкие сны (он сам не мог понять, почему), и стоя перед необходимостью – заподозрить одно из своих чувств – зрение или слух, – он склонен был дать веру тому из них, которое наиболее льстило его надеждам.
Меж тем Эльвира вернулась в город лишь по прошествии нескольких дней, а так как из дома своего двоюродного брата, которого она ездила навещать, привезла она с собой молодую родственницу, желавшую посетить Рим, и была поглощена заботами о ней, то на Николо, который весьма приветливо помог ей сойти из кареты, бросила она только беглый, ничего не говорящий взгляд. Несколько недель, посвященных принимаемой ими гостье, прошли в суете, необычной в их доме; по городу и окрестностям совершались прогулки в разные места, которые могли быть примечательны для молодой и жизнерадостной девушки, какой была гостья; в душе Николо, которого не приглашали на эти прогулки по причине его занятий в конторе, снова проснулось сильнейшее нерасположение к Эльвире. Он снова стал вспоминать с самым горьким и мучительным чувством о незнакомце, которому втайне посвящала она свое поклонение, и чувство это особенно сильно терзало его ожесточившееся сердце в вечер после страстно жданного отъезда юной родственницы, когда, Эльвира, вместо того, чтобы побеседовать с ним, молча просидела целый час за столом в столовой, занятая незначительным женским рукоделием. Случилось, что Пиаки за несколько дней перед этим велел отыскать шкатулку с маленькими буквами из слоновой кости, при помощи которых Николо обучали в детстве и которые старику пришло в голову подарить соседскому ребенку, так как они больше никому не были нужны. Служанка, которой поручено было отыскать их среди многих других старых вещей, смогла найти всего шесть букв, составлявших имя Николо – должно быть, потому что остальные, не имевшие для мальчика никакого значения, не берегли и как-нибудь выбросили. Когда Николо, после того как они уж несколько дней пролежали на столе, взял их теперь в руку и, облокотившись на стол, погруженный в мрачные мысли, играл ими, он открыл совершенно нечаянно, – ибо он удивился так, как никогда не удивлялся в жизни, – сочетание их, которое образует имя: Колино. Николо, которому это логогрифическое свойство его имени не было знакомо, снова охваченный безумной надеждой, бросил неуверенный и пугливый взгляд на сидевшую возле него Эльвиру. Совпадение, которое, как оказывалось, сближало эти два слова, представилось ему больше чем простой случайностью; подавив свою радость, пытался он взвесить значение этого необыкновенного открытия и, сняв руки со стола, с замиранием сердца ждал того мига, когда Эльвира подымет глаза от работы и увидит сочетание, составленное из букв. Ожидание, в котором он находился, не обмануло его; ибо не успела Эльвира в перерыве работы заметить расставленные буквы и беспечно и бездумно наклониться над ними, чтобы прочесть (она была несколько близорука), как она окинула лицо глядевшего на них с деланным равнодушием Николо каким-то особенно удрученным взглядом, с печалью, которую невозможно описать, снова принялась за свою работу и, как ей казалось, незамеченная им, слегка покраснела, роняя слезу за слезой. Николо, который, не глядя на нее, следил за движениями ее души, не сомневался более в том, что за этой перестановкой букв она скрывает его имя. Он увидел, как она легким движением вдруг смешала буквы, и его дикие надежды достигли вершины уверенности, когда она поднялась, отложила работу и скрылась в спальню. Уже хотел он встать и последовать за нею, как вошел Пиаки и на обращенный к служанке вопрос: «где Эльвира?» получил в ответ, что ей не по себе и что она легла в постель. Пиаки, не выказывая сильного замешательства, повернулся и пошел взглянуть, что с нею; а когда он через четверть часа вернулся с известием, что она не выйдет к столу, и больше не проронил о ней ни слова, то Николо решил, что ключ ко всем загадочным выходкам, которые ему пришлось наблюдать, найден.
На другое утро, когда с позорной радостью размышлял он о той пользе, какую надеялся извлечь из этого открытия, он получил от Ксавьеры записку, в которой она просила его зайти к ней, так как имела сообщить ему нечто касающееся Эльвиры и любопытное для него. Ксавьера, через посредство епископа, содержавшего ее, находилась в теснейшей связи с монахами кармелитского монастыря, а так как Эльвира ходила к исповеди в этот монастырь, то он не сомневался, чтобы Ксавьера не могла выпытать повесть ее сердечных тайн, которая подтвердила бы его преступные надежды. Но как тягостно было его разочарование, когда Ксавьера после лукавого приветствия улыбаясь усадила его на диван рядом с собой и сказала, что предмет любви Эльвиры, как она должна ему открыть, – покойник, двенадцать лет уже спящий в гробу. Алоизий, маркиз Монферрат, получивший от дяди своего, у которого воспитывался он в Париже, к прочим именам своим имя Коллен, в шутку переделанное потом на итальянский лад в Колино, и был оригинал портрета, обнаруженного в комнате Эльвиры за красной шелковой занавесью, тот юный генуэзский рыцарь, который в дни ее детства так отважно спас ее из огня и умер от полученных ран. Она прибавила, что просит в дальнейшем не делать употребления из этой тайны, ибо она доверена была ей особой из кармелитского монастыря, которая собственно и не имела на то права. Николо, меж тем как бледность и краска румянца сменялись на его лице, уверял ее, что ей нечего опасаться, и, не будучи в состоянии скрыть от лукавых взоров Ксавьеры замешательство, в которое его повергло это открытие, сослался на дела, которые призывают его, взял шляпу (верхнюю губу его безобразно при этом подергивало), откланялся и вышел.
Стыд, сладострастие и жажда мести соединились теперь, чтобы замыслить отвратительнейшее деяние, совершенное когда-либо. Он сознавал, что путь к чистой душе Эльвиры может быть найден лишь обманом; и не успел Пиаки отправиться на несколько дней за город, оставив свободным поле действий, как он уже принял меры, чтобы осуществить сатанинский замысел, возникший в его уме. Он достал себе снова то же самое одеяние, в котором несколько месяцев тому назад, возвращаясь тайком в ночную пору с карнавала, явился он Эльвире, и, надев генуэзского покроя плащ, колет и шляпу с пером, подобно тому, как все это было изображено на портрете, прокрался в комнату Эльвиры незадолго до ее отхода ко сну, завесил черной тканью стоявший в нише портрет и, с жезлом в руке, в позе нарисованного юного патриция, стал ожидать часа молитв Эльвиры. Он не ошибся в проницательном расчете своей постыдной страсти, ибо не успела Эльвира, вскоре затем вошедшая в комнату, по своему обыкновению, спокойно и тихо раздевшись, отдернуть шелковую занавесь, скрывавшую нишу, и увидеть Николо, как она воскликнула: «Колино! мой любимый!» и без чувств упала на пол. Николо выступил из ниши; он простоял один миг, погруженный в созерцание ее прелестей, всматриваясь в ее нежное, от поцелуя смерти побледневшее лицо, но тотчас же, ибо нельзя было терять время, поднял ее на руки и, сорвав с портрета черную занавесь, снес Эльвиру на стоявшую в углу постель. Когда это было сделано, хотел он запереть дверь на ключ, но нашел ее уже запертою, и в уверенности, что и по возвращении Эльвире ее помутившихся чувств она не станет сопротивляться чудесному, неземной силой явленному ей видению, он вернулся к ложу, пытаясь пробудить ее горячими поцелуями в уста и грудь. Но Немезиде, по пятам преследующей злодейство, угодно было, чтобы Пиаки, которого полагал он уехавшим на несколько дней, неожиданно в тот самый час вернулся домой; думая, что Эльвира, уже спит, тихо прошел он по коридору, а так как ключ всегда имел при себе, то ему удалось сразу, без малейшего шума, который предупредил бы о его приближении, войти в комнату. Николо стоял, словно пораженный громом, и так как его проделку нельзя было скрыть, то он бросился к ногам старика и стал молить о прощении, клянясь никогда больше не подымать взоров к его жене. Старик и сам был склонен к тому, чтобы без шума покончить это дело; безмолвный, каким его сделали несколько слов Эльвиры, очнувшейся в его объятиях и бросившей страшный взгляд на Николо, он, задернув полог постели, на которой почивала она, только снял плеть со стены, открыл перед Николо дверь и указал ему на дорогу, по которой ему сейчас же предстояло итти. Но тот, ничуть не уступая Тартюфу, сразу увидал, что на этой дороге ему нечего ждать, поднялся с пола и объявил, что не он, а старик должен оставить дом, ибо он, введенный во владение документами, имеющими полную силу, хозяин здесь и сумеет защитить свои права от кого бы то ни было. – Пиаки не верил ушам своим; словно обезоруженный этой неслыханной наглостью, он отложил плеть, схватил шляпу и трость, бросился мигом к своему старому поверенному, доктору Валерио, разбудил звонком служанку, которая отворила ему, и, только достигнув комнаты доктора, еще не успев произнести ни слова, упал без чувств у его постели. Доктор, в своем доме давший приют ему, а потом и Эльвире, на другое же утро бросился требовать ареста адского злодея, который на своей стороне имел немало преимуществ; но меж тем как Пиаки своими немощными усилиями пытался лишить Николо владения, укрепленного за ним, тот поспешил с описью всего имущества к своим друзьям монахам-кармелитам, призывая их защитить его от старого дурака, который хочет лишить его всего владения. Когда же Николо выразил желание жениться на Ксавьере, от которой хотел избавиться епископ, злодейство восторжествовало, и правительство, по настоянию этой духовной особы, издало приказ, которым Николо утверждался во владении, а Пиаки предписывалось не докучать ему.
Пиаки только накануне похоронил несчастную Эльвиру, умершую от горячки, которая вызвана была происшедшим. Возбужденный двойным своим горем, с приказом в кармане, пошел он в свой дом и с силой, какую придавала ему ярость, повалил слабого от природы Николо и размозжил ему голову об стену. Слуги, находившиеся в доме, заметили его не раньше как это совершилось; они нашли его, когда он, зажав голову Николо меж колен, засовывал ему в рот приказ. Покончив с ним, он поднялся, отдал все свое оружие, был отведен в тюрьму, подвергнут допросу и осужден кончить жизнь в петле.
В папской области существует закон, по которому ни один преступник не может быть отведен на казнь, прежде чем он не получит отпущения. Пиаки, когда ему был прочитан приговор, упорно отказался принять отпущение. Когда все, чем располагает религия, было тщетно испробовано, чтобы дать ему почувствовать, сколь достойно кары его деянье, рассчитывали хоть видом смерти вызвать в нем раскаянье и привели его к виселице. Здесь стоял священник, который, словно трубным глаголом последнего суда, стал вещать ему все ужасы ада, куда должна низвергнуться его душа, а там другой, вознося в руках тело господне, святое средство искупления, славил обители вечного покоя. «Хочешь ли стать причастен благости искупления? – спрашивали его они оба. – Хочешь ли вкусить причастия?» – «Нет», – отвечал Пиаки. – «Почему?» – «Я не хочу блаженства. Я хочу опуститься на глубочайшее дно ада. Я хочу найти Николо, который не будет на небе, и довершить мою месть, которую здесь я не смог довести до полного конца». И с этим он поднялся на лестницу и потребовал, чтобы палач исполнил свою обязанность. Тогда были вынуждены отложить казнь и обратно отвести в тюрьму несчастного, которого закон брал под защиту. Три дня подряд делали те же попытки, и все с тем же успехом. Когда же и на третий день снова, вместо того, чтобы, остаться на виселице, должен был он сойти с лестницы, он в злобе воздел руки, проклиная бесчеловечный закон, не пускавший его в ад. Он стал призывать к себе весь сонм бесов, чтобы они его взяли, клянясь, что его единственное желание – казнь и вечное осуждение, что он схватит за горло первого встречного священника, лишь бы только получить Николо в свою власть. Когда папе доложили об этом, он приказал казнить его без отпущения; священник не сопровождал его; на площади del Popolo вздернули его в полной тишине.
Перевод А. Федорова
СВЯТАЯ ЦЕЦИЛИЯ, ИЛИ ВЛАСТЬ МУЗЫКИ
Легенда
В последние годы шестнадцатого столетия, когда иконоборчество свирепствовало в Нидерландах, три брата, молодые люди, обучавшиеся в Виттенберге, встретились в городе Аахене с четвертым, который был поставлен проповедником в Антверпене. Они прибыли, чтобы получить наследство, доставшееся им от старого, всем им незнакомого дяди, и остановились в гостинице, так как в этом городе не было никого, к кому они могли бы обратиться. По прошествии нескольких дней, которые они провели в том, что слушали рассказы проповедника об удивительных выступлениях, имевших место в Нидерландах, случилось, что монахини монастыря св. Цецилии, который в те времена находился у ворот этого города, готовились торжественно справлять праздник тела христова; ввиду этого четыре брата, воспламененные фанатизмом, молодостью и примером нидерландцев, решили доставить и городу Аахену зрелище иконоборческого выступления. Проповедник, уже не раз руководивший подобными предприятиями, собрал накануне вечером некоторое число молодых преданных новому учению купеческих сыновей и студентов, которые провели ночь в гостинице за вином и едою, проклиная папизм; и когда над крышами города занялась заря, они вооружились топорами и всякого рода орудиями разрушения, дабы приступить к своему буйному делу. Они, ликуя, сговорились относительно сигнала, по которому предположено было начать с того, чтобы вышибить оконные стекла, расписанные библейскими сюжетами, и, уверенные в значительном числе сторонников, которых найдут среди народа, они, решившись не оставлять камня на камне, отправились в собор в тот час, когда зазвонили колокола. Игуменья, которая уже на рассвете была извещена доброжелателем об опасности, грозившей монастырю, напрасно посылала несколько раз к императорскому офицеру, командовавшему в городе, прося для охраны монастыря стражу; офицер, который сам был враг папства и, как таковой, по крайней мере тайно, был расположен к новому учению, нашел возможность отказать ей в страже под благовидным предлогом, что ей мерещутся пустые страхи и что ее монастырю не грозит ни тени опасности. Тем временем наступил час, когда торжество должно было начаться, и монахини среди страха и молитв и горестного ожидания предстоящих событий стали готовиться к обедне. Никто их не защищал, кроме старого семидесятилетнего монастырского кастеляна, который с несколькими вооруженными слугами стал у входа в церковь.
В женских монастырях монахини, обученные игре на всякого рода инструментах, как известно, сами исполняют свои музыкальные номера, часто с отчетливостью, разумом и чувством, каких недостает в мужских оркестрах (может быть, по причине женственного характера, присущего этому таинственному искусству). Тут к усугублению беды случилось, что капельмейстер, сестра Антония, которая обычно управляла оркестром, за несколько дней перед тем жестоко захворала нервной горячкой; так что помимо угрозы со стороны четырех братьев-богохульников, которых уже видели закутанных в плащи под сводами храма, монастырь находился в крайнем смущении по поводу исполнения подобающего музыкального произведения. Игуменья, которая в вечер предыдущего дня приказала, чтобы была исполнена одна старинная итальянская месса, творение неизвестного мастера, производившая, благодаря особливой святости и великолепию своей композиции, сильнейшее действие в исполнении капеллы, послала, более чем когда-либо настаивая на своем желании, еще раз к сестре Антонии, чтобы узнать, как та себя чувствует; однако монахиня, которая взялась за это поручение, вернулась с известием, что сестра лежит в совершенно бессознательном состоянии и что нечего и думать о ее дирижировании предполагаемым музыкальным исполнением. Тем временем у собора, в котором мало-помалу собралось более сотни вооруженных топорами и ломами святотатцев всякого состояния и возраста, уже произошли самые серьезные выступления; некоторых слуг, которые стояли у порталов, задели самым непристойным образом и допустили самые дерзкие и наглые выражения по отношению к монахиням, которые время от времени, при исполнении благочестивых обязанностей, показывались в одиночку в проходах; в такой мере, что монастырский кастелян отправился в ризницу и на коленях заклинал игуменью отменить празднество и удалиться в город под защиту коменданта. Но игуменья непоколебимо настаивала на том, что празднество, установленное в честь господа бога, должно состояться; она напомнила монастырскому кастеляну его обязанность защищать, не щадя живота своего, мессу и торжественный крестный ход, который должен был быть совершен в соборе, и приказала, так как только что прозвонил колокол, монахиням, которые в страхе и трепете ее окружали, взять любую ораторию любого достоинства и положить начало исполнением ее.
Монахини уже собрались на хорах у органа; партитура одного музыкального произведения, которое уже часто исполнялось, была роздана, скрипки, гобои и басы были испробованы и настроены, как вдруг сестра Антония, бодрая и здоровая, немного бледная в лице, появилась со стороны лестницы; она несла подмышкой партитуру старинной итальянской мессы, на исполнении которой так упорно настаивала игуменья. На изумленный вопрос монахинь, откуда она пришла и как это она так внезапно оправилась, она отвечала: «Нужды нет, подруги, нужды нет!», раздала партитуру, которую она с собою несла, а сама села, пылая вдохновением, за орган, чтобы взяться за дирижирование этим превосходным музыкальным произведением. Тут снизошло как бы дивное небесное утешение на сердца благочестивых жен; они мгновенно стали со своими инструментами за пульты; самое волнение, в котором они находились, способствовало тому, чтобы пронести их души, как на крыльях, через все небеса гармонии; оратория была выполнена с высочайшим и чудеснейшим музыкальным великолепием; ни одного вздоха не пронеслось во время всего исполнения в пролетах и на скамьях; особенно во время Salve regina[6]6
Радуйся, царица. М. П.
[Закрыть] и еще более во время Gloria in excelsis[7]7
Слава в вышних. М. П.
[Закрыть] казалось, словно весь народ в церкви замер, так что к досаде четырех богом отверженных братьев и их сторонников даже пыль с пола не развеялась, и монастырь простоял до конца Тридцатилетней войны, когда в силу одного из параграфов Вестфальского мира он все же был секуляризован.
Шесть лет спустя, когда это происшествие давно забылось, приехала мать этих четырех юношей из Гааги и, с грустью сославшись на то, что об них окончательно нет никаких вестей, возбудила перед Аахенским магистратом судебное расследование о том пути, который они могли избрать, отправившись отсюда. Последнее известие, которое об них имели в Нидерландах, откуда они были родом, было, как она сообщила, письмо, написанное ранее указанного срока, накануне праздника тела христова, проповедником к его другу, школьному учителю в Антверпене, в котором он с большой веселостью, или, вернее, развязностью делает на четырех тесно исписанных страницах предварительное сообщение о некоем предприятии, задуманном против монастыря святой Цецилии, о чем, однако, мать не хотела более подробно распространяться. После различных напрасных стараний обнаружить тех лиц, которых искала опечаленная женщина, вспомнили, наконец, что уже в течение целого ряда лет, приблизительно совпадавших с указанным сроком, четыре молодых человека, родина и происхождение которых было неизвестно, находились в недавно учрежденном заботами императора городском доме умалишенных. Однако то, что они страдали извращением религиозной идеи и что их настроение, как суд, по его словам, смутно слышал, было крайне унылым и меланхоличным, чересчур мало подходило к, увы, слишком хорошо знакомому матери душевному строю ее сыновей, чтобы она обратила большое внимание на это сообщение, особенно же потому, что почти выяснилось, будто эти люди были католики. Тем не менее, странным образом пораженная различными приметами, по каким их описывали, она в один прекрасный день отправилась в сопровождении судебного пристава в дом умалишенных и попросила заведующих любезно разрешить ей для проверки посещение тех четырех несчастных сумасшедших, которые там содержались. Но кто опишет ужас бедной женщины, когда тотчас же, с первого взгляда, едва переступив порог, она узнала своих сыновей! Они сидели в длинных черных рясах вокруг стола, на котором стояло распятие, и, молча опершись на доску сложенными руками, казалось, молились на него. На вопрос женщины, которая, лишившись сил, опустилась на стул, что собственно они делают, заведующие отвечали ей, что они заняты исключительно прославлением Спасителя, о котором, по их уверению, они лучше, чем другие, постигли, что он воистину сын единого бога. Они добавили, что юноши вот уже шесть лет ведут такой духовный образ жизни, что они мало спят и мало едят, что ни один звук не исходит из их уст, что они лишь однажды в полуночный час подымаются со своих седалищ и что тогда голосами, от которых окна в доме готовы разлететься вдребезги, они затягивают Gloria in excelsis. Заведующие закончили уверением, что молодые люди при этом телесно совершенно здоровы, что им нельзя отказать в известной, хотя и очень серьезной и торжественной, ясности духа; что они, когда их называли умалишенными, с сожалением пожимали плечами и уже многократно высказывали, что если бы славный город Аахен знал то, что знают они, то отложил бы свои дела в сторону и также преклонился бы перед распятием для воспевания Gloria.
Женщина, не будучи в состоянии вынести ужасающего вида этих несчастных, вскоре затем, едва держась на ногах, дала себя отвести домой и утром следующего дня отправилась, чтобы получить сведения о ближайшей причине, вызвавшей это чудовищное происшествие, к господину Фейту Готгельфу, знаменитому торговцу сукном в этом городе; ибо об этом человеке упоминалось в написанном проповедником письме, из которого вытекало, что он принимал горячее участие в предполагавшемся разрушении монастыря св. Цецилии в день праздника тела христова. Фейт Готгельф, торговец сукном, который тем временем женился, народил несколько детей и взял в свои руки значительную торговлю отца, принял чужеземку весьма любезно, и когда он узнал, какое обстоятельство ее к нему привело, то запер дверь и, усадив ее на стул, заговорил следующим образом: «Сударыня! если вы меня, который с вашими сыновьями, тому назад шесть лет, находился в тесной связи, не намерены запутать из-за этого ни в какое следствие, то я готов вам чистосердечно и без утайки сознаться: да, мы имели намерение, о котором упоминается в письме. Но благодаря чему это дело, для исполнения которого все точнейшим образом и, поистине, с безбожным остроумием было рассчитано, потерпело крушение, – для меня непонятно; само небо, кажется, взяло под свое святое покровительство монастырь благочестивых жен. Ибо знайте, что ваши сыновья уже позволили себе, как введение к более решительным выступлениям, несколько дерзких, нарушающих богослужение шалостей, более трехсот вооруженных топорами и смоляными венками злодеев из стен нашего, тогда введенного в заблуждение, города ожидали лишь сигнала, который должен был подать проповедник, чтобы сравнять собор с землею. Между тем при начале музыки ваши сыновья, к нашему изумлению, внезапным и одновременным движением снимают шляпы; мало-по-малу, как бы в глубоком несказанном волнении, они закрывают склоненные лица руками; и проповедник, внезапно обернувшись после потрясающей паузы, призывает нас всех громким, страшным голосом также обнажить головы! Напрасно некоторые товарищи требуют от него шопотом, легкомысленно подталкивая его руками, чтобы он подал сигнал, условленный для иконоборческого погрома; вместо ответа, проповедник опускается со сложенными крестообразно на груди руками на колени и бормочет вместе с братьями, набожно склонив чело в прах, весь ряд еще недавно перед тем осмеянных им молитв; до глубины души смущенная этим зрелищем, стоит толпа жалких фанатиков, лишенная своих вождей, в нерешительности и бездействии до конца оратории, дивно изливавшейся с высоты хор; и так как, по приказанию коменданта, было произведено несколько арестов и некоторые святотатцы, дозволившие себе бесчинства, были схвачены и уведены стражей, то жалкому скопищу ничего не оставалось, как, скрываясь в густой толпе расходившегося народа, поспешно удалиться из божьего дома. Вечером, после того как я напрасно несколько раз справлялся в гостинице о ваших сыновьях, которые не возвращались, я снова в ужасном беспокойстве с несколькими друзьями иду за ворота к монастырю, дабы разузнать о них у привратников, которые пришли на помощь императорской страже. Но как описать вам мой ужас, благородная женщина, когда я увидел этих четырех мужей, как и раньше со сложенными руками, прильнувших к земле грудью и лбом, словно окаменевших, полных горячего благочестия и распростертых перед алтарем! Напрасно подошедший в это время монастырский кастелян, дергая их за плащи и тряся их за руки, предлагает им покинуть собор, в котором наступил уже полный мрак и не оставалось ни одного человека; наполовину приподнявшись, как бы погруженные в грезы, они покоряются ему только тогда, когда он велит своим слугам взять их под руки и вывести за портал; тут они, наконец, последовали за нами в город, хотя и со вздохами и частым душу раздирающим оглядыванием на собор, великолепно сверкавший позади нас в блеске солнца. Мы с друзьями спрашиваем их на обратном пути несколько раз нежно и любовно, что за ужас с ними приключился, который до такой степени перевернул их внутренний душевный строй; они, ласково глядя на нас, пожимают нам руки, смотрят задумчиво в землю и, ах! утирают время от времени слезы из глаз с выражением, которое еще до сих пор раздирает мне сердце. Затем, прибыв на свою квартиру, они связывают искусно и изящно крест из березовых сучьев и ставят его, втиснув в маленький восковой холм, на большой стол посреди комнаты между двумя свечами, с которыми появляется служанка, и в то время как друзья, толпа которых час от часу возрастает, стоят рядом, ломая руки, и, разбившись на группы, безмолвные от горя, глядят на их тихое жуткое колдовское действо, они, словно их чувства замкнуты для всякого другого явления, опускаются вокруг стола и тихо, со сложенными руками, приступают к молитвенному поклонению. Ни в пище они не нуждаются, которую приносит служанка для угощения их товарищей, согласно их распоряжению, отданному еще утром, ни позднее, с наступлением ночи, – в ложе, которое, видя их усталость, она постелила для них в соседней комнате; друзья, дабы не возбуждать негодования хозяина, которого это представление неприятно изумляет, должны усесться за стол, пышно рядом накрытый, и есть приготовленные для многочисленного общества кушанья, приправленные солью их горьких слез. Тут внезапно часы бьют полночь; ваши четыре сына, прислушавшись на одно мгновенье к звуку колокола, вдруг подымаются одновременным движением со своих мест; и в то время как мы, положив салфетки, следим за ними в беспокойном ожидании, что последует за этими странными и необычными действиями, они ужасными, отвратительными голосами затягивают Gloria in excelsis.









![Книга Русская живопись первой половины XIX века. Романтизм, академизм и бидермайер [статья] автора Елена Кукина](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)