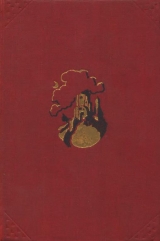
Текст книги "Немецкая романтическая повесть. Том II"
Автор книги: Иозеф Эйхендорф
Соавторы: Генрих фон Клейст,Клеменс Брентано,Ахим фон Арним
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 29 страниц)
Клейст
(1777—1811)
Генрих фон Клейст происходил из старой дворянской семьи, традиционно связанной с прусскими военными кругами. Уже в 1792 г. Клейст вступает в армию ефрейтором, принимает участие в войне с революционной Францией, а в 1793 вместе со своим батальоном находится при осаде Майнца. В 1799 г. Клейст уходит с военной службы и более к ней не возвращается. Он озабочен своим образованием: посещает университет в родном Франкфурте на Одере, изучает математику, философию, древние языки.
В 1800 г. он поступает в Берлине на штатскую службу, в департамент акцизов и таможенных сборов. Знакомится с прусской экономикой. В том же году объезжает индустриальные города Саксонии, осматривает фабрики и заводы. В 1801—1804 гг. Клейст странствует по Франции, по Швейцарии. Он впервые испытывает свои силы поэта (Трагедии Семейство Шроффенштейн, Роберт Гискар), сомневается в них, не может выбрать жизненное призвание. В 1804 г. Клейст снова появляется в Берлине, затем получает назначение в Кенигсберг. Здесь, в городе Канта он встречается с усердными кантианцами (философ Круг, муж бывшей невесты Клейста Вильгельмины), с приверженцами буржуазной политической экономии (профессор Крауз, пропагандист учения Адама Смита).
Политические дела Пруссии становятся основным содержанием помыслов Клейста. В 1806 г. старое прусское государство было разгромлено и унижено Наполеоном. Клейст начинает яростную антифранцузскую кампанию. В 1808 г. в Дрездене он вместе с Адамом Мюллером издает журнал Phöbus, предназначенный для пропаганды национальных идей. Подписные листы рассылаются по немецким посольствам: по одному экземпляру журнала на веленевой бумаге должны были получить все немецкие князья. Журнал был встречен равнодушно. К марту 1809 г. он более не существовал. Клейст напечатал в нем повесть Михаэль Кольхаас (ее первую треть), отрывки из трагедии Пентезилея, Кетхен из Гейльбронна, Роберт Гискар, из комедии Разбитый кувшин и, наконец, новеллу Маркиза О…
Это был год лихорадочной работы; в том же 1808 г. Клейст успел написать патриотическую трагедию Побоище Арминия. В переводе на язык древних отношений – отношений между германцами времен Арминия и римлянами-победителями – Клейст инсценирует политическую современность, призывает к свирепой народной расправе над новыми римлянами, над войсками императора французов.
Во время австро-французской войны Клейст разъезжает по немецким городам, агитирует везде, где может, за поголовное национальное восстание. Он проектирует новый политический журнал Германия, и для этого журнала у него уже приготовлены зажигательные материалы: политические филиппики, сатиры, прокламации.
В 1810 г. Клейст снова в Берлине. Им написан Принц Фридрих Гомбургский – последнее его драматическое произведение, и в этом же году он снова предается боевой патриотической журналистике, как издатель Берлинского вечернего листка (Berliner Abendblätter).
Ввиду неладов с министерством Клейст вынужден весной 1811 г. прекратить свою работу публициста. Он глубоко недоволен международным положением Германии, прочностью европейской диктатуры Наполеона. Его последние драматические произведения не напечатаны. Тем, что было напечатано, он не добился внимания современников. Немецкие театры закрыты для его драматургии: ее считают громоздкой и чудовищной, не отвечающей требованиям сцены. Клейст омрачен, он остался один, без сочувствия и без дела.
Конец Клейста – трагичен и жалок. 20 ноября 1811 г. в трактире близ Берлина Клейст застрелился вместе с Генриеттой Фогель, своей истерической знакомой, по отзыву Арнима – «старой и некрасивой».
Смерть Клейста вызвала шум в Германии. Берлинская газета уверяла, что катастрофа с Клейстом есть следствие сумасбродного направления романтической литературы.
Политический характер писаний Клейста столь очевиден, что вопрос о его социальных и политических позициях занимал даже немецких буржуазных литературоведов. Мы видим это в работах Рейнгольда Штейга (Kleists Berliner Kämpfe, 1901) и Генриха Бекса (Kleists Politische Anschauungen, 1930), резко расходящихся между собой. Штейг трактует Клейста как законченного дворянского консерватора, Бекс – как кантианца-либерала. Мы не можем примкнуть ни к одной из этих интерпретаций.
Для Германии – для бюргерства и крестьянства – были соблазнительны социальные порядки, насаждаемые французской властью в завоеванных областях. В Рейнскую область Наполеон принес господство буржуазных отношений. Для Франции, пережившей якобинскую диктатуру, режим Наполеона означал реакцию. Для полуфеодальной Германии этот режим означал некоторый прогресс. Пример рейнских провинций становился опасным. В 1807 г. Штейн и Альтенштейн, озабоченные прочностью престола, прокламируют «мирную революцию» – перенесение на прусскую территорию французских идей, признание их со стороны монархической местной власти. Реальные мероприятия Штейна выразились в октябрьском эдикте 1807 г. Эдикт отменял наследственное подданство крестьян, разрешал дворянству заниматься промышленностью и торговлей, буржуа и крестьянам – приобретать дворянские земли.
В 1810 г. в министерстве Гарденберга реформы продолжались. Гарденберг провел закон о праве для известной части крестьян выкупать повинности.
Реформы Штейна – Гарденберга знаменательны: дело шло о развязывании возможностей немецкого капитализма. Юнкерское правительство искало согласия с буржуазией, при условии, что дворянское господство в экономике и в политике сохраняется. Борьба с империей Наполеона могла объединить немецкую буржуазию с немецким дворянством. Континентальная блокада была совершенно губительной для дворянского землевладения, лишенного выгод хлебного вывоза в Англию. Но для немецкой промышленности, избавленной таким образом от английской конкуренции, та же политика Наполеона была политикой поощрительной, только до известных пор и в известных только отношениях. Наполеон уничтожал в Германии остатки крепостного строя, вводил буржуазную законность, гражданское равенство, но он же подчинял немецкую буржуазию национальным целям французской промышленности, предписывал немецким землям роль колоний или полуколоний. На почве немецкого национализма могли договориться в Германии и бюргеры и дворянство. Именно к этой линии склонялся Клейст.
Ортодоксальное нереформированное пруссачество у Клейста поддержки не находит. Еще в 1800 г. он пишет сестре Ульрике:
«Впрочем, как я вижу, вся коммерческая система в Пруссии весьма милитаризована, и я сомневаюсь, чтобы она нашла во мне ревностного сторонника. Индустрия – это дама, и нужно бы изысканно-вежливо и сердечно пригласить ее, чтобы своим вступлением она осчастливила бедную страну. Но ее тянут за волосы, и что же удивительного, если она дуется! Промыслы не поддаются тому, чтобы ими овладеть воинскими приемами… Ибо ремеслам, искусствам и знаниям, если они сами себе не помогут, не поможет и никакой король. Только бы им не помешали в их шествии, – это все, чего они хотят от королей».
Таким образом, точка зрения буржуазной политической экономии была близка ему. Что же касается дел чисто политических, то все определяется тактикой борьбы с Наполеоном. Клейст советует воевать с французами по испанскому образцу, то-есть он мечтал о народной партизанской войне, с какой тогда имел дело Наполеон в Испании. Отсюда следовали неминуемые политические обязательства. Во время австрийской кампании Наполеона Клейст пишет:
«Всякая великая и далеко идущая опасность, если встречена умело, придает государству в одно мгновение демократический вид. Позволить, чтобы распространилось пламя, которое угрожает городу, не противиться пламени только потому, что полиция не в силах будет справиться со скопищем людей, собравшихся на выручку, – такая мысль была бы безумием, она может посетить лишь деспота, но не правителя честного и доброжелательного». «По окончании войны пусть соберутся сословия и на всеобщем рейхстаге пусть дадут государству устройство, наиболее с ним сообразное»
(статья О спасении через Австрию).
Обновление прусского государства, общегражданская законность, признание буржуазной собственности, «мирная революция» – этими положениями проникнуты и произведения Клейста-художника: Михаэль Кольхаас и Принц Гомбургский.
Для понимания новелл Клейста очень важна его философская позиция, в частности его отношение к философии Канта. Известно, какое гигантское впечатление произвела на Клейста-юношу кантовская философия. Кантова теория познания, истолкованная через Фихте[32]32
О роли Фихте в философском развитии Клейста см. работу E. Cassirer – «Kleist und die Kantische Philosophie», в сборнике «Idee und Gestalt», Berlin 1924.
[Закрыть] как абсолютный субъективизм, как отрицание всякой реальности внешнего мира, воспринята Клейстом трагически:
«Моя единственная, моя высочайшая цель погибла»
(письмо к невесте 22 марта 1801 г.).
Это замечательно: в ту пору немецкие идеологи относились к субъективизму как к истине самоочевидной.
Нет никаких оснований думать, что Клейст позднее теоретически справился с ученьем о феноменальности внешнего мира. Хотя как политический активист, писатель, непосредственно связанный с боевой практикой своего класса, с прусской армией, с прусским государственным хозяйством, с прусской политикой, Клейст многократно отказывался от утонченного философствования.
Он пишет:
«…немцы рефлектируют там, где они должны чувствовать и действовать, полагают, что все могут они осуществить через мудрствование, и ни во что не ставят старинные таинственные силы сердца»
(Катехизис немцев, 1809).
В Berliner Abendblätter Клейст помещает статью-парадокс о вреде размышления, специально, как он предупреждает, назначенную для немцев.
«Сама жизнь есть борьба с судьбою, и с действованием дело обстоит так же, как со схваткой [двух атлетов]».
В том же издании напечатаны чрезвычайно характерные рассуждения Клейста о мировом развитии (Betrachtungen über den Weltlauf), явно направленные против Шиллера, против его Писем об эстетическом воспитании. У Шиллера порядок и ценность развития человечества зависят от того, насколько ослабевают реалистические инстинкты: через эстетику, которая еще не отрешается от чувственности, народы приходят в мир морали, в мир отвлеченной духовности. Но Клейст ссылается на реальную историю: героическая эпоха греков и римлян и была их высочайшей эпохой, всё последующее развитие заключалось только в немощных воспоминаниях о ней. Шиллер же понимает героический век как первоначальный и низменный. Порядок развития, прославленный у Шиллера, Клейст считает не восходящим, а падающим.
Как практический политик, Клейст устанавливает и отправные принципы для своей поэтики. В замечательной статье о мысли и говорении Клейст рассматривает мышление, как момент, внутренне принадлежащий процессу речи, развиваемый совместно с ней, на ходу определяемый через речь:
«Мысль появляется в разговоре» (l’idée vient en parlant).
Клейст интерпретирует речь, как социальный акт, и диалог для него господствует над монологом, над уединенной внутренней речью. Речевой акт есть акт борьбы, скрещенье противоположных сил. Слушатель – противник, даже если он молчит: он заставляет одним своим присутствием договаривать, додумывать, доводить мысль до конца и до формы.
Если взять фабульные очертания новелл Клейста, то здесь налицо окажется безостановочное действование, «борьба с судьбой», в самом процессе которой выясняется, каково содержание и каков характер сил, приведенных в движенье. Для самих героев действование есть единственное средство самопознания: как фраза делается более ясной и оформляется, по Клейсту, только к концу «борьбы диалога», так и подлинные сущности действующих лиц становятся видны лишь после всех героических трудов защиты и сопротивления, сквозь которые фабула заставила их пройти. О маркизе О… в самой новелле говорится: маркиза «познала себя» только в испытаниях судьбы.
Таким образом, самопознание и всякое знание у Клейста не предшествует событиям, но находится в самом центре событий, следует из практического кризиса и неотъемлемо от него.
Однако этот активизм Клейста носил субъективистский характер и покоился на противопоставлении действующего субъекта и вульгарной, материальной действительности. Этические идеи Канта навсегда сохранили власть над мировоззрением Клейста. Здесь для нас важно присутствие их в мире клейстовских новелл[33]33
В указанной статье (сборник Idee und Gestalt) Кассирер очень точно проследил влияние кантовских идей, влияние Критики практического разума на все идейное строение последней и заключительной вещи Клейста – трагедии Принц Гомбургский.
[Закрыть].
В этике Канта содержались идеи буржуазного компромисса, те самые идеи, к которым относилась совершенно благосклонно и известная часть юнкерства. Кант в духе буржуазного либерализма требует, чтобы поведение личности определялось ею изнутри, чтобы способ жизни не предписывался ей извне, догматически. С этой стороны Кант эмансипирует личность, делает для нее необязательным внешний закон, реальное установление, если она с ним несогласна.
Но кантовская «свобода» двусмысленна. «Свободу» Кант решительно отграничивает от «интересов», от «склонностей», от внушений человеческой природы, реальной, физически существующей личности. Принцип автономной личности отрицал всякое насилие, «полицейское» вторжение; категорический императив, признававший законом этой личности отказ от природных склонностей, от плотской материальной заинтересованности, собственно, только передвигал вопрос о насилии, препоручал насильственные функции самому субъекту; надзор и наблюдение извне заменялись неусыпными наблюдениями самого сознания – «внутренней полицией».
Общность Клейста с Адамом Мюллером, с политическими традициями, шедшими от Новалиса, с историзмом романтической школы состояла в том, что Клейст, исходя из их воззрений, придает весьма конкретное содержание кантовским постулатам, Категорический императив, «ты должен» Канта, получает у Клейста реальный точный смысл: до конца известно, что и как «ты должен».
Таков его Катехизис немцев. Вопрос: каковы же величайшие блага человеческие? – Ответ: бог, отечество, император, свобода, любовь, верность, красота, наука и искусство.
У Канта «свобода» осуществляется в некотором фиктивном человеческом сообществе, – в идеальном умопостигаемом строе. Для Клейста, как и для Адама Мюллера; как для Новалиса, речь может итти только о реально сложившемся государстве, историческом и фактическом. Этика у Клейста не вольное мечтание в канто-шиллеровском смысле, а охрана объективных институтов: нации, государства, сословий, семьи в их исторической данности. Автономия личности состоит у Клейста в том, что она сама внутренними силами, по собственному почину охраняет неприкосновенность определенных социальных институтов.
Так как у Канта и критика практического разума (этика) и критика чистого разума (теория познания) связаны общим методом; то Клейст через этику снова попадает в область идеалистической гносеологии, которой он сам же столь решительно отказывал в правах. Анализ человеческого поведения, предложенный Клейстом, повторял кантовский анализ познавательной деятельности, и в поведении, в «этике» воспроизводится кантово двоемирие: «закон» поведения – категорический императив – в пределах самой действительности не может быть найден, он не выводится из нее, он враждебен ей. «Этический человек» действует в эмпирическом человеке без всякой связи с ним. Клейст вносит в учение Канта консервативный исторический реализм, но от этого неувязка становятся еще безнадежнее. Показаны эмпирические, заведомо обусловленные нравственные понятия – мещанская идея отвлеченной справедливости у Михаэля Кольхааса, семейственные убеждения военного дворянства в Маркизе О…, рефлекс воинской дисциплины в Принце Гомбургском, – и автор заверяет, что все это врожденные принципы автономного сознания.
С величайшей резкостью показано у Клейста, что «законосообразная личность», легальное поведение есть акт насилия, отрицания личности в ее материальной воплощенности. Нация, государство, семья, сословие – это у него последние, вне критики, вне исторической изменчивости, основания реального мира, система «благ», к которой восходит мировой порядок.
Клейст проповедует отречение, строжайшее отделение нравственного человека от человека физического: в трагедиях и в новеллах изображена беспощадность «императива» в лице дворянства, в лице «подающих пример» «высших сословий».
Основные противоречия художественной работы Клейста: могучее реалистическое рвение художника и в то же время – ирреальные предпосылки его сознания, осмысливание мира, как игры потусторонних сил, самому миру чуждых, находящихся с ним в безостановочной войне. Прагматическая фабула, бодрое зрелище практических стихий и в то же время – закрытые скобки, вне которых строжайше запрещено реальное развитие. Если не субъективный идеализм, то дуалистическая гносеология вернулась к Клейсту.
Собрание своих новелл Клейст хотел назвать Моральные повествования (Moralische Erzählungen), вслед за назидательными новеллами Сервантеса. Вернее: повествования образцовые, показательные, содержащие пример. Борьба позитивных нравственных сил за утверждение, за реальное господство – это и есть генеральная тема новелл Клейста. Они печатались в повременной прессе, рядом с публицистикой, и действовали в том же направлении: как призыв к современникам, как средство воспитания их социальной энергии.
В немалом количестве Клейст писал рассказы, анекдоты для этой же прессы. Сравнение их с большими новеллами интересно во многих отношениях.
Клейст принял жанр новеллы текстуально, как его понимала литературная традиция: новелла есть сообщенье о случае незаурядном, странном; новелла – новость, любопытное известие, она – сродни анекдоту и курьезу.
В Abendblätter Клейст печатает, как занимательное чтение, «дикие повести», фантастические «новости», Странный случай из судебной практики Англии, Примечательное о генерале Вестермане, Чрезвычайный пример материнской любви у дикого животного. Показателен хотя бы такой суеверный анекдот: история о капитане Бюргере, который был скромным человеком, и о Брице, который скромностью не отличался. Оба были застигнуты грозой, и Бриц не захотел стать под то дерево, под которое укрылся Бюргер: он искал для себя отдельного места. В Брица ударила молния, а капитан Бюргер под своим деревом остался жив (Abendblätter, 2 октября 1810 г.). Одна из таких анекдотических серий у Клейста называется Невероятные были (Unwahrscheinliche Wahrhaftigkeiten). Это отличное название, и его следует обобщить: каждая новелла Клейста и есть такая «невероятная быль». В больших новеллах у Клейста происходит грандиозная переоценка жанра: анекдот литературно и философски возвеличен. Маркиза О…, например, это патетический анекдот; Обручение на Сан-Доминго – анекдот трагический.
Романтическая поэтика предусматривала такие переходы и превращения литературных жанров. Еще в 1798 г. Фридрих Шлегель писал:
«С точки зрения романтизма даже самые эксцентрические и уродливые разновидности поэзии имеют свою ценность. Если в них только что-нибудь содержится, если они оригинальны, то они суть материалы и предварительные опыты для универсального искусства».
Программой романтизма Клейсту как бы подсказаны его смелые литературные операции.
В подлинном элементарном анекдоте из Abendblätter вся острота – в смысловом противоречии. Ценность анекдота – в его фактичности, документальности, в указании полка, где служил капитан Бюргер, в указании места, где случилось чудо, в дате 1772 г., отмечающей случай потрясающей материнской любви у белой медведицы, и т. д. С другой стороны, анекдот оттого и анекдот, что доходит до небылицы, издевается над всякой логикой, что факт, засвидетельствованный в анекдоте, есть факт однократный и не выводимый ниоткуда, факт, не имеющий логических корней в самой действительности.
Мысль Клейста потому и обратилась к анекдоту, что здесь в самой художественной форме, в самой структуре жанра она нашла узаконенными свои основные противоречия: ирреального и реального, «невероятного» и «были», имматериального постулата и его материального выражения.
В основу больших новелл Клейста положен анекдот в элементарном значении термина: тема «непорочного зачатия» – в Маркизе О…, тема находчивости и трагической ошибки – в Обручении, тема камеристки, заменившей на любовном свиданьи свою госпожу, – в Поединке, тема о поразительном физическом сходстве двух людей – в Найденыше. В Abendblätter Клейст напечатал два непритязательных анекдота, из которых один пересказывает фабулу Маркизы, другой – Поединка; таким образом, у Клейста эти новеллы существуют в двух редакциях – «высокой» и «низкой».
В самом развитии этих больших новелл это первоначальное анекдотическое основание снимается, весь интерес новеллы о маркизе О… уже вовсе не в двусмысленных предпосылках фабулы, а в том, как с этими предпосылками справляется героический характер, и «невероятность» приурочена к более высоким моментам, нежели можно было предполагать: «невероятна» не история непорочного зачатия, – «невероятны» сама маркиза и ее героическое сопротивление судьбе. В новеллах, по мере их развития, достойны удивления не парадоксальные сюжетные мотивы, но все содержание и направление активности героев, моральные источники этой активности. Чудесна, невероятна этика действующих лиц, легендарно то преобразование, которое придано событиям через посредство этики. По сравнению с этим исключительность самого события вынуждена отступить. Новеллы Клейста – «анекдоты и легенды» о категорическом императиве.
Известен источник Маркизы О… Он был указан Фр. Маутнером. У старинного мастера французской прозы, Монтеня, рассказана следующая история (Опыты, издание 1588):
«Недалеко от Бордо, около Кастра, жила в своем собственном доме одна крестьянка, вдовица, поведения весьма честного. Почувствовав первые признаки беременности, она сказала своим соседкам, что могла бы действительно предположить о себе такую вещь, если бы имела мужа. Но подозрения ее с каждым днем все больше подтверждались, и, наконец, уже не оставалось никаких сомнений. Она решилась объявить в церкви во время проповеди, что если виновный в этом деле выдаст себя, сознавшись, то она простит его и, ежели он на это согласится, пойдет за него замуж. Тогда один из ее молодцов, нанятый для пахоты, ободренный этим обещанием, заявил, что однажды в праздничный день, когда она выпила много вина, он нашел ее у очага погруженною в глубокий сон. И она лежала столь непристойно, что ему удалось совершить это дело, не разбудив ее. Они поженились и еще теперь живут вместе».
Как возможный источник указывают также новеллу Сервантеса Сила крови. Родольфо похитил Леокадию, с завязанными глазами, лишенную чувств от испуга; он затащил ее в свой дом и там изнасиловал. Леокадия, очнувшись, ознакомилась с предметами жилища и взяла со стола Родольфо распятие, так, чтобы тот не заметил. Когда он выводит Леокадию на улицу и глаза у нее снова завязаны, она считает ступеньки лестницы и число удерживает в памяти. Спустя семь лет Леокадия, которой случай помог встретиться с Родольфо и его родителями, по собранным приметам удостоверяется, что дом и человек – те самые; распятие служит ей цитатой, ссылкою и документом; с фактами и с документами в руках, она, незнатная и бедная, убеждает родителей Родольфо в своих правах, и те, знатные и богатые, велят Родольфо исполнить свой долг, жениться на ней и признать ребенка, который шесть лет тому назад родился у Леокадии от Родольфо.
Наконец сам Клейст напечатал в Berliner Abendblätter анекдот на мотивы Маркизы О…: Странная история, которая случилась в мое время в Италии. Здесь некая придворная девица ловко прикрывает свой грех, в чем помогает ей благосклонная принцесса. Девицу во-время выдают замуж, но жениха не существует. Дамы сговорились и эксцентрично морочат окружающих. Ко двору неожиданно приезжает некий граф Шарфенек, молниеносно заключает брак с заинтересованной девицей и пропадает, никому не показавшись. Дамы всем объясняют, что немецкий граф – человек со странностями. Через несколько недель новобрачная получает траурное извещение: супруг ее граф Шарфенек утонул в Венеции, и тело его не найдено. На этом инсценировка кончается. Девица может рожать своего легального ребенка. История о графе Шарфенек сыграла свою роль.
На фоне всех этих вариантов одной и той же фабулы проясняется идейный замысел «невероятной истории» маркизы О… Прежде всего Клейст освобождает свой сюжет от всякого соприкосновения с комизмом. Герои новеллы с разных сторон пытаются трактовать приключение маркизы в грубо комическом смысле, даже в злостно комическом: отец, мать, наконец, акушерка с ее профессиональным юмором, с трезвыми замечаниями об известном ненормальном случае с девою Марией.
Вся неожиданность оборота, приданного Клейстом галантной и щекотливой фабуле, – в том, что с нее сброшена комическая форма. Мировая литература знает множество примеров перехода от трагического к комическому, переработки высоких сюжетов в комедийные. У Клейста пример более редкий: он комическое переводит в возвышенное, в класс страстного драматизма. В одной из своих сценических вещей он поступил так же с комедией Мольера Амфитрион.
В этой перепланировке, в этом обратном движении от комических, то-есть разрушенных, скомпрометированных ценностей к их восстановлению, к новому усилению их власти – своеобразная особенность второй стадии развития романтизма. Эта «игра на повышение», эта отмена комической характеристики лиц и событий, конечно, связана со всей работой Клейста-новеллиста, с переквалификацией жанров, с переходами в высокий ранг анекдота и повествовательных мелочей. И здесь опять-таки Клейст опирается на литературную теорию романтизма, отменившую классически непроницаемые границы между стилями и жанрами. Было объявлено, что жанры и стили находятся в сплошной диалектике взаимных переходов и превращений. В частности, была снята граница между трагическим и комическим, которую классицизм соблюдал строго и ревниво. Шеллинг, рассуждая о существе комического, заверял, что Аристофан и Софокл по духу одно и то же. Август Шлегель ссылался на эстетику Платона и говорил, что дело одного и того же поэта – создавать вещи комические и вещи трагические: трагический поэт уже в силу самого своего искусства совмещает с трагическим комическое дарование.
В Маркизе фон О… Клейст трактует, как мы видели, фабулу буржуазного Ренессанса. Но трактовка его характерна для проникнутой словесностью прусской общественности.
Решение фабулы у Монтеня выражает буржуазное материалистическое миропонимание, индивидуализм и скепсис. Несчастье случилось против воли героини, но она применяется к обстоятельствам. Так или иначе – обидчик торжествует.
Приблизительно то же самое в новелле Сервантеса. Монтеневский юмор относится к тому, что некоторая ценность – женская добродетель – представляется далеко не абсолютной, «идеальный мир», к которому она принадлежит, подвержен реальным превратностям. Героиня уступает своему несчастью, ищет реальных поправок к нему; значит, как бы бессознательна ни была вина, все же эта вина существует, внутренний мир героини капитулирует, становится местом пересечений внешних влияний и сил. Трезвое поведение героини есть свидетельство невозможности замкнутой, вне мира существующей нравственности и свидетельство того, что во всех случаях человек ищет, где лучше.
Вот эти-то модусы поведения – мирские, «примиренческие» – с драматической энергией отвергает у Клейста маркиза О… Со всей приверженностью к кантовой морали Клейст не допускает, чтобы личность поступилась хоть чем-либо из своей автономии, чтобы она отвечала за случайности, испытанные ее телесным двойником. Для маркизы О… недействительны все происшествия плотской ее биографии: «с гордостью» она встречает «выпады света». Ее объявление в газетах – всеобщее посмешище (Spott der Welt), но маркиза не боится быть смешною.
В рассказах Монтеня или Сервантеса возможность комического (реализованная у Монтеня и нереализованная у Сервантеса) в том, что внешнее происшествие не локализовано как только внешнее: оно в конце концов находит себе союзника «изнутри» в сознании непричастной героини. Таким образом, говоря языком романтических эстетик, «случайность» внедряется в «необходимость» и уничтожает ее исключительные претензии.
Маркиза О… свергает всякий комизм, потому что не позволяет случайности распространиться: внутренний мир героини совершенно недоступен случайности.
Фабула предоставляет маркизе отличный выход: русский граф к ней сватается, и она любит его. Ей дается способ договориться с обстоятельствами более почетным образом, чем то могли сделать героини Сервантеса или Монтеня. Но смысловой стиль у Клейста не таков: маркиза безоговорочно отказывает русскому графу, как только узнает, что беременна.
Возражения, сделанные Клейстом фабуле Монтеня и Сервантеса, чрезвычайно типичны. Немецкая романтика пересматривает все укоренившиеся правила развитой буржуазной литературы, в частности, подвергает критике принципы индивидуалистической фабулы, установившейся с Ренессанса.
У Сервантеса феодальная концепция промысла еще не отменяется окончательно: держатся ее формальные остатки, и замечательна авторская наивность. Леокадия действует индивидуально, действует с умом и с полнейшим вниманием к внешнему миру, с предосторожностями. Она не голыми руками исправила собственную судьбу, и все ее поведение – это благоразумный детектив в собственную пользу. Но распятие со стола обидчика – этот главный документ детектива, – средство эгоистической самозащиты, в то же время есть религиозный символ. В этой фабульной детали идея промысла, сверхнатурального руководства человеком встречается с идеей буржуазной самодеятельности, буржуазного самоопределения к находчивости, встречается выразительно и наивно.
Немецкая романтика чаще всего возвращается к тому кругу литературных идей, в отрицании, в борьбе с которыми складывалась в эпоху Ренессанса мировая буржуазная литература. Что для Сервантеса есть рудимент, формальный остаток, то у романтиков обыкновенно превращается в существенный: признак и главенствует.
У Клейста маркиза О… с героическим безумием бросает вызов внешнему миру и идеям приспособления к нему. В тактике маркизы О… нет ничего общего с поведением сервантесовой Леокадии, «считающей ступени», и с вульгарными, хотя и виртуозными уловками из «странной итальянской истории».
Маркиза принимает искательства русского графа в самых неблагоприятных условиях, ею же самой созданных, – после скандального объявления в газетах. И принимает их не во имя своих интересов, а во имя будущего ребенка: нужна юридическая форма, нужен законный отец. Ее «склонность» к графу никакой роли не играет; «долг» исключает склонность, и граф ей муж только потому, что он отец ее ребенка. Церковный обряд не меняет дела, и маркиза карает русского, обвенчанного с ней, самым суровым пренебрежением, хотя и любит его. Она приближает его, только когда он прошел курс нравственного воспитания.








![Книга Русская живопись первой половины XIX века. Романтизм, академизм и бидермайер [статья] автора Елена Кукина](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)