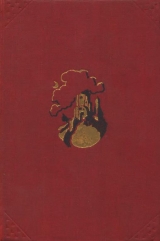
Текст книги "Немецкая романтическая повесть. Том II"
Автор книги: Иозеф Эйхендорф
Соавторы: Генрих фон Клейст,Клеменс Брентано,Ахим фон Арним
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц)
Она скоро заметила, что собака все поняла из того, что она говорила, ибо, вместо того чтобы впредь зарывать в саду маленькие запасы хлеба и костей, она теперь стала постепенно откапывать все эти зарытые сокровища и ненасытно поедала их. Если первое могло как-то трогать Беллу, то последнее еще более восстановило ее против собаки; впрочем, собака, казалось, вовсе не тосковала, но смотрела на нее насмешливо, и когда наступила пятница, – ибо требовалось, чтобы все было совершено в пятницу, – она еще раз обшарила весь дом, обнюхала все углы и противу обычая неопрятно повела себя на своей подстилке, что, однако, Белла на этот раз ей легче простила, чем своей старухе ту скуку, которую та возбудила в ней бесконечными росказнями о своей проклятой первой любви, со всеми этими «он сказал», «я сказала» и пр.; из-за этого Белла легко могла бы нарушить одно из главных условий для отыскания корня альрауны, если бы, нетерпеливо ожидая ухода старухи, не стала отсчитывать минуты и часы, пока не пробило двенадцать; тогда, наконец, Белла нетерпеливо вскочила и с досады, что придется все предприятие отложить на неделю, принялась отплясывать со старухой цыганский журавлиный танец, так что та, наконец, еле дыша, упала на стул и, кашляя, стала клясться, что так весело она не танцовала даже на собственной свадьбе; при этом она сунула в рот кусочек лакрицы, чтобы унять кашель, и, наконец, затрусила домой с большим сожалением, что приходится уже уходить.
Белле было все же немного жутко; целая неделя была теперь потеряна, но это казалось ей даже к лучшему, так как она может еще подготовиться, а черный пес, повидимому, не меньше желал этой отсрочки, чтобы успеть как следует поесть; она баловала его самыми лакомыми кусочками, зная, что он для нее должен сделать; и даже иногда, несмотря на все ее отвращение к этому животному, при взгляде на него у нее выступали слезы на глазах, хотя ее утешало примечание в колдовской книге, что верные собачьи души, которые погибнут в таком деле, соединяются с душами своих хозяев, и она была уверена, что черному псу будет лучше у ее отца Михаила, чем у нее.
Наконец наступила следующая пятница; начались уже холода, стоячие воды покрылись тонким льдом; старуха извинилась перед ней, что в ближайшие дни не может бывать у нее: ее кашель так усилился, что она должна посидеть дома.
Все, казалось, складывалось, как нельзя лучше, соседи все перебрались в город, ночь была темная, и ветер гнал по засохшей земле первые хлопья снега. Белла еще раз пробежала колдовскую книгу, сердце ее сильно стучало, когда медленно пробило одиннадцать, черный пес приволок ее куклу, которую она воображала и почитала своим принцем, и стал рвать и кусать ее; это ускорило ее решение: оскорбление, нанесенное ее любимому, должно быть наказано; быстро она схватила шнурок, который сплела из своих волос, и все это время носила вокруг головы, чтобы не возбудить подозрений старухи, и ударила им пса. Он бросился к двери, она ее отворила, и оба они очутились в волшебном зимнем мире и пошли по-ветру, толком не зная дороги и держась только направления к горе, на которой совершались повешения. Дорога была безлюдна, зато то и дело из-под садовых калиток выскакивали с шумом собаки, бежали за черным Самсоном, но чуть только эти филистимляне приближались к нему, он оборачивался на них, скалил зубы, и большие и малые – все в ужасе, поджав хвосты, бросались назад в свои сады и, прищемленные калитками, жалобно визжали. Такой же ужас навел Самсон на пару дикобразов, пересекших им путь, с натыканными на их иглах яблоками и грушами из соседних садов, которые они собрали, катаясь по земле; при виде черного пса они свернулись в шары, и он безо всякого стеснения пообчистил их иглы и пожрал свою добычу.
Белла тем временем присела отдохнуть, но, когда она снова поднялась и стала приближаться к горе, странным ей показалось, будто кто-то другой шел следом за ней и притом, все время стараясь носком своей ступни касаться ее пятки; она не смела обернуться и только все ускоряла шаги, как вдруг удар по голове свалил ее с ног. Удар, правда, не сильно оглушил ее, и она быстро пришла в себя, тем более, что кругом все было тихо. Она повела рукой около себя, – никого не было, – и тут увидала, что наткнулась на опущенный шлагбаум; а то, что так неотступно преследовало ее по пятам, оказалось терновником, прицепившимся к ее платью. Она посмеялась своему страху, решила впредь быть внимательнее и спокойнее и все же скоро забыла об этом, когда несколько стреноженных лошадей сорвались с места при ее приближении и поскакали прочь через кусты и изгороди.
Наконец она была наверху, и перед ее взором раскинулся богатый город, где еще кое-где горели огни, а один дом был ярко освещен, и там, подумалось ей, живет ее принц: таким описывала ей старуха его дом, и она знала, что сегодня празднуют день его рождения. Она так загляделась, что забыла обо всем, даже о высохших трупах повешенных над своей головой, которые качаясь толкались, словно обращаясь с вопросом друг к другу; но тут черный пес стал по собственному почину разрывать землю под виселицей. Она схватила то, что он нашел и почувствовала, что держит в руках человеческую фигурку, которая, однако, обеими ножками вросла в землю; то была она, то была она, таинственная мандрагора, висельный человек; без всякого труда ей удалось найти его, и в мгновение ока он был обвязан волосяным шнурком, другой конец которого был затянут вокруг шеи черного пса; тогда кинулась она прочь в ужасе от раздавшегося крика корня. Она забыла заткнуть себе уши, побежала как могла быстрее, пес бросился за ней, вырвал корень из земли, и тут страшный удар грома свалил с ног и его и Беллу; но, благодаря быстроте своих ног, она была уже далеко.
Это спасло Белле жизнь; однако она долго лежала без памяти и очнулась только в тот час, когда утомленные и счастливые любовники возвращаются домой; один из них пел восторженную песню о своей милой и о злых языках, которые сплетничают о тайной любви; глаза его слипались от дремоты, и он прошел мимо, не заметив Беллы. Когда она очнулась, то не могла припомнить, как попала на это место, и не узнавала его; с трудом она поднялась и в свете утренней зари увидела своего мертвого Самсона. Она узнала его, постепенно вспомнила, зачем пришла сюда, и, сняв волосяной шнурок с собаки, нашла на другом его конце человекоподобное существо, подвижные очертания которого, не одушевленные еще благородными чувствами, уподобляли его куколке бабочки: таков был альраун, и странным образом Белла, с одной стороны, уж не могла больше думать о принце и совершенно забыла о той единственной причине, по которой она разыскивала альрауна, с другой же стороны – она теперь любила альрауна с той нежностью, которая впервые проявилась в ней, нежно овладев ее душой в ту ночь, когда увидела она принца.
Мать, видящая вновь свое дитя, которое она уже считала погибшим при землетрясении, не может ласкать его нежнее и сердечнее, чем ласкала Белла маленького альрауна, прижав его к сердцу и отчищая последнюю пылинку с его тельца. Казалось, он ничего не сознавал, и его дыхание выходило через два заметные отверстия в голове; только покачав его несколько времени на руках, она заметила по нетерпеливому толчку в грудь его ручки, что ему это движение приятно; и его ручки и ножки не успокоились, пока она опять не убаюкала его, покачивая.
Так, с ним на руках, она поспешила обратно домой; она не обращала внимания ни на собачий лай, ни на отдельных рыночных торговцев, которые спозаранку сходились к городским воротам, чтобы первыми войти в город, как только ворота отворятся; она глядела лишь на милого крошку, которого заботливо завернула в свою верхнюю юбку. Наконец она достигла своей комнаты, зажгла свечу и рассмотрела маленькое чудовище. Она пожалела, что у него не было ни рта для поцелуев, ни стройного носа для его божественного дыхания, ни глаз, в которых бы светилась его душа, ни волос, прикрывавших нежное обиталище его мыслей, но все это не уменьшило ее любви. Она внимательно стала перечитывать свою колдовскую книгу, чтобы вспомнить, что следует делать с этой расчлененной и подвижной репой, чтобы развить ее силы и способности, и скоро нашла, что искала. Прежде всего надо было вымыть альрауна, что она и исполнила, затем надо было на его грубой головке посеять просо, и, когда оно прорастет волосами, другие члены тела сами собой разовьются, только надо было на месте будущих глаз вдавить по можжевеловому зернышку, а на месте будущего рта – плод шиповника. По счастью, все потребные семена она могла раздобыть: старуха недавно принесла ей накраденного проса, можжевеловые ягоды отец ее часто употреблял для курения в своей комнате; она не выносила их запаха, теперь же он был ей приятен, и она радовалась, что осталась еще целая горсть этих ягод; куст шиповника в саду весь был покрыт красными плодами, последней красой года.
Все было добыто; прежде всего шиповник был вдавлен на надлежащее место, но она не заметила, что своим любящим поцелуем она скривила его; затем она вдавила два можжевеловых зернышка, и ей показалось, будто крошка посмотрел на нее, и это ей так понравилось, что она готова была бы всадить их целую дюжину, если бы только могла выискать подходящее место для них; больше всего ей хотелось бы устроить ему глаза позади, но она боялась, что ему это часто будет приносить боль; наконец она все-таки вставила ему два глаза на затылке, и нужно признать, что эта идея была не так уж плоха. Так весело и в то же время серьезно приступила она к работе над созданием живого существа, которое должно было впоследствии огорчать ее не меньше, чем человек своего творца; удовлетворенная, как молодой художник, которому все дается против его ожиданий, рассмотрела она свое маленькое бесформенное чудовище, запрятала его в хорошенькую колыбельку, которую отыскала в доме, и укутала одеялом, решив не открывать даже старой Браке этой первой тайны своей жизни.
Брака, на следующий вечер заявившая о себе своим уловным мяуканьем, все же заметила в ней какую-то перемену и пустилась на всякие хитрости, чтобы разузнать, в чем дело, особенно после того, как она обнаружила отсутствие черного пса.
– Слава богу, – заговорила она, – сгинул пес наконец! Как же это случилось? Я бы давно прикончила проклятого кобеля, если бы только осмелилась; но я не дерзала, потому что он был оставлен твоим отцом; один раз мне-таки удалось поймать его в мешок, и я уж хотела его утопить, но, когда я подымала мешок, он так здорово мне искусал руки, что я пустила его удрать вместе с мешком. Так скажи же мне, дитятко, как это ты ухитрилась убрать его с дороги?
Белла отвернулась, опустив глаза на свою работу, – она чистила яблоки, – и стала подробно рассказывать, как ночью пошла в сад, как бешеная собака бросилась там на нее, как черный Самсон сцепился с ней и они так потрепали и изгрызли друг друга, что чужая собака под конец устремилась в бегство, а искалеченный, истекающий кровью Самсон кинулся за ней, и так с тех лор она его и не видала, вероятно потому, что он почувствовал, что может взбеситься и боялся ее искусать. Трогательная сказка! Белла рассказала ее так правдоподобно, несмотря на то что это была ее первая ложь в жизни, что Брака успокоилась и только подивилась преданности собаки и счастливому избавлению Беллы от такой большой опасности. Теперь Белла набралась духу плести и впредь ей всякий вздор, если понадобится, о своем корневом человечке, но она с нетерпением ждала ухода старухи, потому что испытывала настоящее беспокойство, жив ли еще ее крошка.
Опорожнив горшок с луковой похлебкой, которую себе приготовила, старуха собралась, наконец, уходить. Белла заперла за ней дверь и поспешила к потайной колыбельке; с дрожащим сердцем она приоткрыла полог и с радостью увидела, что просо уже принялось на головке корневого человечка, также и можжевеловые зернышки уже крепко впились; вообще в маленьком существе было заметно какое-то внутреннее движение подобно тому, как весной на поле под первыми жаркими лучами солнца после дождя еще ничего не растет, но земля раздается и рыхлеет; и как солнце вызывает все к жизни, так и Белла своими поцелуями пробудила дремлющие силы таинственной природы. Только когда она уже не могла больше бороться с усталостью, она решилась уснуть подле своего сокровища, но так и не отняла руки от колыбели, оберегая его. Можем ли мы удивляться странной ее любви к этому человекоподобному существу после того исключительного влечения, какое она испытала к прекрасному принцу? Нет ничего священнее этой привязанности ко всему, что мы сами творим, и душа наша, пугаясь уродства мира и нашего собственного уродства, вспоминает слова библии: бог так возлюбил сотворенный им мир, что послал в него единородного своего сына. О мир, преобразись, дабы стать достойным великой сей милости!
Белла забыла о всякой корысти, о том, что волшебный человечек нужен был ей для сближения с возлюбленным ее принцем; это чудесное дитя, добытое с такими опасностями, теперь заполняло собой все ее мысли, о нем она грезила, но грезы ее не были радостны; во сне она видела своего забытого принца, как он состязался с другими в метании стрел, этой изящной игре испанцев, в которой они стараются щегольнуть и выделиться как силой и быстротой броска, так и ловким поворачиванием лошади; но принц победил всех: его стрелы срывали звезды с неба и усыпали ими ее грудь, как блестящим украшением. Большинство этих звезд потухли, но одна продолжала сиять глубоким светом посреди ее груди; и Белла все глубже и глубже, бесконечно глубоко вглядывалась в нее и не могла наглядеться, и тут пробудилась.
Проснувшись, она уж не помнила, по ком она томилась; ей казалось, что то был маленький корневой человечек, и она радостным восклицанием приветствовала его, а он ей в ответ совершенно явственно запищал, как ребенок, и так пристально посмотрел на нее своими круглыми черными глазками, словно они готовы были выскочить из его головки; его желтое сморщенное личико, казалось, соединяло в себе черты разных человеческих возрастов, а просо на его голове уже срослось в щетинистые пряди, так же как и на его тельце там, куда упали случайно просяные семена. Белла подумала, что он кричит, требуя пищи, и была в большом затруднении, что же ему дать и где ей раздобыть молока. Она долго раздумывала, наконец вспомнила о кошке, которая окотилась на чердаке, и эта мысль привела ее в восторг; котята были принесены сверху и положены в колыбель к корневому человечку, который насмешливо посмотрел на них; кошка охотно стала кормить его вместе со своими котятами, и маленьким слепорожденным пришлось терпеть, что их зоркий сосед поспевал прежде них и неприметно для матери высасывать ее молоко. То на коленях, то на корточках Белла могла часами наблюдать хитрые проделки своего человечка; когда ему удавалось перехитрить других, она видела в этом высокое его превосходство над ними, когда же он трусливо отстранялся от их когтей, – осторожность и благоразумие; но больше всего радости доставляли ей его глаза на затылке. Он уже понимал ее, когда она подмигивала ему, что какой-нибудь из котят отпал от соска, и пододвигался, чтобы ухватить его. Ее нежность к нему росла так быстро, что она страдала о каждой капле молока, которую новорожденные котята отнимали у своего чужого соседа; она долго боролась с собой, но в конце концов не могла удержаться, чтобы не унести украдкой одного из котят, и положила его в траву у самого ручья. Затем она пустилась бежать, чтобы он не увязался за ней, но не успела она отбежать нескольких шагов, как услышала, что что-то плюхнулось в воду; она невольно обернулась и увидела, как поток уносил маленькую слепую кошечку. Ей стало грустно, она подумала о своем невинном отце, который уплыл по той же дороге, она уже готова была прыгнуть в воду, но осталась стоять на берегу, чувствуя, что согрешила; над ней было темное небо, под ней холодная земля, воздух вокруг нее беспокойно колебался; она скрылась в дом и заплакала. Когда же корневой человечек увидел это своими затылочными глазами, то принялся так громко смеяться у кошачьей груди, что кошка выпрыгнула, унося с собой одного из котят, который со страху вцепился в нее зубами.
Теперь корневой человечек до того разошелся, что уже мало стал интересоваться теплым молоком, и хотя он имел вид старичка, съежившегося в ребенка, но обладал всеми дурными свойствами маленьких детей. Видя, что Белла раздражена на него из-за гибели котенка, он нарочно как можно теснее прижимался к ней, и она не могла его побить, да и что иное она могла сделать, как не поцеловать его и предоставить ему полную волю, которая проявилась в том, что он стал хватать разные корешки, которые не были разложены здесь в комнате ее отцом, но были отброшены старой Бракой, скравшей их и не знавшей, что с ними делать. Чуть только наш человечек отведал один волшебный кладоискательный корень, как принялся так смешно прыгать и кувыркаться через столы и стулья, что Белле стало жутко и она невольно отвела глаза, а потом боязливо, как наседка за вылупившимся цыпленком, стала бегать за ним и присматривать, но не могла ни схватить его, ни достать до него. Скоро он уже ухитрился обшарить все углы в поисках того, что ему было нужно; первым делом он нашел еще говорной корень, который зеленые попугаи приносят с высочайшей вершины Чимборасо в равнину, где древесные змеи выменивают его у них на яблоки, растущие на заповедном дереве; отнять же его у змей может один только дьявол, а получить его от сего последнего нелегко, и немало почтенных педагогов тщетно ломали себе над этим голову. Алчно пожрав этот тошнотворный корень, он прыгнул на печь, и, подобно тому как птица, у которой отросли подрезанные крылышки, к изумлению своего хозяина, вдруг вылетает в окно, садится на дерево и, прежде чем скрыться в воздушном просторе со своей вольной песенкой, насмешливо насвистывает мотив, которому обучил ее сам хозяин, – так и первые слова человечка были насмешливым повторением наставлений Беллы: «Будь послушен, будь разумен, будь паинька!» Он без умолку твердил эти слова; она готова была поколотить его, но он сидел слишком высоко. Наконец, чтобы истощить все ее терпение, он надел себе на нос старые заржавленные очки и стал дразнить ее сумасбродными выдумками о всяких проделках, которыми он собирался тешиться над всеми и каждым. Белла громко расплакалась и не в силах была смотреть на него, ибо глаза ведь – самое задушевное, что есть в человеке, и, право, может привести в отчаяние, когда слабость этого органа вынуждает поместить грубые бесчувственные стеклышки между любимым человеком и нами; ум может помутиться у зоркого человека при виде того, как орган чувства, который блаженствует в стихии света и воздуха, теперь должен прибегать к помощи грубой силы земли, неизбежно принижающей и уничтожающей его. Очки – это ужаснейшая темница, из которой весь мир представляется искаженным, и только привычка может сгладить тот ужасный образ мира, в каком он представляется через них. Белла действительно ужаснулась до глубины души на своего любимца, которого боготворила; она сознавала, что нужно изобрести какое-то средство, чтобы укротить альрауна, и решила поговорить об этом с Бракой. Но как только она тихомолком приняла это решение, человечек закричал ей с карниза комнаты:
– Слушай, Белла, я наблюдал за тобой своими затылочными глазами, и мне сдается, что ты уж не так меня любишь, как вначале, и если это верно, то не сдобровать тебе!
Белла испугалась, как уличенная преступница; такое всеведение, или, лучше сказать, такое проницательное зрение человечка, повергло ее в отчаяние; страх укрепил ее намерение развязаться с этим жутким чертенком. А тут он опять закричал с карниза:
– Мне сдается, ты затеваешь что-то злое против меня, ну, да ты у меня сейчас снова станешь добренькой!
С этими словами он слез вниз, прыгнул к ней на колени и так крепко поцеловал ее, что чуть было не содрал ей кожу своей жесткой просяной бородой; все же она почувствовала странное волнение в крови, над которым она не стала задумываться, хотя оно и было ей непонятно. Но мгновенно малютка стал ей так мил, что она все забыла, кроме него.
Прошла неделя, и альраун достиг своего полного роста, примерно в три с половиной фута вышиной; Брака уже подозревала о его существовании, да и сам он не имел никакого желания дольше сидеть взаперти, когда она приходила, – напротив, он хотел показаться перед старухой во всем своем блеске и натянул на себя старое платье в сборках, затканное серебром и принадлежавшее еще Беллиной матери, которое Белла должна была ему подшить со всех сторон; в таком наряде сидел он однажды вечером тихо в своем углу и делал вид, что читает, когда вошла Брака. Белла сказала ей, что это ее родственница, очень богатая девушка, которую она пригласила пожить с ней и которая собирается сделать и Браке подарок. Брака, умевшая быть любезной, когда считала нужным, схватила ручку мнимой родственницы, чтобы ее поцеловать, но несколько была удивлена ее жесткостью, сморщенностью и волосатостью и не решалась напечатлеть на ней поцелуй. Видя это, корневой человечек пришел в ярость и закатил ей здоровенную оплеуху. Брака, с своей стороны, забыла о всякой сдержанности и, подбоченившись, разразилась такими проклятиями, что расхохотавшаяся Белла еле могла утихомирить ее, говоря, что соседи могут услышать и тогда их прибежище будет сразу открыто. Однако альрауна нимало не смутили ее проклятия, он ловко стал прыгать вокруг Браки и, не унимаясь, давал ей пинки и подставлял подножки; при этом платье с него упало, старуха сразу же увидела, с кем имеет дело, и в ужасе смиренно отступила перед ним. Когда он, наконец, оставил ее в покое, она, вся разбитая, уселась на стул и стала причитать:
– Ах, Белла, ну и счастье тебе выпало, да ведь с этим человечком для тебя все клады открыты! Ведь такой же был у моего зятя, он звал его Корнелием Непотом.
– Я так же хочу называться! – закричал малыш; – а что с ним случилось?
– Ах, – отвечала Брака, – мой зять был заколот, человечка нашли у него в кармане и дали играть в него детям, а дети подбросили его свинье, и та его сожрала и околела.
Маленький господин Корнелий был весьма рассержен этим сообщением; он строжайше запретил бросать себя свиньям и потребовал, чтобы ему объяснили, что это за звери. Брака первым делом постаралась ему растолковать, что он может не думать об окружающем мире и о том, кто кого в нем пожирает, и вообще, что там случается; его дело – отрывать клады и ни о чем другом не заботиться. Когда же маленький Корнелий вторично пришел в ярость, она постаралась успокоить его, расписывая ему всякие высокие должности, которые он мог бы с успехом занять. Казалось, словно он уже жил однажды на земле, так быстро он с полунамека понимал все человеческие отношения. У хилых детей наблюдается часто такая неприятная смышленность. Ничто из того, что Брака ему болтала о чудной жизни кондитеров и дворецких, не привлекало его так сильно, как жезл полководца, и он воображал себя в блестящем вооружении, как в замке изображен был на портрете фельдмаршал, во главе тысячи рыцарей проезжающим верхом на коне перед домом и принимающим их приветствия; он даже приказал, чтобы в доме называли его не иначе, как маршалом Корнелием, и непременно раздобыли ему соответствующее вооружение.
– Для этого нужны деньги, – сказала хитрая Брака, – на даровщинку только помереть можно; денег дай! денег нет! – кричит весь свет.
– Ну, об этом я позабочусь, – отвечал малыш; – мне что-то до того не сидится в этом углу! тут в стене верно запрятано сокровище.
Брака готова была бы ногтями выцарапать камни из стены, если бы не нашлось другого инструмента, но к ее удовольствию под рукой оказался железный ухват, лежавший у двери, и она тотчас же взялась за работу; счастье, что клад был замурован только одним камнем: никакие пинки маршала не отбили бы у ней охоту пробуравить весь дом насквозь; и точно так же царапанье и кусанье человечка не помешало ей завладеть ящиком, наполненным до краев полновесными золотыми и серебряными монетами. Она уселась на него и стала держать торжественную речь:
– Милые детки, молодость – неразумна; старые люди знают норов детей и телят, вы же оба пока еще не умеете обращаться с деньгами, – с ними вы погибните, навлечете на себя подозрение и попадете под суд, если я не приду к вам на помощь своим добрым советом; выслушайте же мое мнение о том, что вам следует делать, чтобы мы спокойно радовались своему богатству. Слушай, Белла, ты часто меня называла матерью; как свою дочь я и введу тебя в свет, ты же, Корнелий, будешь моим племянником, двоюродным братом моей милой Беллы, и если ты будешь вести себя хорошо, то можешь жить с нами, а мы тебя представим какому-нибудь именитому императору, чтобы он назначил тебя своим маршалом; латы мы можем тебе сейчас же купить, также и шпагу, и шлем, и боевого коня; то-то ты будешь радоваться на себя, а люди на улице будут показывать на тебя пальцами и приговаривать: вот он, чудный наш молодой рыцарь, фельдмаршал, отважный рубака! Девушки будут опускать глаза, ты же будешь крутить усы и милостиво кивать, проезжая мимо.
Если бы Корнелий взглянул на нее, то он бы, конечно, увидел всю ее лживость, но за свою жизнь он еще не испытывал такого приятного ощущения, как слушая эти речи старухи; он прыгнул к ней на колени и стал ее ласкать и целовать, так что Белла от ревности схватила его и вместо поцелуя укусила. Он не понимал таких шуток, и могла бы произойти немалая потасовка, если бы старуха не выступила с предложением обсудить, что им теперь следует предпринять.
– Подеретесь в другой раз, когда больше времени будет! – сказала она; – нынче нам нужно решить, куда отправиться, чтобы въехать в Гент с почетом. Я знавала в Бёйке одну хозяйку притона, она позаботится обо всем, что нам нужно, и прежде всего достанет нам парадную карету, в которой мы повезем господина Корнелия, как бы раненного в поединке и еще не совсем поправившегося.
– Нет, – заявил человечек, – я не хочу шутить этим, а то как бы на самом деле не случилось чего со мной; да и почему мне не показаться всем на глаза?
– Ах, – вздохнула про себя Брака, – он тоже из породы горбунов, которые не хотят понять, отчего у них протираются рубашки; – вслух же она сказала: – имейте в виду, сударь, что в деревне вы не сразу добудете себе рыцарское платье, приличествующее вашему достоинству, а кроме того вам придется тщательно постричь себе голову и бороду, не то люди будут принимать вас за Медвежью шкуру.
– А может быть, я из его семьи, – сказал Корнелий; – но кто он такой и где живет?
– Расскажи нам про него! – попросила Белла; – ночь уже на исходе, нынче мы не успеем собраться в путь, и завтра я еще хочу проститься со всем, что мне дорого в этом доме.
– Рассказывай, не то побью тебя! – сказал малыш.
Брака отставила в сторону масляную лампу и приступила к рассказу, все время перебирая в руках носовой платок:
История первой медвежьей шкуры
– Когда венгерский король Сигизмунд был разбит турками, один немецкий ландскнехт бежал из сражения и заблудился в лесу. Не было у него ни господина, ни денег, в бога он не верил, а тут вдруг явился ему нечистый дух и сказал, что если он будет служить ему, то и денег будет у него вдоволь, и сам себе будет он господином. Ландскнехт сказал: «Ладно, согласен». Но дух хотел прежде испытать его храбрость, чтобы не зря наделить его деньгами, и повел его к берлоге медведицы с медвежатами; когда же она бросилась на них, велел он ландскнехту стрельнуть ей прямо в нос. Ландскнехт выполнил приказание в точности, закатил ей по заряду в обе ноздри и уложил ее на месте. После этого дела начал с ним дух договариваться: «Сними шкуру с медведицы, она тебе пригодится; хорошо, что ты нигде не пробил ее пулей, теперь я сделаю тебя богачом, а ты мне за то послужишь семь лет в моей ливрее; за эти семь лет каждую полночь по часу должен ты стоять на страже у моего замка; семь лет не должен ты ни стричь, ни мыть головы, бороды и ногтей, ни умываться, ни чиститься, ни отряхаться, ни помадиться; семь лет ты не должен пользоваться никаким светом, кроме солнечного света днем и лунного или звездного ночью, и пить ты будешь только доброе вино, а есть солдатский хлеб; и за все это время ты не должен читать никаких молитв». Ландскнехт на все согласился и сказал духу: «Все, что ты мне запрещаешь, делал я всю свою жизнь с неохотой: не любил я ни, гребня, ни мыла, ни молитвы; а то, что ты мне приказываешь, за хороший стакан вина делать мне будет не трудно». Затем он надел медвежью шкуру, и дух перенес его по воздуху в свой пустынный замок, стоящий посреди моря, где он и поступил сразу к нему на службу. Шесть с половиной лет охранял его замок ландскнехт в своей медвежьей шкуре, от которой он и получил свое прозвище; волосы на голове и в бороде у него так отросли и сбились в войлок, что мало следов в нем осталось от образа божия и подобия; петрушка выросла у него на коже, что имело вид крайне жуткий.
С трепетом посмотрела Белла при этих словах на просо на голове альрауна, который с удовлетворением провел рукой по нему, уверенный в превосходстве своей красоты над нечистоплотным ландскнехтом.
– Прошло шесть с половиной лет, – продолжала Брака, – и дух явился опять к ландскнехту, полюбовался на него, сказал, что больше в нем не нуждается, и отпустил его опять к людям, но с условием, что он еще полгода сохранить свой дикий вид; теперь же он с ним рассчитается и выдаст ему заработанные деньги, а на них он может жить в свое удовольствие. Ландскнехт вовсе непрочь был возвратиться к людям, потому что он и говорить-то почти разучился, и попросил духа перенести его через море в Германию, в Граубюнден, в те времена самое неопрятное место на всей земле. И все-таки даже там ни один хозяин не хотел пустить его к себе на постоялый двор, пока он не швырнул в лицо одному из них полную пригоршню дублонов и полную пригоршню пиастров; тогда тот отвел ему свои лучшие комнаты, чтобы он не спугнул со двора других постояльцев. Когда же папа, при помощи своих икон правящий всем христианским миром, проезжал через Граубюнден, возвращаясь в Рим с Констанцского собора, дух явился к Медвежьей шкуре и расписал его комнату изображениями всяких замечательных людей – и покойников и еще не родившихся, как, например, Антихрист, а также нарисовал страшный суд, чему хозяин немало подивился, но все-таки заставил Медвежью шкуру очистить свои комнаты и проспать в свином хлеве ту ночь, на которую папа остановился у него, папу же положил он в комнату, столь прекрасно расписанную Медвежьей шкурой. Когда папа на другое утро проснулся, то первым делом спросил об удивительном художнике, что так искусно разукрасил комнату. Хозяин рассказал все, что о нем знал, и должен был позвать его наверх из свиного хлева. Папа же приветливо поздоровался с ним и спросил, кто он такой, а ландскнехт назвал себя Медвежьей шкурой; тогда папа спросил его, правда ли, что это он написал такие прекрасные картины. «Кто же еще?» – отвечал Медвежья шкура. Тогда похвалил его папа, как первейшего художника в свете, и сказал ему, что есть у него три любимых побочных дочери, и старшую зовут Прошлое, вторую – Настоящее, а третью – Будущее; ежели он напишет их портреты, изобразив, какою каждая из них станет через несколько лет, то может взять себе в жены ту, какая ему полюбится. Медвежья шкура обещал это сделать, в надежде на своего духа. Папа повел речь дальше: «Но ты можешь обморочить меня, что они такими станут в будущем, как ты изобразил, и ежели случится не так, а ты уже вкусишь тем временем любви моей дочери, что мне делать тогда? Посему прежде я тебя испытаю. Я покажу тебе лишь мою младшую дочь Будущее, а ты, глядя на нее, напишешь двух старших, Настоящее и Прошлое; выполнишь ты это – девица будет твоя, не выполнишь – отдашь мне все свое богатство, о котором хозяин мне рассказывал». Медвежья шкура на все согласился, побежал рядом с папской каретой, поддерживал ее, когда она кренилась набок, и так оба они благополучно прибыли в Рим. В тот же вечер представил ему папа свою дочь Будущее, которая была замечательная красавица, только волосы у нее были двух цветов; Медвежья шкура влюбился в нее с первого взгляда, она же была в ужасе от его вида. Когда она удалилась, вызвал он своего духа, и тот прилетел с горшком красок и с кистью, и портреты обеих старших дочерей были тотчас же готовы. Когда Медвежья шкура увидел на портрете Настоящее, забыл он любимую свою Будущее и заплакал, что не эта ему досталась. Дух стал утешать его и сказал: «Через полгода твоя невеста будет как две капли воды на нее похожа, таким образом ты в этом портрете показал также то, что требовал папа, то-есть какою станет его дочь со временем; а в портрете третьей дочери, Прошлого, ты увидишь, какою станет в будущем Настоящее». – Когда дух написал и этот портрет, он вовсе не понравился Медвежьей шкуре. Когда же он затем потребовал от духа, чтобы тот изобразил ему Прошлое, какою она станет в будущем, то дух вытер кисть о стену и сказал: «Или расплывется она как облако бесследно, или будет она как образ Будущего, живущий в твоем сердце, который никогда я не сумел бы тебе написать достаточно хорошо». С этими словами дух исчез. На другое утро Медвежья шкура показал портреты папе, который глубоко задумался над ними, затем обнял его и представил своей младшей дочери как жениха. Медвежья шкура в радости своей даже не заметил, как плакала его невеста, когда он разделил на две части свое кольцо, которое могло развинчиваться пополам, и надел половинку его ей на палец. Затем он распрощался, потому что так приказал ему дух ночью, – я позабыла о том рассказать, – и пустился в обратный путь в Германию, чтобы там в Граубюндене дожидаться истечения своего семилетнего срока; после того направился он на Баденские источники, где полгода не вылезал из воды и оттирался самыми грубыми швабрами; дюжину лезвий иступили, пока стригли ему бороду и голову. По окончании этого заказал он себе роскошное платье и поспешил назад к своей любимой. – Она же тем временем приобрела вид, какой имела раньше Настоящее; красива она была попрежнему, только всегда опечалена, потому что страшилась своего жениха и постоянно терпела из-за него насмешки от сестер, оставшихся в девицах. Однажды громко зазвучали трубы, и все три сестры подбежали к окну; в город въезжал красивый чужеземный рыцарь с большой свитой; обе старшие сестры сейчас же возмечтали, что то явился их суженый, и, о чудо! рыцарь остановился перед домом и приказал доложить о себе. Они охотно пригласили его войти, и он представился им как отдаленный их родственник, который желал бы жениться на одной из них и просит принять от него дары. Обе старшие жадно схватили подарки, меньшая же осталась стоять в стороне, одинокая, как горлинка; обе старшие из кожи лезли, чтобы угодить гостю, но они уже больше ему не нравились: Настоящее с виду походила теперь на прежнюю Прошлое, а Прошлое потускнела в лице, словно алебастровая статуя, долго стоявшая под сточным желобом, милая же Будущее цвела красотой, и волосы ее блестели ровным золотистым цветом. Все же сначала он полюбезничал со старшими, чтобы испытать чувство меньшой; она же продолжала держать себя тихо и скромно, покуда те чванились, и тогда он объявил ее своей невестой и навинтил ей на палец другую половину кольца. Радостью запылало сердце покинутой; тут вошел папа и благословил их обоих. Когда же молодых повели к брачному ложу, обе старшие сестры впали в такое отчаяние, что одна из них повесилась, а другая бросилась в воду. Ночью к Медвежьей шкуре в последний раз явился дух, держа на руках трупы обеих девиц, и сказал: «Ты выполнил все, что мне обещал, и я теперь в выгоде: мне достались две дочери, тебе же – одна. Будь здоров и береги свое сокровище».









![Книга Русская живопись первой половины XIX века. Романтизм, академизм и бидермайер [статья] автора Елена Кукина](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)