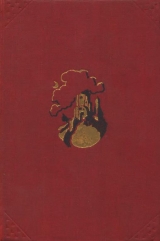
Текст книги "Немецкая романтическая повесть. Том II"
Автор книги: Иозеф Эйхендорф
Соавторы: Генрих фон Клейст,Клеменс Брентано,Ахим фон Арним
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)
– Но почему нее, – перебил старуху альраун, – сестры так разозлились, когда те улеглись в постель?
– Потому что те поженились, – ответила Брака.
– А что значит жениться? – спросил альраун.
– Этого тебе не понять, – сказала старуха.
Альраун хотел обернуться, чтобы своими подозрительными глазами прочитать мысли Браки, но вдруг в ужасе закричал, прыгнул под стол и запрятался под заплатанную юбку старухи.
– Что за пугало тебе привиделось? – воскликнула старуха, взглянула туда же, куда он посмотрел, и с криком бросилась на денежный ящик, а Белла боязливо уткнулась головой в колени и не решалась поднять глаза.
– Живые люди – сущие дураки, – раздался грубый голос: – страшную мою историю слушают они с удовольствием, а меня самого боятся увидать. Опомнитесь, не то я так заору, что все бревна рухнут под вами и над вами!
– Ну, что ему нужно, Медвежьей шкуре? – проговорил альраун из-под юбки старухи, – послушаем, что он скажет.
– В какую мышиную нору ты там залез, карапуз? – спросил Медвежья шкура.
– В такую, что тебе, дылде, не залезть, – ответил альраун; – ну же, поторопись, а то я задохнусь тут от жары, да и мухи меня кусают! Чего тебе надо от нас, грязнуха?
– Ах, – вздохнул Медвежья шкура, – покуда я жил, я так любил свои денежки, что остаток их замуровал здесь в стену и должен их охранять после моей смерти; верните же мне мою единственную радость!
– Отдай их ему, – залепетала старуха, – не то он свернет нам шеи.
– Нет, – закричал малыш. – не получишь ты ни одного хеллера! Заслужи его сначала; парень ты здоровенный и можешь быть нам полезен, если только приведешь в порядок свое тело, да пообчистишься хорошенько, чтобы показаться на земле в качестве нашего слуги.
– Ах, что касается тела, – сказал Медвежья шкура, – то дело идет лишь о двух-трех окостенениях в жилах, отчего я и умер; мне ничего не стоит соскрести их острым ножом, только вот служить на земле такому ваньке-встаньке, как ты, малыш, – проклятая для меня работа; тяжелое это наказание за мою скупость!
– Э? что ты там брешешь! – сказал альраун и вылез из-под юбки старухи; – я не так уж мал, но ты-то, вот, чересчур велик, и уж не знаю, что мне больше по вкусу; маленький проскользнет и проползет туда, куда никак не протискаться большому; словом, хочешь служить мне верой и правдой – будешь получать от меня по дукату в неделю, пока не накопишь себе опять своего сокровища.
– Принимаю условия, – отвечал Медвежья шкура; – завтра ночью вернусь я со своим настоящим телом, ежели успею обзавестись им; возле меня похоронен слуга знатного барина, с ним я поменяюсь одеждою, тогда шелковый мой камзол не будет бросаться в глаза, а бедному малому будет утешенье встать из гроба в день страшного суда в таком пышном костюме; он всегда лежал так тихо и чинно возле меня, только разве немножко похрапывал.
– Ладно, – сказал альраун, – бабам моим не по себе тебя слушать; сворачивайся, парень!
– Ну, до свиданья, – сказал Медвежья шкура; – значит, по рукам! Только вот, один дукат попросил бы я в счет платы вперед: я заложил кой-какую мелочь могильным червям, так хотелось бы ее выкупить.
– Держи, – сказал альраун, с трудом вытащив дукат из кучи, на которой лежала старуха (она ему прошептала тихонько: «Дай ему половину, хватит с него!»), – вот тебе дукат, служи мне хорошо, не раскаешься!
Медвежья шкура исчез, но прошло еще несколько минут, прежде чем Брака и Белла решились поднять глаза. Маленький Корнелий издевался над ними, а они не могли побороть в себе известного уважения к нему.
– Только бы не сбежал от нас этот верзила со всем нашим добром! – сказала Брака.
– Может ли это быть? – возразил альраун; – дух всегда связан своим словом; вам, людям, в этом нет нужды, раз вы не боитесь за свою душу после смерти.
– Ну, а ты – дух или человек, милый Корнелий? – спросила Белла.
– Я? – буркнул альраун; – глупый вопрос! Я есть я, а вы – не я, и я стану фельдмаршалом, а вы останетесь тем, чем вы были. Отстаньте от меня с вашими проклятыми, каверзными вопросами! Много думать о них, пузырь вздуется в мозгу, как от морского хрена на коже.
– Откуда ты знаешь это про морской хрен? – спросила Брака.
– Когда я был там наверху под виселицей, подле меня рос морской хрен, который всегда хвастался тем, что может вызывать пузыри и что глаза слезятся от него; он называл это своим трагическим свойством. Покойной ночи! – крикнул: он в заключение. – Брака, до свиданья! проваливай и не забудь мне поскорее достать маршальский жезл.
Когда он ушел, Брака обсудила все, что еще необходимо было для их путешествия, которое твердо и окончательно было назначено на следующую ночь. На другой вечер Белла еще раз вошла в свой садик; воспоминания охватили ее, каждая ветка имела для нее значение. Она вспомнила ночь, когда увидела эрцгерцога, но самого его она совершенно забыла; его черты стерлись из ее памяти, да она и мало печалилась об этом; она радовалась, что отправляется в мир людской, но страшилась тех, кто ее окружали, и предчувствие, что они дурно к ней отнесутся, болезненно сжимало ее сердце; ей было стыдно за себя, потому что она помнила своего отца, и все чувство благодарности к Браке, вся радость, какую она испытывала от преуспевания так смело и счастливо добытого ею корневого человечка, не могли подавить этот стыд. Наследница высокого египетского рода, она доверчиво смотрела на звезды, словно на своих предков, и в эту холодную октябрьскую погоду чувствовала летний зной своей страны, когда воды Нила вступают в берега и все принимаются за работу; но она сознавала также древнее прегрешение своего народа, отказавшего в приюте святой матери божией во время ее бегства в Египет, когда она с младенцем-спасителем попала под страшный дождь; но младенец тогда очертил ручкой круг в воздухе, и над ними простерлась радуга, оградившая их от дождя.
– Неужели наша вина еще не искуплена! – вздохнула Белла и около месяца увидела дивный цветной круг; сердце ее возликовало и сотворило бессловесную молитву. – С какими мечтами любимый мой отец Михаил, – подумала Белла, – глядел на те холмы, ожидая первых лучей солнца! и больше я уже не увижу их здесь в тиши! Что хотят от меня те, кто меня окружают? Я побегу вдаль, покуда ноги будут меня держать, – мир ни для кого не закрыт!
Стремление к свободе воодушевило ее, а Брака, тем временем подошедшая к ней, тихо прошептала ей на ухо:
– Медвежья шкура уже все навьючил, Корнелий едет у него на спине; хочешь ты еще что-нибудь захватить с собой?
– Конечно, – отвечала Белла, – моих кукол и волшебную книгу.
– Ах, милое дитя, – сказала старуха, – все это дурак Медвежья шкура побросал в печку; ну не сердись, не о чем горевать.
Белла поникла головой:
– Значит, со всем я должна расстаться, со всем, во что я играла!
– Да, милая девочка, – молвила Брака и обняла ее, – уже недели две, как я собиралась сказать тебе об этом; ты теперь выросла, ты уже невеста; что же ты не радуешься, бесенок? Груди твои стали, как наливные яблоки, а ты и не заметила; месяцу есть что обласкать своими лучами.
– Ты с ума сошла, старуха! – произнесла Белла.
– Ах, постой, – сказала Брака, – теперь ночь, и мне тоже можно разок забыть, что я, как помело, таскаюсь по миру, подметая всякую пыль, всякий сор, и оттого и сама стала грязнухой. А ведь и я была молоденькой и хорошенькой, пела и сочиняла песни с нашими молодыми красавчиками и вижу, что ты теперь такая, как я была тогда, и ничего-то ты о себе не знаешь, и думаю я о тебе и радуюсь за тебя. Взгляни на себя, – большая ты выросла девушка, сколько веселья перед тобой! Куда ни посмотришь, каждый ищет тебя; протяни только руку – у всех кровь взыграет, все лепечут, робеют, беснуются, ласкаются, а погляди ты сначала на одного, потом на другого, – уж непременно они подерутся, и кровь свою ни в грош не ставят, и готовы пролить ее за тебя.
– Боже мой, – воскликнула Белла, – что за несчастья поджидают меня! Лучше бы мне бежать поскорей отсюда и скрыться совсем от людей!
Брака удержала ее и сказала: – Как, ты хочешь бежать, непослушный ребенок? Посмей только – я уж доберусь до тебя, я уж выпорю тебя крапивой! Ну, и глупа ты еще! Говори гусыне о любви – толку от нее не добьешься. Ну, пойдем домой, нечего терять времени, другой раз я побольше тебе порасскажу!
Она втолкнула Беллу в дом, и странно взволнованная тем, что слышала, и еще более тем, что ее ожидало, Белла перестала горевать о своих книгах и куклах и даже мало смутилась при виде Медвежьей шкуры, который в своей коричневой ливрее разительно походил на медведя; а на нем верхом уселся альраун, словно обезьянка в человеческом платье, как их показывают на ярмарках. Брака пошла вперед, Белла за нею, Медвежья шкура вышел последним и запер дверь; все шли молча, только Брака ворчала себе под нос, когда не могла сразу отыскать под снегом правильную дорогу. На холме под виселицей шел: большой пляс, но они не обратили на это внимания; раза два их напугали куропатки, вылетевшие с шумом из-под снега. Наконец завидели они внизу в долине деревню Бёйк, и Брака узнала свет в окошке своей старой подруги по воровству, Ниткен.
Они тихо подкрались к садовой калитке, и Брака подала о себе знак, прокричав перепелом. Появилась маленькая девочка, оглядела их, отворила дверь и провела их в погреб, а через погреб вверх по лестнице в светелку, в которую падал свет сквозь дверь соседней комнаты. Брака уверенно прошла в освещенную комнату, где находилась толстая старая женщина, похожая в своем красивом платье из зеленого шелка на гвоздику, потому что из-за него показывались то ее красное лицо и руки, то ее красная шерстяная юбка; старуха стояла на коленях перед маленьким домашним алтарем, украшенным образом богородицы и множеством разноцветных восковых свечек.
– Ну, старое пузо, – заговорила Брака, – ты опять молишься? Видно, так наклюкалась, что продохнуть не можешь?
Госпожа Ниткен, – потому что это она молилась, – оглянулась, махнула рукой и продолжала ревностно перебирать четки. Медвежья шкура пришел тоже в молитвенное настроение и преклонил колени, что сделала и Белла, знавшая много хороших молитв; но Брака, которой были известны все ходы и выходы в доме, достала из стенного шкапа тяжелую кружку пива и выпила за всех. Тем временем альраун пришел в такое удивление от смехотворного хлама, загромождавшего комнату всякими старыми галунами, лоскутами, кухонной посудой, полотном, лежавшими отдельными кучками, – что досыта наглядеться не мог; все было ему ново, но он вскоре уже сумел во воем разобраться. Госпожа Ниткен, которая вела весьма широкие торговые обороты, как старьевщица, собирала всевозможные старинные редкости; в ее доме не было ни одного предмета домашнего обихода, похожего на соответствующие предметы в других домах; но после вполне естественного отбора покупателями из ее запасов наиболее пригодных для обихода вещей, ей самой остались только самые причудливые порождения прихотей прежней моды и капризов богатых людей. Так, например, стулья в светелке представляли собой деревянных мавров, держащих каждый по пестрому зонтику; они стояли когда-то в саду богатого гентского купца, который вел большую торговлю в Африке. Посреди комнаты была подвешена странная крученая медная корона; некогда она освещала упраздненную еврейскую синагогу в Генте, теперь же в ней горела витая разноцветная восковая свеча в честь богоматери. Алтарем служил заброшенный карточный стол, у которого были отодраны кожанные кошельки, и в него была вделана бывшая солонка, наполненная святой водой. По стенам висели тканые ковры, изображавшие старинные турниры, и обветшалое рыцарское вооружение.
Славная госпожа Ниткен, которая для своего промысла, – состоявшего, между прочим, и в укрывательстве краденого, для чего ее дом представлял большие удобства, – пользовалась услугами всех окрестных воров, была связана сердечной дружбой с Бракой, отлично умевшей подольститься к ней своей болтовней. Окончив свое последнее Ave, она поднялась с проворством, неожиданным при ее толщине, подбоченилась перед Бракой и заговорила:
– Ну, что старая шлюха, не до молитв тебе теперь? Твой хозяин, чорт, запретил их тебе? Когда только он тебя унесет? С каждым днем кожа у тебя все больше морщинится. Тьфу, чорт, с твоей образиной я бы не посмела показаться наружу!
– Ты-то молода! – зашипела Брака, – словно старый мой жирный шпиц, когда я его остригу; побрить бы тебе седину на твоей красной роже! Видно, наклюкалась ты нынче перцовки! А ну-ка, спляши нам русскую, старая труба!
– Гайда, за чем дело стало! – протрубила госпожа Ниткен и к общему изумлению пустилась в такой пляс, что, казалось, все ноги себе развихляет; наконец, шлепнув себя по бедрам, она упала на колени, и все разразились диким смехом, а она закричала, что все кости себе переломала, и потребовала стакан испанского вина.
Только поднеся его к губам, она впервые оглядела своих гостей. Увидев Беллу, она обратилась к Браке:
– Оставь ее у меня, она мне пригодится; что ты с ней замышляешь? Деньжонок добыть с ее помощью?
Брака почтительнейше ей заявила, что это – ее госпожа.
– А это что за жаба? – спросила далее госпожа Ниткен, указывая на Корнелия.
– Я – фельдмаршал Корнелий, – отвечал альраун, – смотри, не зазнавайся, старый петуший гребень!
– Так, так, – продолжала она, – вижу, что ты фельдмаршал из преисподней; ну, а ты кто, ручной медведь? Мне твоя ливрея что-то знакома. Да, да, я же выменяла ее господину фон Флорису за новую, в которой он не хотел хоронить своего старого слугу. В конце концов не так уж она плоха, чтобы не польститься на нее; по всему видно, что ты выкрал ее из могилы!
Медвежья шкура, к которому относились ее слова, вместо ответа хватил ее в зубы так, что старуха мигом протрезвилась и спросила, что им будет угодно.
Тогда Брака рассказала ей, что им требуются нарядные одежды и лучшая ее парадная карета, чтобы спозаранку ехать в Гент и снять там какой-нибудь дворянский дом, сдающийся внаймы.
Госпожа Ниткен сразу смекнула всю выгодную сторону такого дела, мигом разбудила своих людей и принялась бегать по всему дому, выискивая все, что только могла наилучшего. Целые охапки платьев набросала она в комнату, все подходящее было отобрано и набито в два сундука; с бельем дело обстояло хуже, потому что нидерландцы легче расстаются со своими верхними, чем с исподними одеждами. После того как с платьем все было улажено, госпожа Ниткен притащила жаровню и щипцы, чтобы завить волосы по последней моде. Белле не помогло, что ее волосы вились от природы, тонкому вкусу старухи они не удовлетворяли; бедной девочке показалось, что ее стиснули дьявольские когти, когда горячее железо прижало ее локоны ко лбу. Косы Беллы даже и после стрижки оставались достаточно длинными для модной прически. Царственная осанка Беллы удержала госпожу Ниткен в известных границах; но даже сама Брака, когда умылась и причесалась, приняла более почтенный вид, вроде достойной старой воспитательницы, ибо матерью красавицы Беллы ее все-таки никто бы не признал. И Брака и Белла не могли не щегольнуть своим видом, когда же нарядились в свои шелковые платья, то глаз не могли отвести от зеркала и все охорашивались перед ним.
С фельдмаршалом госпоже Ниткен пришлось больше всего повозиться. Тщетно она подстригала и причесывала его грубые волосы – он оставался все тем же карликом со своим сморщенным лицом, приподнятыми плечами и сдавленным голосом.
– Слушай, малыш, – сказала она, – ежели ты не карлик, то я не почтенная дама!
– Что? – произнес Корнелий, – я – человек, а ты называешь меня карликом? Но что такое карлик?
– Правду сказать, я этого не знаю, – отвечала госпожа Ниткен, – но ты мне представился именно карликом; я думаю, тебя можно было бы за деньги показывать!
– Это, может быть, было бы и неплохо! – сказал Корнелий, подумав при этом, что все, оплачиваемое деньгами, должно обладать большими достоинствами и следовательно любезная собеседница его сделала ему комплимент.
На утро все были полностью снаряжены; Корнелий в своем шлафроке был посажен в красивую вызолоченную карету, его голову поддерживала госпожа фон Брака, девица Брака – его ноги, а Медвежья шкура уселся на козлах. Так пустились они в путь с бьющимся сердцем, отчасти от страха, отчасти оттого, что платья были им тесны, ибо новые наряды никому сразу не бывают впору; конечно, они были набраны из разной ветоши, но все же так дороги, что Медвежья шкура втайне вздыхал о растрате своего сокровища. Они уже ехали с полчаса, когда Корнелий вдруг принялся громко хохотать и сказал:
– Старая кошка думала, что здорово нас надула, но и провел же я ее! В старых сапогах, что она мне надела, зашито замечательное украшение из драгоценных камней; не знаю, как это случилось, но она и не подозревала об этом; распорите-ка осторожно шов этим ножичком!
Брака взялась за работу, взрезала отвороты и нашла драгоценное бриллиантовое ожерелье; от удовольствия она по старому обычаю вцепилась себе в волосы и немедленно растрепала всю свою прическу.
– Ах, как восхитительно оно пойдет ко мне! – сказала она и готова была уже надеть его на свою желтую шею. Но Корнелий потребовал, чтобы его носила Белла, и ссора была бы неминуема, если бы только близость города не отвлекла все внимание старухи. Корнелий без помехи надел на прекрасную Беллу ожерелье, которое в будущем оказалось очень важным для нее.
– Смотрите же, смотрите, детки! – восклицала теперь Брака; – сколько нового перед вами, а вам словно и дела нет до того! Смотрите, какое богатство всюду вокруг! Сколько подвод с товарами тянется в город! Нам и не протискаться между ними!
Но Корнелий и Белла, глядели только на красивых всадников, объезжавших своих коней, и на овец, которых мясники гнали на бойню. Подвода с телятами, которые жалобно мычали, лежа друг на друге, испугала Беллу, так же как испугали ее шум и крики в пригородных шинках, где спозаранку уже с руганью и драками пропивались вырученные деньги.
Наконец они подъехали к городским воротам; вышел горожанин с алебардой и спросил, откуда они.
– Из Хадельна! – отвечала, несколько растерявшись, Брака; – я – госпожа фон Брака, – это вот – моя дочь, а это – мой племянник, господин фон Корнелий.
– Проезжайте! – крикнул привратник, и кучер повез их, трепещущих и торжествующих, что стража не учинила им никаких затруднений, к дому на рыночной площади, который госпоже Ниткен было поручено сдать внаймы; там они без дальнейших приключений вылезли и водворились.
Первые два месяца были посвящены обучению хорошим манерам; были взяты учителя и учительницы, и все промахи в поведении старой почтенной госпожи фон Брака валили на Хадельн, где благородные манеры еще недостаточно глубоко привились. Белла уже скоро приобрела весь лоск великосветского общества; она свободно говорила по-испански. Несмотря на свою замкнутую жизнь, она уже стала предметом разговоров молодых людей, которые ежедневно гарцовали перед ее домом, чтобы увидеть ее и привлечь к себе ее внимание. Хуже всего пришлось господину Корнелию в новом его положении; тесный костюм был ему крайне неудобен, а уроки фехтования утомляли его до полной потери сил. В манеже, несмотря на свои яростные гримасы, он не мог избежать насмешек над собой, как над каким-то диковинным зверьком; самые смирные лошади под влиянием его вечного беспокойства дичали и сбрасывали его с седла. Но его ничем нельзя было напугать, он опять вскакивал на них, и нередко это повторялось по десяти раз в час; никакой другой человек не выдержал бы этого. Успешнее шло остальное его образование; он часто посрамлял своим красноречием учителя риторики и раздражал его своим издевательством. Он ловко мог подражать языку большинства других людей, но своего собственного языка у него не было; все же его злая воля, пользуясь тем, что его проницательный взгляд умел выведывать затаенные мысли, приобрела ему много знакомых, которые ему покровительствовали и наладили его отношения с людьми; всякая городская новость докладывалась ему, и он умел так интересно и остроумно развить и пересказать ее, что она начинала передаваться из уст в уста, и по городу пошла о нем молва, которая, наконец, достигла и до эрцгерцога.
В это время эрцгерцог получил известие, что из-за пропущенного им титула в письме к своему деду Фердинанду тот лишил его наследства; это случилось как раз в тот момент, когда он вернулся домой раздосадованный тем, что убил беременную козулю, приняв ее за самца. Оба эти события маленький Корнелий сейчас же связал одно с другим и поручил пажу передать эрцгерцогу, что, чем охотиться за дедушкой, он бы лучше застрелил козла в лесу.
Герцог услышал эти слова и, будучи человеком веселого нрава, приказал пажу пригласить насмешника к столу. Маленький Корнелий вошел в комнату не без внутреннего трепета, но с тем большей дерзостью и бесстыдством; Карл был в расцвете своей молодости, и чувство сострадания умерило смехотворное впечатление, произведенное на него маленьким бодрым пареньком. Карл стал расспрашивать его о его стране, и карлик проявил неисчерпаемое остроумие в описаниях хадельнских крестьян, так что все слушатели поклялись бы, что все это правда. От похвал, которыми пичкали его, как конфетами, он заносился все выше и выше в своем тщеславии, подобно морскому жителю, когда ослабляется нажим сильной руки; он начал хвастаться поединком, в котором бился за честь своих дам с двумя чужими рыцарями и обоих их убил, сам же был ранен в грудь и прибыл в Гент полуумирающим. Когда некоторые задали ему вопрос о пользовавшем его хирурге и с явным недоверием отнеслись к его самоуверенному тону, он расстегнул свой жилет и показал свою рубчатую кожу корнеплода, и все приняли эти рубцы за следы ран.
После этого подвига он стал похваляться своими богатствами и знатным родом; его тетка Брака оказалась такою родовитою придворной дамой, такою образованной, доброй, нежной, такого тонкого обращения, что в Генте не сыскать подобной. Белла красотой своей, по его описанию, превосходила Елену; при этом он рассказал о ее невинности множество анекдотов, которые, конечно, были справедливы, только им никто не хотел верить, потому что никто не знал ее странного воспитания и натуры. В заключение он намекнул, что женится на ней. Эрцгерцог почувствовал даже своего рода томление по ней, но, привыкши с раннего возраста скрывать свои чувства, он постарался только, не выходя из шутливого тона, убедить малыша появиться когда-нибудь в свете со своею невестой и предложил ему осуществить это на ближайшей ярмарке в Бёйке, которую посетит множество как знатных, так и простых жителей Гента. Малыш попался на удочку и указал дом госпожи Ниткен, как место, где он будет принимать гостей со своими родственниками. Уговорившись об этом, они расстались, но в эрцгерцоге, который близко не знавал еще ни одной девушки и большинство их находил неинтересными для себя, зародилось такое сильное предчувствие страсти, что он вероятно влюбился бы в невинное и таинственное существо Беллы даже помимо ее красоты, с каждым днем расцветавшей все больше и больше. Обратившись к Ценрио, который не раз и при менее важных обстоятельствах умел завоевать его доверие готовностью пожертвовать ради него своим долгом, он посоветовался с ним, каким образом они могли бы ускользнуть от строгого надзора главного наставника его, Адриана Утрехтского. Ценрио обещал достать старинную книгу и подделать к ней заглавный лист, чтобы Адриан принял ее за неизвестное ему добавление к Сентенциям Петра Ломбарда, к которым он писал комментарий; он скажет, что эту книгу продает госпожа Ниткен, и тот тотчас же захочет с ней ознакомиться и отпустит их туда, куда влечет их желание. Эрцгерцог очень обрадовался такому предложению. Ничто так не улыбалось молодому князю, как, удовлетворив свою страсть, в то же время посмеяться над своим мудрым наставником.
Когда вместе с винными парами, отуманившими головку корневого человечка, несколько рассеялось и опьянение почестями, оказанными ему на приеме у эрцгерцога, он вспомнил все подробности своей беседы с ним, – как он выдал себя за жениха Беллы и как он обещал ее показать на ярмарке. В тщеславном упоении он потирал руки и не мог удержаться, чтобы не рассказать всего Медвежьей шкуре, который, как все слуги, при всей своей глупости был достаточно смышлен, чтобы уметь лестью выманить себе лишний магарыч от хозяина. Это окончательно укрепило малыша в убеждении, созревшем в нем уже из подражания его знакомым, что он влюблен в Беллу, и ее нежность, в которой проявлялось своего рода материнское чувство к нему, принимал он за такое же любовное чувство; он так был уверен в своем успехе, что не находил нужным своими испытующими глазками следить за тем, как все менялось в ней, как она уже не только глазами искала весеннее солнце, но и сердцем своим жаждала любви. Ему неведомо было могущество весны, которая с небес шлет свой зов во все окна: «Девушки, взгляните на юношу, что похож на меня!»
И Белла также слышала голос весны; она то и дело, отрываясь от работы, подбегала к окну, и уже через несколько дней в ней совершилась закономерная и естественная перемена. Однажды в отсутствие малыша, жившего в комнате, выходившей на улицу, она лишь одним глазком выглянула в окошко сквозь плотно занавешивавшие его ковры как раз в ту минуту, когда эрцгерцог со своей свитой проезжал мимо; но ее сердце поразил удар, столь же сильный, как тот, что оглушил ее на холме под виселицей, только не сопровождавшийся тогдашним страхом; память ее прояснилась, и подобно золотому руну, висевшему на крепкой нерасторжимой цепи вокруг шеи эрцгерцога, всей душою своей она, этот нежный, милый агнец, осталась прикованной к его взорам; и все, что она испытала к нему в своей душе, перед тем как была поражена волшебным ударом на холме под виселицей, вновь полностью ожило под воздействием ясных его очей. Да, как только он скрылся из виду, она всплеснула руками над головой и так горько заплакала о ненавистной своей доле, что Брака поспешила к ней, но долго не могла добиться от нее ни слова и кончила тем, что вместо утешения сама стала выть, вторя ей. Белла должна была, однако, кому-то поверить свои чувства, и потому в конце концов она ей призналась, кого она вновь увидела, как ненавистно стало ей отныне все ее обучение, связанное с городской жизнью, как радовалась бы она теперь в маленьком загородном домике у оконца светелки, любуясь вблизи и вдали весною и летом, которые теперь дают ей о себе знать разве только отдельными древесными ветками и сорванными букетами цветов.
– Матушка, – вздохнула она, – как хотела бы я в одинокие ночные часы тихо, ничем не тревожимая, смотреть на поля и молиться!
Услышав это, Брака весело хлопнула в ладоши и сказала:
– Вот, ты понимаешь теперь, что я тебе говорила в саду, перед тем как мы двинулись в Бёйк? Ну, если дело только за этим, то я тебе укажу средство, которое тебе лучше поможет, чем вздохи и молитвы. Ты должна его получить, и ты получишь его, милое мое дитя, – ведь это давнишний затаенный мой план, одобренный и главарями нашего народа. От этого будущего наследника половины мира у тебя должен быть ребенок, который, пользуясь любовью своего могущественного отца, соберет рассеянные по Европе остатки твоего народа и отведет их в святую египетскую отчизну. Не плачь же, от слез тускнеют твои очи, я ведь желаю только твоего счастья.
– Но каким образом у меня может быть от него ребенок? – спросила Белла. – Достанет он мне его, что ли, из колодца, про который рассказывал мне отец, что пока один держит лестницу, другой спускается вниз.
– Милое дитя, – с лукавством ответила Брака, – когда ты останешься с ним наедине, ты получше его попроси об этом, и если он будет в милостивом настроении, он вероятно в одну минуту удовлетворит твою просьбу, а сил-то у тебя хватит, чтобы подержать ему лестницу!
– Ах, мой Карл такой добрый! Это сказали мне его глаза, его чело, когда, проезжая мимо, он снял свой берет перед старым одноногим инвалидом; он, конечно, сделает мне приятное! – воскликнула Белла; – мы передадим ему это через малыша.
– Ради мозолистых ног нашей пречистой девы, прошу тебя, – сказала Брака, затыкая ей рот рукой, – не говори ему ни слова, потому что имей в виду, что по злобе своей он никогда тебе не простит, что до сих пор ты втирала ему очки, будто он твой милый.
– Мой милый? Нет, он никогда им не был, – сказала Белла, – но, правда, я любила его до этой минуты; а теперь я предпочла бы, чтобы мы его оставили там наверху около редьки: он кажется мне до того непохожим на человека, я сама даже не знаю, почему.
– Ну, что же, дитятко, – продолжала Брака, – не могу не согласиться с тобой; я и то все время удивлялась, как это ты можешь так ласково позволять садиться верхом к себе на колени этому гадкому сморчку, который причинял тебе столько жгучего горя, рвал твои книги на хлопушки, проливал тебе суп на платье. Но будь умна, слушайся меня и не подавай виду; если мне удастся ухватить его проклятые глазки на затылке, я вырву их ему, так что он не успеет и оглянуться. Он должен нам раздобыть денег и доставить случай увидеться с эрцгерцогом; только хорошенько подольстись к нему со своей любовью.
– Но ведь это же будет нечестно! – возразила Белла.
– Что за глупости! – воскликнула Брака; – добро бы, если бы он был человеком, но что нечестного можно сделать старому корешку. Любой другой, кроме нас с тобой, и церемониться с ним не стал бы, а изрезал бы его на мелкие кусочки и сварил; хватит с него чести, что мы с ним нянчимся, как с куклой. Знаю, нам нелегко будет от него отделаться, но у меня на этот случай есть свой план с Медвежьей шкурой: он сыт по горло своей службой и только и мечтает улечься опять в могилу, вот он и прихватит его туда со своим сокровищем. Раз эрцгерцог полюбит тебя, нам не нужно никаких этих сокровищ, он не даст нам умереть с голоду.
Сгорая от нетерпения увидеть эрцгерцога, Белла согласилась на все; она обещала проявить как можно больше нежности к малышу, и ей представился к тому случай уже в ближайшие дни, когда он, вернувшись домой от эрцгерцога, впервые заговорил с ней о будущем – как они сыграют свадьбу в Генте и останутся там жить.
Присутствовавшая при этом Брака ехидно его спросила, как же обстоит теперь дело с его военной карьерой, скоро ли произведут его в генералы или в капралы. Он самодовольно усмехнулся и намекнул, что он распоряжается эрцгерцогом, как хочет, и назначение ему обеспечено; затем рассказал он, как уговорился с ним о встрече на ярмарке в Бёйке, и заявил, что они должны заказать себе комнату получше у госпожи Ниткен. Брака порадовалась втайне, для виду же возразила, что госпожа Ниткен знает, кто они такие, и может их выдать; впрочем и в Генте это, конечно, столь же возможно, но деньгами ее легко заинтересовать в успехе их дела. Итак, увеселительная поездка была решена, и тотчас же была задана портнихам работа сшить им праздничные наряды; такие пошли хлопоты, что даже бедный Медвежья шкура, хоть и был он выходец из гроба, а вспотел до седьмого пота. И правда, добрый малый делал все, что только можно было требовать от живого человека, но при этом ел он с таким аппетитом, что его земная природа ожила новой жизнью, и он все больше убеждался, что ему уже не лежать так спокойно в могиле, как прежде, и такая иногда подымалась в нем распря между живым и мертвым телом, что вся кожа у него ежилась и зудела. Такой же разлад мучил его в вопросе о том, кого ему считать своими господами: мертвое его тело считалось с господином Корнелием, а вновь ожившее было всецело предано госпоже Браке и прекрасной Белле, а того господинчика и в грош не ставило. Поскольку же то та, то другая сторона выступала на первый план, мы увидим, что и работал он то на тех, то на других; впрочем, изменять он никому не изменял.








![Книга Русская живопись первой половины XIX века. Романтизм, академизм и бидермайер [статья] автора Елена Кукина](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)