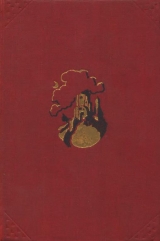
Текст книги "Немецкая романтическая повесть. Том II"
Автор книги: Иозеф Эйхендорф
Соавторы: Генрих фон Клейст,Клеменс Брентано,Ахим фон Арним
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 29 страниц)
Так, пожалуй, звучат голоса леопардов и волков, когда они в морозное зимнее время воют в небо; своды дома, уверяю вас, содрогнулись, а окна, под напором видимого дыхания их легких, угрожали со звоном разлететься вдребезги, словно на их поверхность кидали полные пригоршни тяжелого песку. Обезумев при этом жутком выступлении, мы бросились с поднявшимися дыбом волосами в разные стороны; мы рассееваемся, оставив плащи и шляпы по окрестным улицам, которые в короткое время, вместо нас, заполнились более чем сотней вспугнутых со сна людей; народ теснится, выламывая двери дома, по ступеням к зале, дабы отыскать источник этого ужасающего и возмутительного рева, который словно из уст навеки осужденных грешников из глубочайшей пучины пламенеющего ада, жалобно прося пощады, возносился к ушам господа. Наконец, когда бьет час, то, не вняв ни гневу хозяина, ни взволнованным возгласам обступившего народа, они замыкают свои уста, утирают платком со лба пот, крупными каплями стекающий у них на подбородок и грудь, расстилают плащи и ложатся на пол, чтобы отдохнуть хоть час от столь мучительной работы. Хозяин, который им не препятствует, осеняет их, как только он увидал, что они задремали, знамением креста и, довольный, что хоть на время избавился от беды, уверяя, что утро принесет целительную перемену, убеждает кучку людей, которые присутствуют при этом и таинственно между собою перешептываются, оставить комнату. Но, увы! уже с первым пением петуха несчастные встают для того, чтобы снова приняться перед стоящим на столе распятием за тот же пустой, жутко-колдовской монастырский образ жизни, который лишь истощение заставило их прервать на одно мгновенье. Они не принимают от хозяина, сердце которого растаяло от их жалостного вида, ни увещаний, ни помощи, они просят его любовно отстранять друзей, которые прежде имели обыкновение собираться у них каждый день по утрам; они ничего другого от него не требуют, кроме воды и хлеба и подстилки, коли то возможно, на ночь; так что этот человек, который раньше извлекал из их веселья много денег, увидел себя вынужденным обо всем этом происшествии доложить суду, прося убрать из его дома этих четырех людей, в которых несомненно вселился злой дух. После этого, по приказанию магистрата, они были подвергнуты врачебному освидетельствованию, и так как их признали сумасшедшими, как вы знаете, их водворили в дом умалишенных, который, по милости последнего покойного императора, на благо такого рода несчастных был основан в стенах нашего города». Это и многое другое рассказал Фейт Готгельф, суконный торговец, что мы здесь опускаем, ибо полагаю, что для проникновения во внутреннюю связь событий мы сказали достаточно; в заключение он снова убеждал женщину отнюдь не впутывать его, если дело дойдет до дополнительного судебного следствия по этому происшествию.
Три дня спустя, женщина, потрясенная до глубины души этим сообщением, под руку с подругой, вышла за город к монастырю с меланхолическим намерением обозреть на прогулке, так как погода была как раз хорошая, место ужасных событий, на котором бог как бы невидимыми молниями поразил ее сыновей; женщины нашли собор загороженным досками, так как именно в это время производилась перестройка, и, с трудом поднявшись наверх, ничего не могли увидеть внутри сквозь отверстия в досках, кроме великолепно сверкающего круглого окна в глубине церкви. Многие сотни рабочих, распевавших веселые песни, были заняты на стройных, сложно перекрещивающихся лесах тем, что повышали еще на добрую треть башни и перекрывали крыши и зубцы их, которые до сих пор были покрыты только шифером, прочной, яркой, блистающей в солнечных лучах медью. В это время стояла грозовая туча, густо черная, с позолоченными краями, как фон, позади здания; она уже извергла свои громы над окрестностями Аахена и, после того как метнула несколько бессильных молний в направлении собора, с недовольным ворчанием опустилась к востоку, растворившись в туманы. Пока женщины с лестницы обширного монастырского жилого здания глядели вниз на это двойное зрелище, погруженные в разнообразные думы, одна из послушниц, проходившая мимо, случайно узнала, кто такая стоящая под порталом женщина; таким образом игуменья, слыхавшая о письме, касающемся дня праздника тела христова, которое та при себе имела, немедленно послала к ней послушницу, поручив ей пригласить нидерландскую женщину подняться к ней наверх. Нидерландка, хотя и на мгновение смущенная этим, тем не менее собралась почтительно повиноваться переданному ей приказанию; и в то время как подруга, по приглашению монахини, удалилась в боковую комнату, находившуюся рядом со входом, для иностранки, которая должна была подняться по лестнице, открыли двухстворчатые двери изящно построенного бельведера. Там она нашла игуменью, благородную женщину, спокойного царственного вида, сидевшую в кресле, опершись ногою на скамейку, покоившуюся на когтях дракона; рядом с нею на пульте лежала партитура музыкального произведения. Игуменья, приказав поставить гостье стул, открыла ей, что она уже слыхала от бургомистра об ее прибытии в город; и после того как она самым сердобольным образом осведомилась о состоянии ее несчастных сыновей, ободряя ее и уговаривая по возможности примириться с постигшей их судьбою, раз ее не изменишь, она высказала ей желание, увидать письмо, которое проповедник написал своему другу, школьному учителю в Антверпене. Женщина, которая обладала достаточной опытностью, чтобы понять, какие последствия мог иметь этот шаг, почувствовала себя на мгновение поверженной в смущение; но так как почтенное лицо дамы вызывало безусловное доверие и никоим образом нельзя было допустить, чтобы ее намерением было дать содержанию письма официальный ход, то после краткого размышления она взяла письмо со своей груди и, напечатлев горячий поцелуй на руке благородной дамы, протянула его ей. Пока игуменья читала письмо, женщина бросила взгляд на небрежно развернутую на пульте партитуру; и так как, благодаря рассказу торговца сукном, она была наведена на мысль, не сила ли звуков разрушила и спутала в тот роковой день душевный строй ее бедных сыновей, она, робко обернувшись, спросила послушницу, стоявшую за ее стулом, не то ли это музыкальное произведение, которое шесть лет назад, в утро того достопамятного праздника тела христова было исполнено в соборе. На ответ молодой послушницы, что то, – она, помнится, слыхала об этом – и что с той поры, когда в этой партитуре не нуждаются, она обычно находится в комнате досточтимейшей игуменьи, – женщина поднялась, в сильном возбуждении, и стала перед пультом, волнуемая разнообразными мыслями. Она рассматривала незнакомые волшебные знаки, которыми, казалось, некий грозный дух таинственно очертил круг, и готова была провалиться сквозь землю, ибо она как раз нашла открытую страницу с Gloria in excelsis. Ей казалось, словно весь ужас музыкального искусства, который погубил ее сыновей, с рокотом проносится над ее головой; при одном этом виде она чуть было не лишилась чувств и поспешно, в безграничном порыве смирения и покорности перед божьим все, могуществом, прижавшись губами к листу, снова опустилась на свой стул. Тем временем игуменья прочла письмо до конца и сказала, складывая его: «Сам господь оградил монастырь в тот дивный день от дерзости ваших тяжко заблудших сыновей. Какими средствами он при этом воспользовался, вероятно для вас, как протестантки, безразлично; вы даже едва ли поймете то, что я могла бы вам сказать об этом. Ибо узнайте, что, в конце концов, никто не ведает, кто собственно, под давлением того страшного часа, когда иконоборческий погром должен был над нами разразиться, управлял, спокойно сидя за органом, тем произведением, которое вы видите тут раскрытым. Свидетельским показанием, которое было записано на утро следующего дня в присутствии монастырского кастеляна и нескольких других мужчин и помещено в архив, установлено, что сестра Антония, единственная, которая могла дирижировать этим творением, в течение всего времени его исполнения, больная, без сознания, совершенно не владея своими членами, лежала распростертая в углу своей монастырской кельи; послушница, которая была назначена, как родственница, состоять для ухода при ней, в течение всего того утра, когда в соборе справлялся праздник тела христова, не отходила от ее постели. Более того, сестра Антония несомненно сама подтвердила бы, что столь необычным и удивительным образом появившаяся на хорах органа, была не она, если бы ее совершенно бесчувственное состояние дозволило ее об этом расспросить и если бы больная не скончалась в вечер того же дня от нервной горячки, которая ее уложила в постель и раньше вовсе не казалась опасной для жизни. Да и архиепископ Трирский, которому было донесено об этом происшествии, уже произнес то слово, которое одно его объясняет, а именно, что святая Цецилия сама совершила это страшное и в то же время дивное чудо; а от папы я только что получила грамоту, коей он это подтверждает». И при этом она дала женщине письмо, которое она выпросила у нее лишь для того, чтобы получить более подробные разъяснения о том, что она уже знала, обещав не давать ему никакого хода; и после того как она еще расспросила женщину, есть ли надежда на выздоровление ее сыновей и не может ли она поспособствовать этому чем-нибудь, деньгами или другой какой поддержкой, на что та, целуя ее одежду, со слезами дала отрицательный ответ, она ласковым жестом руки отпустила ее.
На этом кончается легенда. Женщина, присутствие которой в Аахене было совершенно бесполезно, оставив маленький капитал, который она внесла в суд в пользу своих сыновей, отправилась обратно в Гаагу, где, год спустя, глубоко потрясенная всем происшедшим, вернулась в лоно католической церкви; сыновья же ее умерли в преклонном возрасте ясной и радостной смертью, после того как они еще раз, согласно своему обыкновению, пропели Gloria in excelsis.
Перевод Г. Рачинского
ПОЕДИНОК
Герцог Вильгельм Брейзахский, который со времени своей тайной связи с одной графиней, по имени Катарина фон Геерсбрук, из рода Альт-Гюнинген, бывшей ниже его по рангу, жил во вражде со своим сводным братом, графом Яковом Рыжебородым, возвращался в последних годах четырнадцатого века, как раз при наступлении сумерек ночи святого Ремигия[8]8
То-есть в ночь на 1 октября.
[Закрыть], после свидания в Вормсе с германским императором, во время которого, за неимением законных детей, умерших у него, он выхлопотал у этого властелина узаконение прижитого им со своей супругою еще до брака незаконного сына, графа Филиппа фон Гюнингена. Радостнее, чем в течение всего своего правления, глядя в будущее, он уже достиг парка, расположенного позади его замка, как вдруг из темноты кустов вылетела стрела и пронзила ему тело под самой грудною костью. Господин Фридрих фон Трота, его камерарий, крайне пораженный этим происшествием, доставил его с помощью нескольких других рыцарей в замок, где он в объятиях своей потрясенной супруги еще нашел силы прочитать на собрании имперских вассалов, спешно созванных по распоряжению последней, императорскую грамоту об узаконении; и после того как не без сильного сопротивления вассалов, ввиду того, что по закону престол переходил к его сводному брату, графу Якову Рыжебородому, они исполнили его последнее решительное желание, с оговоркой получения согласия императора, и признали графа Филиппа наследником престола, а ввиду его малолетства, мать его опекуншей и регентшей, он опустился на ложе и умер.
Герцогиня вступила без дальнейших задержек на престол, при простом уведомлении о том через нескольких делегатов ее зятя, графа Якова Рыжебородого; и то, что предсказывали некоторые придворные рыцари, думавшие, что достаточно знают замкнутый характер последнего, то, по крайней мере с виду, и случилось; Яков Рыжебородый, мудро взвесив обстоятельства, перестрадал в душе обиду, нанесенную ему братом; во всяком случае он воздержался от каких бы то ни было шагов, направленных на то, чтобы разрушить последнюю волю герцога, и пожелал своему юному племяннику от всего сердца счастья на троне, которого тот достиг. Он описал депутатам, которых он очень радушно и ласково пригласил к своему столу, как после смерти своей супруги, оставившей ему королевское состояние, он, свободный и независимый, живет в своем замке; как он любит жен соседних дворян, собственное вино и охоту в обществе веселых друзей и как крестовый поход в Палестину, которым он рассчитывает искупить грехи бурной юности, – увы, по его собственному признанию, еще более умножившиеся с возрастом, – составляет единственную заботу, о которой он помышляет к концу своей жизни. Напрасно его оба сына, воспитанные в определенной надежде на наследование престола, делали ему самые горячие упреки в бесчувственности и равнодушии, с каким он совершенно неожиданно примирился с этим непоправимым ущербом их притязаниям; он приказал им, как еще безбородым, короткими, насмешливыми и властными словами сидеть смирно и принудил их в день торжественных похорон последовать за ним в город и там, как подобает, проводить, идя рядом с ним, до могилы старого герцога, их дядю; и после того как в тронной зале герцогского дворца, он, в присутствии регентши-матери, подобно другим вельможам двора, принес присягу молодому принцу, своему племяннику, он, отклонив все должности и звания, которые последняя ему предложила, и сопутствуемый благословениями сугубо почитавшего его за великодушие и умеренность народа, возвратился в свой замок.
Герцогиня приступила, после этого нежданно благополучного устранения первых притязаний, к выполнению второй обязанности регентши, а именно к назначению расследования относительно убийц своего мужа, коих, как уверяли, видели целую шайку в парке, и с этой целью сама вместе с господином Годвином фон Герталем, своим канцлером, внимательно рассмотрела стрелу, положившую конец его жизни. Между тем в ней не нашли ничего такого, что могло бы изобличить ее владельца, кроме разве того, что она была сработана необычно изящным образом. Крепкие, завитые и блестящие перья были воткнуты в древко, стройно и крепко выточенное из темного орехового дерева; перекрытие переднего конца было из блестящей меди, и лишь острие, отточенное, как рыбья кость, было из стали. Видимо, стрела была изготовлена для оружейной палаты знатного и богатого человека, который либо был запутан в междоусобных войнах, либо был большим любителем охоты; а так как из даты, выгравированной на головке, видно было, что это могло произойти лишь недавно, то герцогиня, по совету канцлера, послала стрелу, снабженную коронной печатью, по всем оружейным мастерским Германии, дабы найти выточившего ее мастера и, если бы это удалось, то узнать от него имя того, по чьему заказу она была выточена.
Пять месяцев спустя, к господину Годвину, канцлеру, которому герцогиня передала все расследование этого дела, поступило заявление из Страсбурга от одного мастера, изготовляющего стрелы, что пучок таких стрел вместе с принадлежащим к ним колчаном три года тому назад был изготовлен им для графа Якова Рыжебородого. Канцлер, чрезвычайно пораженный этим заявлением, задерживал его в течение нескольких недель в своем потайном шкафу; частью он слишком хорошо знал, как ему казалось, несмотря на вольный и разнузданный образ жизни графа, его благородство, чтобы считать его способным на такое отвратительное дело, как убийство брата; частью также он слишком мало знал, несмотря на многие другие ее прекрасные свойства, справедливость регентши, чтобы в деле, касавшемся ее злейшего врага, не считать себя обязанным действовать с величайшей осторожностью. Между тем он тайно повел следствие в направлении, намеченном этим странным показанием, а так как он случайно разведал через чиновников городского суда, что граф, который обычно никогда или крайне редко покидал свой замок, в ночь убийства герцога отсутствовал из него, то он почел своей обязанностью нарушить тайну и на ближайшем заседании государственного совета обстоятельно осведомить герцогиню относительно странного и необычайного подозрения, которое, благодаря этим двум уликам, падало на ее зятя, графа Якова Рыжебородого.
Между тем герцогиня, которая почитала себя счастливой быть на такой дружеской ноге со своим зятем, графом, и ничего так не опасалась, как задеть его чувствительность необдуманными поступками, к удивлению канцлера, не проявила ни малейших признаков радости при этом двусмысленном разоблачении; более того, дважды перечитав со вниманием бумаги, она выразила живейшее неудовольствие, что дело, столь неопределенное и сомнительное, ставят открыто на обсуждение государственного совета. Она была того мнения, что здесь должны иметь место либо ошибка, либо клевета, и приказала отнюдь не пользоваться этим сообщением перед судом. К тому же, при исключительном, почти фанатическом почитании народа, которым граф по естественному обороту вещей пользовался со времени устранения его от престола, ей казалось, что даже один этот доклад в государственном совете крайне опасен; и так как она предвидела, что городская молва об этом дойдет до его ушей, то послала к нему в сопровождении поистине благородного письма оба обвинительных пункта вместе с теми данными, на которых они должны были опираться, которые она назвала игрою странного недоразумения, с определенной просьбой избавить ее, заранее убежденную в его невинности, от каких-либо опровержений таковых.
Граф, который сидел за столом с компанией друзей, любезно поднялся со своего кресла, когда вошел рыцарь с посланием герцогини. Но едва он прочитал письмо в амбразуре окна, пока друзья его разглядывали торжественно державшего себя человека, который не хотел даже садиться, как он изменился в лице и передал бумаги друзьям со словами: «Братья, смотрите! какое гнусное обвинение в убийстве моего брата смастерили против меня!» Он взял со сверкающим взором стрелу из руки рыцаря и, скрывая подавленность своего духа, добавил, в то время как его друзья в тревоге обступили его, что в самом деле стрела принадлежит ему и то обстоятельство, что в ночь святого Ремигия он отсутствовал из своего замка, обосновано. Друзья проклинали это злобное и гнусное коварство; они сваливали подозрение в убийстве на самих низких обвинителей и уже готовы были оскорбить посланного, который взял под свою защиту герцогиню, свою повелительницу, когда граф, который еще раз перечитал бумаги, вдруг подойдя к ним, воскликнул: «Спокойствие, друзья!» – и затем, взяв свой меч, стоявший в углу, передал его рыцарю со словами, что он его пленник. На испуганный вопрос рыцаря, не ослышался ли он и действительно ли граф признает оба обвинительных пункта, которые выставил канцлер, тот отвечал: Да! да! да! но надеется, что будет избавлен от необходимости доказывать свою невинность иначе, как перед трибуналом формально назначенного герцогиней суда. Напрасно доказывали рыцари, крайне недовольные этим заявлением, что в таком случае он не обязан давать отчет в последовательной связи событий никому, кроме императора; граф, настроение которого вдруг так поразительно изменилось, ссылаясь на справедливость регентши, настаивал на том, чтобы предстать перед местным трибуналом, и, вырвавшись из их объятий, уже крикнул в окно, чтобы ему подали его лошадей, намереваясь, как он говорил, немедленно последовать за посланным в приличествующее рыцарю тюремное заключение; но тут его товарищи по оружию преградили ему насильно дорогу, сделав предложение, которое он в конце концов должен был принять. Они все вместе, составив послание к герцогине, потребовали для него, как права, принадлежащего каждому рыцарю, свободный пропуск, и в обеспечение того, что он явится на учрежденный ею суд и подчинится всему тому, к чему последний его приговорит, они предложили ей поручительство в 20 000 марок серебром.
Герцогиня, получив это неожиданное и непонятное заявление, ввиду отвратительных слухов, которые уже распространились в народе относительно повода обвинения, сочла наиболее разумным, с совершенным устранением собственной особы, передать все на разбор императору. Она послала ему, по совету канцлера, все документы, касающиеся этого происшествия, и попросила его, в качестве верховного главы государства, снять с нее расследование дела, в коем сама она является стороною. Император, который в то время для переговоров с союзным советом как раз находился в Базеле, согласился исполнить ее желание; он тут же учредил суд из трех графов, двенадцати рыцарей и двух судебных заседателей; и после того как он предоставил графу Якову Рыжебородому, согласно ходатайству его друзей, по представлению поручительства в 20 000 марок серебра, свободный пропуск, он предложил ему явиться перед названным судом и дать последнему ответ и отчет по обоим пунктам: каким образом стрела, которая, по его собственному признанию, принадлежала ему, попала в руки убийцы, а также в каком третьем месте находился он в ночь святого Ремигия.
То было в понедельник после Троицына дня, когда граф Яков Рыжебородый с блестящей свитой рыцарей, согласно посланному ему вызову, появился в Базеле перед трибуналом суда и, обойдя первый, как он сказал, совершенно неразрешимый для него вопрос, по отношению второго, который был решающим для предмета тяжбы, высказался следующим образом: «Благородные господа! – и при этом он оперся руками о балюстраду и оглядел собрание своими маленькими сверкающими глазами, затененными рыжеватыми ресницами. – Вы обвиняете меня, который представил достаточно доказательств своего равнодушия к короне и скипетру, в самом ужасном поступке, какой только может быть совершен, в убийстве моего, правда, не очень ко мне благосклонного, но из-за этого не менее дорогого мне брата; и как одно из оснований, на котором вы строите ваше обвинение, вы приводите то, что в ночь святого Ремигия, вопреки привычке, многолетними наблюдениями установленной, я отлучился из моего замка. Мне, конечно, прекрасно известно, какова обязанность рыцаря по отношению к чести той дамы, благосклонность которой тайно выпала ему на долю, и право! если бы небо не собрало над моей главой, как грозу из ясной лазури, это странное и роковое стечение обстоятельств, то тайна, которая спит в моей груди, умерла бы вместе со мною, распалась бы прахом и лишь на призыв трубы ангела, отверзающей гроба, со мною вместе предстала бы пред господом. Однако вопрос, который императорское величество вашими устами ставит моей совести, делает ничтожными, как сами вы понимаете, все стеснения и соображения; и раз вы хотите знать, почему является невероятным и даже невозможным, чтобы я принял участие в убийстве моего брата лично или через другое лицо, то знайте, что в ночь святого Ремигия, следовательно, в то время, когда оно было совершено, я тайно находился у прекрасной, любовно преданной мне дочери областного начальника Винфрида фон Бреда, госпожи Виттиб Литтегарды фон Ауэрштейн».
Надо знать, что госпожа Виттиб Литтегарда фон Ауэрштейн была и самая красивая и, до того мгновенья, когда было произнесено это позорное обвинение, самая безупречная и незапятнанная женщина в стране. Она жила со времени кончины дворцового коменданта фон Ауэрштейна, ее супруга, которого она потеряла через несколько месяцев после брака, вследствие заразной горячки, тихо и уединенно в замке своего отца; и только, по желанию этого старого господина, который охотно увидал бы ее снова замужем, она соглашалась время от времени показываться на охотничьих праздниках и пиршествах, устраиваемых окрестным рыцарством и, главным образом, господином Яковом Рыжебородым. Многие графы и господа из благороднейших и богатейших родов этой страны в таких случаях окружали ее своим ухаживанием, а среди них господин Фридрих фон Трота, камерарий, который однажды на охоте смело спас ей жизнь, защитив ее от наскока раненного кабана, был ей всех дороже и милее; между тем из боязни не угодить своим двум братьям, рассчитывавшим на наследственную долю ее имущества, она, невзирая на все уговоры отца, все еще не могла решиться отдать ему свою руку. Более того, когда Рудольф, старший из двух, вступил в брак с богатой девицей из соседнего поместья и у него после трехлетнего бездетного супружества родился к великой радости семьи продолжатель рода, она, под влиянием многих ясных и неясных заявлений, формально простилась со своим другом, господином Фридрихом, в письме, написанном со слезами, и согласилась для поддержания целости дома на предложение брата занять место настоятельницы в одном женском монастыре, который стоял неподалеку от замка ее отца на берегу Рейна.
Как раз в то время, когда этот план представлен был Страсбургскому архиепископу и дело это должно было быть приведено в исполнение, областной начальник, господин фон Бреда, получил через установленный императором суд уведомление о позоре его дочери, Литтегарды, и предложение доставить ее в Базель для ответа по обвинению, взведенному на нее графом Яковом. В послании были точно обозначены час и место, когда граф, согласно его показания, тайно посетил госпожу Литтегарду, и переслано было даже кольцо, доставшееся ей от ее умершего мужа, которое, как граф уверял, он получил из ее рук при прощании на память о прошедшей ночи. Как раз в день прибытия этой бумаги господин Винфрид страдал тяжким и мучительным старческим недомоганием; в крайне раздраженном состоянии он, прихрамывая, бродил под руку с дочерью по комнате, предвидя уже тот предел, который положен всем, кто дышит жизнью; и при прочтении этого ужасного извещения его мгновенно сразил удар, и он, выронив лист, рухнул с парализованными членами на землю. Братья, которые присутствовали при этом, в испуге подняли его с пола и призвали врача, который жил для ухода за ним в соседнем здании; однако все старания вернуть его к жизни были напрасны; в то время как госпожа Литтегарда без памяти лежала в объятиях своих служанок, он испустил дух, и она, очнувшись, даже не имела последнего горестно-сладостного утешения передать ему в вечность хотя бы одно слово в защиту своей чести. Ужас обоих братьев, вызванный горестным происшествием, и их бешенство по поводу приписываемого их сестре и, увы, слишком правдоподобного позорного поступка, который к этому привел, были неописуемы. Ибо они отлично знали, что граф Яков Рыжебородый действительно в продолжение всего прошедшего лета настойчиво ухаживал за нею; несколько турниров и банкетов было устроено им исключительно в ее честь, и уже тогда она крайне непристойным образом была отличаема им среди других приглашенных им женщин. Более того, они вспомнили, что Литтегарда как раз незадолго до названного дня святого Ремигия уверяла, что потеряла на прогулке то самое, доставшееся ей от ее мужа, кольцо, которое теперь столь странным образом снова нашлось в руках графа Якова; так что они ни на одно мгновенье не усомнились в истинности показания, которое граф дал против нее на суде. Напрасно – в то время как среди плача дворцовой челяди выносили тело отца – охватывала она колени братьев, умоляя хотя бы одно мгновенье выслушать ее; Рудольф, пылая негодованием, спросил, обратившись к ней, может ли она выставить за себя свидетеля в опровержение обвинения, и так как она с трепетом и дрожью ответила, что, к сожалению, не может сослаться ни на что, кроме безупречности своего образа жизни, ввиду того, что ее горничная, отправившаяся навестить своих родителей, в названную ночь отсутствовала из ее спальни, то Рудольф оттолкнул ее от себя ногою, вырвал меч, висевший на стене, из ножен и, бушуя в безобразной страсти и созывая собак и слуг, приказал ей немедленно покинуть дом и замок. Литтегарда встала с пола бледная, как мел; она просила, молча уклоняясь от его насилий, предоставить ей, по крайней мере, необходимое время для устройства требуемого отъезда; однако Рудольф, кипя бешенством, ничего другого не ответил, как: «Вон из замка!» И, не слушая собственной жены, которая стала на его дороге, прося о пощаде и человечности, он толчком рукоятки меча, вызвавшим у нее кровотечение, бешенно отбросил, ее в сторону, и несчастная Литтегарда, ни жива, ни мертва, оставила комнату; она, шатаясь, прошла по двору, преследуемая взглядами толпы, до ворот замка, куда Рудольф велел ей передать узелок с бельем, к которому он присоединил немного денег, и сам с ругательствами и проклятиями запер за нею створки ворот.
Это внезапное падение с высоты ясного, почти ничем неомраченного счастья в пучину необозримого, совершенно безысходного бедствия было больше, чем бедная женщина могла вынести. Не зная, куда ей обратиться, она, шатаясь, стала спускаться, держась за перила, по горной тропе, чтобы найти хотя бы на наступающую ночь какое-либо пристанище; но раньше чем она достигла входа в деревушку, раскинувшуюся в долине, она уже опустилась, совершенно обессиленная, на землю. Освободившись от всех земных страданий, она пролежала, пожалуй, так около часа, и глубокий мрак уже покрыл местность, когда она очнулась, окруженная толпою сердобольных жителей селения. Ибо мальчик, игравший на краю скалистого обрыва, заметил ее там и сообщил в доме родителей о таком странном и поразительном явлении; тогда последние, не раз облагодетельствованные Литтегардой, тотчас же отправились, чтобы оказать ей помощь, насколько то было в их силах. Стараниями этих людей она скоро приведена была в чувство и снова пришла в себя при виде замка, замкнувшегося за нею; однако она отклонила предложение двух женщин проводить ее снова в замок и просила лишь об одолжении тотчас привести к ней проводника, дабы продолжить свое странствование. Напрасно убеждали ее эти люди, что в ее состоянии она не может предпринимать никакого путешествия; Литтегарда, под предлогом, что жизнь ее в опасности, настояла на том, чтобы немедленно покинуть пределы области замка; она даже готова была, так как толпа, не помогая ей, росла вокруг нее, силой вырваться и одна, несмотря на мрак наступающей ночи, отправиться в путь; так что люди по нужде, из страха, как бы господа, в случае если приключится несчастье, не притянули их к ответу, согласились исполнить ее желание; достали для нее телегу, и Литтегарда после повторных вопросов, к ней обращенных, куда собственно она хочет направиться, поехала в Базель.
Однако уже за селом она, после внимательного взвешивания обстоятельств, изменила свое решение и приказала своему проводнику повернуть обратно и отвезти ее в расположенный всего в нескольких милях Тротенбург. Ибо она хорошо сознавала, что без поддержки против такого противника, как граф Яков Рыжебородый, она перед судом в Базеле ничего не сможет сделать; и никто не казался ей более заслуживающим доверия быть призванным на защиту ее чести, чем ее доблестный, любовно все еще преданный ей, как она хорошо знала, друг, славный камерарий, господин Фридрих фон Трота. Было около полуночи, и свет еще мерцал в замке, когда она, крайне утомленная переездом, прибыла туда на своей телеге. Она послала слугу, который встретил ее, наверх, дабы доложить семейству о ее прибытии; но еще раньше, чем он исполнил свое поручение, наружу вышли девицы Берта и Кунигунда, сестры господина Фридриха, которые, случайно по делам домашнего хозяйства, оказались в нижней аванзале. Подруги высадили хорошо им знакомую Литтегарду с радостными приветствиями из телеги и провели ее, хотя и не без некоторого смущения, наверх к своему брату, сидевшему за столом и погруженному в документы, которыми его засыпала одна тяжба. Но кто опишет изумление господина Фридриха, когда он на шум, поднявшийся позади него, повернул голову и увидел, как госпожа Литтегарда, бледная и с искаженным лицом, подлинный образ отчаяния, опустилась перед ним на колени. «Дражайшая моя Литтегарда! – воскликнул он, вставая и подымая ее с полу, – что с вами случилось?» Литтегарда, опустившись в кресло, рассказала ему то, что произошло; какое гнусное показание дал по отношению к ней на суде в Базеле граф Яков Рыжебородый, дабы очистить себя от подозрения в убийстве герцога; как это известие причинило ее старому отцу, страдавшему как раз от некоторого недомогания, внезапный нервный удар, от которого он и скончался через несколько минут на руках своих сыновей; и как последние в бешеном негодовании, не слушая того, что она могла привести в свое оправдание, осыпав ее ужаснейшими оскорблениями, под конец выгнали ее, как преступницу, из дома. Она просила господина Фридриха отправить ее в Базель с подобающими ей провожатыми и там указать ей правозаступника, который при ее выступлении на установленном императором суде мог бы поддержать ее против гнусного обвинения умным и обдуманным советом. Она уверяла, что из уст какого-нибудь парфянина или перса, которого она никогда и в глаза не видала, такое утверждение не могло быть для нее более неожиданным, чем из уст графа Якова Рыжебородого, ибо, из-за своей плохой репутации, а также и своей наружностью, он всегда до глубины души был ей ненавистен, и те любезности, которые он иногда позволял себе ей высказывать во время праздничных банкетов прошлого лета, она постоянно отклоняла с величайшей холодностью и презрением. «Довольно, моя дорогая Литтегарда! – воскликнул господин Фридрих, причем он с благородным жаром взял ее руку и прижал к своим губам; – не тратьте слов для защиты и оправдания своей невинности! В моей груди говорит за вас голос гораздо более живой и убедительный, чем все уверения и даже все юридические доводы и доказательства, какие вы, пожалуй, сможете представить в свою пользу перед судом в Базеле на основании связи обстоятельств и событий. Примите меня, раз ваши несправедливые и невеликодушные братья вас покинули, в качестве друга и брата и окажите мне честь быть вашим поверенным в этом деле; я хочу восстановить блеск вашей чести перед базельским судом и перед судом целого света!» После этого он отвел Литтегарду, слезы которой от благодарности и умиления перед столь благородными словами текли в изобилии, наверх к госпоже Елене, своей матери, которая уже удалилась к себе в спальню; он представил ее этой достойной старой даме, питавшей к ней особливую любовь, как гостью, которая по причине раздора, вспыхнувшего в ее семье, решилась поселиться на некоторое время в его замке; ей отвели в ту же ночь целое крыло обширного замка; он обильно наполнил шкафы, в нем находившиеся, платьями и бельем для нее из запасов сестер и приставил к ней в полном соответствии с ее рангом приличный, даже роскошный штат прислуги; и уже на третий день господин Фридрих фон Трота, не высказываясь, каким способом и путем он намерен вести свои доказательства на суде, оказался на дороге в Базель с многочисленной свитой вершников и оруженосцев.









![Книга Русская живопись первой половины XIX века. Романтизм, академизм и бидермайер [статья] автора Елена Кукина](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)