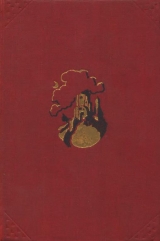
Текст книги "Немецкая романтическая повесть. Том II"
Автор книги: Иозеф Эйхендорф
Соавторы: Генрих фон Клейст,Клеменс Брентано,Ахим фон Арним
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
Тем временем от господ фон Бреда, братьев Литтегарды, в базельский суд поступила бумага, касавшаяся имевшего места в замке происшествия, в которой, – потому ли, что они действительно считали ее виновною, или потому, что у них могли быть и другие причины погубить ее, – они выдавали головой несчастную женщину, как изобличенную преступницу, преследованию закона. По крайней мере они, неблагородным и лживым образом, назвали изгнание ее из замка добровольным побегом; они описывали, как она тотчас, не имея возможности привести что-либо в защиту своей невинности, в ответ на несколько негодующих выражений, сорвавшихся у них, покинула замок; и, ввиду безуспешности всех поисков, которые, как они уверяли, ими были предприняты, они были того мнения, что теперь она, вероятно, странствует по свету в обществе третьего искателя приключений, дабы довершить меру своего позора. При этом, для спасения чести оскорбленного ею семейства, они настаивали на том, чтобы ее имя было вычеркнуто из родословной книги дома фон Бреда, и требовали, на основании пространных юридических выводов, чтобы, в наказание за столь неслыханный поступок ее, она была объявлена лишенной всех прав на наследство благородного отца, которого ее позор ввергнул в могилу. Однако базельские судьи были далеки от того, чтобы удовлетворить это ходатайство, которое к тому же вовсе не было им подсудно; но так как тем временем граф Яков, по получении этого известия, представил самые недвусмысленные и решительные доказательства своего участливого отношения к судьбе Литтегарды и, как узнали, тайно разослал вершников, чтобы разыскать ее и предложить ей убежище в своем замке, то суд уже больше не сомневался в правдивости его показания и порешил немедленно снять с него обвинение в убийстве герцога, которое над ним тяготело. Более того, такое участливое отношение, которое он проявил к несчастной в эту минуту бедствия, подействовало даже крайне благоприятно на мнение народа, весьма колебавшегося в своем благоволении к нему; теперь стали оправдывать то, что раньше тяжко осуждали, а именно выдачу любовно преданной ему женщины на позор всего света, и стали находить, что при таких исключительных и важных обстоятельствах, когда дело шло не меньше, как о его жизни и чести, у него ничего не оставалось, кроме безоговорочного разоблачения того приключения, какое произошло в ночь святого Ремигия. Ввиду этого, по прямому распоряжению императора, граф Яков Рыжебородый был снова приглашен в суд, чтобы торжественно, при открытых дверях, быть освобожденным от подозрения в соучастии в убийстве герцога. Едва герольд успел дочитать под сводами обширного зала суда письмо господ фон Бреда, и суд уже готовился, согласно резолюции императора, приступить в отношении стоявшего перед ним обвиняемого к формальному восстановлению его чести, как господин Фридрих фон Трота вступил в палату и, опираясь на право всякого беспристрастного свидетеля, попросил дать ему на одно мгновенье для просмотра письмо. В то время как глаза всего народа были устремлены на него, его желание удовлетворили; но едва господин Фридрих получил бумагу из рук герольда, как после мимолетно брошенного в нее взгляда, он разорвал ее сверху донизу и клочки вместе со своей перчаткой, которую он скомкал, бросил Якову Рыжебородому в лицо, с заявлением, что тот – гнусный и подлый клеветник и что он решил жизнью или смертью доказать на божием суде перед всем светом невиновность госпожи Литтегарды в том преступлении, в котором ее обвиняют. – Граф Яков Рыжебородый, после того как он с побледневшим лицом поднял перчатку, сказал: «Как несомненно то, что бог праведно судит в поединке, так несомненно и то, что я докажу тебе в честном рыцарском бою истинность того, что я вынужден был огласить относительно госпожи Литтегарды! Доложите же, благородные господа, – сказал он, обратившись к судьям, – его императорскому величеству о протесте, заявленном господином Фридрихом, и испросите у него, дабы он нам назначил час и место, где мы с мечом в руке могли бы встретиться для разрешения этого спорного дела!» Ввиду этого судьи, закрыв сессию суда, послали депутацию с отчетом об этом происшествии к императору; а так как последнего выступление господина Фридриха, как защитника Литтегарды, не могло поколебать в его вере в невинность графа, то, как того требовали законы чести, он вызвал госпожу Литтегарду в Базель для присутствования на поединке и назначил для выяснения странной тайны, нависшей над этим делом, день святой Маргариты – как время и дворцовую площадь в Базеле – как место, где оба, господин фон Трота и граф Яков Рыжебородый, должны были встретиться друг с другом в присутствии госпожи Литтегарды.
Согласно этому решению, едва лишь полуденное солнце дня святой Маргариты взошло над башнями города Базеля и бесчисленное множество людей, для которых соорудили скамьи и помосты, собралось на замковой площади, как, после троекратного вызова герольда, стоявшего перед балконом судей, оба, с ног до головы закованные в сверкающую медь, господин Фридрих и граф Яков, выступили на арену для того, чтобы в бою разрешить свой спор. Почти все рыцарство Швабии и Швейцарии присутствовало на валу замка, расположенного на заднем плане; а на балконе его сидел окруженный дворцовой челядью император, со своею супругою и принцами и принцессами, его сыновьями и дочерьми. Незадолго перед началом боя, в то время как судьи распределяли свет и тень между бойцами, госпожа Елена и обе ее дочери, Берта и Кунигунда, сопутствовавшие Литтегарде в Базель, подошли еще раз к воротам площади и попросили стражей, стоявших там, о разрешении войти и сказать одно слово госпоже Литтегарде, которая, согласно старинному обычаю, сидела на помосте внутри арены. Ибо хотя образ жизни этой дамы, повидимому, принуждал к полнейшему уважению и совершенно неограниченному доверию к правдивости ее уверений, тем не менее кольцо, которое граф Яков мог предъявить, а еще более то обстоятельство, что Литтегарда отпустила в ночь святого Ремигия свою камеристку, единственного человека, который мог бы служить свидетелем, повергало их души в живейшее беспокойство; они положили еще раз проверить, под давлением этого решительного мгновенья, стойкость внутреннего сознания, присущего обвиняемой, и разъяснить ей бесполезность и даже святотатственность в случае, если действительно вина лежит на ее душе, попытки очиститься от нее священным приговором оружия, который безошибочно выведет истину на свет. И действительно у Литтегарды были все основания к тому, чтобы хорошенько обдумать тот шаг, который теперь предпринимал ради нее господин Фридрих: костер ожидал ее, а также и ее друга, рыцаря фон Трота, в том случае, если бы бог железным приговором высказался не за него, а за графа Якова Рыжебородого и за правдивость показания, которое последний дал против нее на суде. Когда госпожа Литтегарда увидала входящих со стороны мать и с нею сестер господина Фридриха, она, с присущим ей выражением достоинства, которое было еще трогательнее, благодаря печали, облекавшей ее существо, поднялась с своего кресла и спросила их, идя им навстречу, что их привело к ней в столь роковую минуту. «Моя дорогая дочка, – сказала госпожа Елена, отведя ее в сторону, – не пожелаете ли вы избавить мать, у которой нет иного утешения в ее одинокой старости, кроме обладания сыном, от горя быть вынужденной оплакивать его у его гроба, и раньше чем начнется поединок, щедро одаренная и обеспеченная, сесть в экипаж и принять от нас в дар одно из наших поместий, лежащее по ту сторону Рейна, которое примет вас пристойно и радушно?» Литтегарда, после того как она, внезапно побледнев, несколько мгновений пристально глядела ей в лицо, склонила колено, как только она поняла значения этих слов во всем его объеме. «Достопочтеннейшая и добрейшая госпожа! – сказала она, – исходит ли тревога, что бог в этот решительный час выскажется против невинности моей души, из сердца вашего благородного сына?» – «Почему?» – спросила госпожа Елена. «Потому, что в этом случае я его умоляю лучше не обнажать меча, который держит недоверчивая рука, и покинуть арену под каким-либо благовидным предлогом, предоставив ее своему противнику; меня же, не делая неуместной уступки состраданию, от которого я ничего принять не могу, предоставить моей судьбе, каковую я предаю в руку господа!» – «Нет! – сказала госпожа Елена в смущении, – мой сын ничего не знает! Ему, давшему слово на суде защищать ваше дело, не подобало бы сделать вам теперь, когда настал решительный час, такое предложение. В твердой вере в вашу невинность стоит он, как вы видите, готовый к бою против графа – вашего противника; это было предложение, которое мы, мои дочери и я, под давлением минуты измыслили, приняв в соображение все выгоды и во избежание всякого несчастья». «Ну, – сказала госпожа Литтегарда, напечатлевая горячий поцелуй на руке старой дамы и орошая ее своими слезами, – в таком случае предоставьте ему сдержать свое слово! Никакая вина не пятнает моей совести; и если бы он даже без шлема и панцыря выступил в бой, бог и все его ангелы оградили бы его!» – и с этими словами она поднялась с земли и отвела госпожу Елену и ее дочерей к нескольким седалищам, устроенным на помосте позади обитого красным сукном кресла, на которое она опустилась.
После этого герольд затрубил по знаку императора к бою, и оба рыцаря со щитом и мечом в руке выступили друг против друга. Первым же ударом господин Фридрих ранил графа; он нанес ему рану концом своего не очень длинного меча в то место, где промеж предплечья и руки петли брони сцепляются между собой; однако граф, испуганный чувством боли, отпрянул назад, осмотрел рану и нашел, что хотя кровь сильно текла, но лишь кожа была сверху оцарапана; и ввиду ропота помещавшихся на валу рыцарей на неприличие этого поступка, он снова бросился вперед и, как совершенно здоровый, опять вступил в бой с обновленными силами. Теперь бой закипел между обоими сражающимися подобно тому, как встречаются два вихря, как две грозовые тучи, посылая друг другу свои молнии, сталкиваются, не сливаясь между собою под грохот частых громов, и, вздымаясь, реют друг вокруг друга. Господин Фридрих, протянув вперед щит и меч, стоял на земле, словно он хотел в нее пустить корни; до самых шпор, до щиколоток, до икр зарылся он в освобожденную от камней и нарочито разрыхленную почву, отражая от груди и головы коварные удары графа, который, маленький и проворный, нападал словно одновременно со всех сторон. Уже бой длился почти час, считал и те мгновения отдыха, к которым потеря дыхания принуждала обе стороны, когда снова поднялся ропот среди стоявших на помосте зрителей. Казалось, что на этот раз он относился не к графу Якову, у которого не было недостатка рвения довести бой до конца, но к господину Фридриху, как бы вкопавшемуся в землю на одном и том же месте, и его странному, на вид чуть ли не робкому, во всяком случае, упорному воздержанию от всякого наступления с своей стороны. Господин Фридрих, хотя его тактика была построена на правильных основаниях, чувствовал, однако, что она слишком медленна, так что он счел своим долгом отказаться от нее по требованию тех, кто в это мгновенье были судьями над его честью; он выступил смелым шагом с места, выбранного им спервоначалу, и из того своеобразного естественного окопа, образовавшегося вокруг притоптанного его ногою следа, обрушил на голову противника, силы которого уже начали падать, несколько дюжих и неослабных ударов, которые, однако, тот сумел перехватить щитом при искусных движениях в сторону. Но уже в первые мгновения этого таким образом изменившегося боя с господином Фридрихом приключилось несчастье, которое как будто не указывало на присутствие руководящих боем высших сил: шагнув, он запутался в собственных шпорах, спотыкаясь, упал набок, и, в то время как под тяжестью шлема и панцыря, которые обременяли верхнюю часть его тела, он опустился на колени, опершись руками в землю, граф Яков Рыжебородый, нельзя сказать, чтобы весьма благородным и рыцарским образом, воткнул ему меч в его при этом обнажившийся бок. Господин Фридрих с криком внезапной боли вскочил с земли. Он, правда, надвинул шлем на глаза и, быстро обернувшись лицом к противнику, стал готовиться к продолжению боя, но в то время, как он со скрюченным от боли телом оперся на свой меч и мрак застилал ему глаза, граф еще два раза вогнал ему свой кладенец в грудь, как раз под самое сердце; после чего в грохоте своих доспехов он рухнул на землю и уронил рядом с собою меч и щит. Граф, отбросив в сторону оружие, под троекратную фанфару труб поставил ему ногу на грудь; и в то время как все зрители с самим императором во главе, под глухие возгласы страха и сострадания поднялись со своих седалищ, госпожа Елена в сопровождении обеих своих дочерей поверглась над своим дорогим сыном, валявшемся в прахе и крови. «О мой Фридрих!» – горестно воскликнула она, опустившись на колени у его головы, в то время как госпожа Литтегарда в обмороке и без сознания была поднята двумя стражниками с пола помоста, на который она опустилась, и отнесена в темницу. «О, презренная, – добавила она, – отверженная, которая с сознанием вины в сердце решилась вступить сюда и вооружить длань вернейшего и благороднейшего друга, дабы он для нее отвоевал в неправом бою божий приговор!» И с этими словами она с плачем подняла возлюбленного сына с земли, в то время как дочери освобождали его от панцыря и пытались остановить кровь, которая струилась из его благородной груди. Но стражники подошли, по приказанию императора, и взяли его, как подпавшего действию закона, под стражу: его положили, при содействии нескольких врачей, на носилки и отнесли в сопровождении большой толпы народа также в темницу, куда, однако, госпожа Елена и ее дочери получили разрешение последовать за ним до его смерти, в которой никто не сомневался.
Однако весьма скоро обнаружилось, что раны господина Фридриха, как ни опасны для жизни и ни нежны были части тела, коих они коснулись, по особому произволению неба, были несмертельны; более того, врачи, которых к нему приставили, уже спустя несколько дней, могли дать семейству определенное заверение, что он останется в живых и даже что, при крепости его природы, он через несколько недель, не потерпев никакого увечья на своем теле, выздоровеет. Как только сознание, которого его надолго лишила боль, к нему вернулось, его постоянным вопросом, обращенным к матери, было, что делает госпожа Литтегарда. Он не мог удержаться от слез, когда представлял себе ее в одиночестве темницы, отданною в жертву самому ужасному отчаянию, и убеждал сестер, ласково гладя их подбородки, ее навещать и утешать. Госпожа Елена, изумленная этими словами, просила его позабыть об этой гнусной и низкой женщине; она полагала, что преступление, о котором граф Яков упомянул на суде и которое обнаружилось исходом поединка, может быть прощено, но не то бесстыдство и та наглость, с которыми, сознавая свою вину и не щадя благороднейшего друга, которого тем самым подвергала гибели, она апеллировала, как невинная, к священному божьему суду. «Ах, моя мать! – сказал камерарий, – где тот смертный, который, обладая мудростью всех веков, дерзнул бы истолковать таинственный приговор, произнесенный в этом поединке!» – «Как! – воскликнула госпожа Елена, – неужели для тебя остался неясным смысл этого божественного приговора? Разве ты не пал в бою, к сожалению, слишком определенным и недвусмысленным образом под мечом твоего противника?» – «Пусть так! – отвечал господин Фридрих, – на одно мгновенье я был побежден им. Но разве граф меня одолел? Разве я не жив? Разве я не рассчитываю снова чудесно, как бы под дыханием неба, возобновить бой, в котором мне помешала ничтожная случайность, вооруженный, может быть, уже через несколько дней, двойною и тройною силою?» – «Безумный! – воскликнула мать, – а разве ты не знаешь, что существует закон, согласно которому, бой, однажды законченный, по решению посредников, уже не может быть допущен снова на арене божьего суда для решения оружием того же дела?» – «Это безразлично! – отвечал камерарий с досадою. – Что мне за дело до этих произвольных людских законов? Разве можно считать бой, который не продолжался до смерти одного из бойцов, по сколько-нибудь разумной оценке, законченным? И разве я не в праве надеяться, если бы возобновить его мне было дозволено, исправить постигшую меня неудачу и завоевать себе мечом совершенно иной божий приговор, чем тот, который ограниченно и близоруко почитается за таковой?» – «Как бы то ни было, – возразила мать задумчиво, – эти законы, до которых, по твоим словам, тебе нет дела, – законы действующие и господствующие; они, разумно или нет, обладают силой божественных определений и предают тебя и ее, как отверженную, преступную чету, всей строгости уголовного суда». – «Ах! – воскликнул господин Фридрих, – вот это-то и повергает меня, несчастного, в отчаяние! Над нею произнесен приговор, словно над изобличенною; а я, который хотел перед всем светом доказать ее добродетель и невинность, являюсь тем, кто навлек на нее всю эту беду; злосчастный шаг в ремни моих шпор, через который бог, может быть, совсем независимо от ее дела, а за грехи моего собственного сердца, хотел покарать меня, предает ее цветущие члены огню, а память вечному позору!» При этих словах на глазах его выступили слезы горячей, мужественной печали; он обернулся, схватив платок, к стене, а госпожа Елена и ее дочери опустились на колени в тихом умилении у его постели и смешали, целуя его руку, свои слезы с его слезами. Между тем тюремный страж вошел в его комнату с кушаньем для него и для его близких; господин Фридрих спросил его, как себя чувствует госпожа Литтегарда, и узнал из его отрывочных и небрежных слов, что она лежит на связке соломы и, с самого того дня, как была заключена, не произнесла еще ни единого слова. Господин Фридрих был повержен этим известием в величайшую тревогу; он поручил тюремщику сказать этой даме, для ее успокоения, что странным произволением неба он на пути к полному поправлению, и испросил у нее позволения, после восстановления своего здоровья, как-нибудь посетить ее в ее темнице, с разрешения коменданта замка. Но ответ, который тюремный страж, по его уверению, получил после многократного дергания ее за руку, в то время как она, как помешанная, не слыша и не видя, лежала на соломе, был таков: нет, пока она живет на земле, она не хочет больше видеть ни одного человека; – более того, узнали, что еще в тот же день в собственноручной записке она приказала коменданту замка не допускать к ней никого, кто бы он ни был, а камерария фон Трота менее всего; по этой причине господин Фридрих, побуждаемый сильнейшей тревогою об ее состоянии, в день, в который он особенно живо почувствовал восстановление своих сил, с разрешения коменданта замка, поднялся и, уверенный в ее прощении, без доклада, в сопровождении матери и сестер, направился в ее комнату.
Но кто опишет ужас несчастной Литтегарды, когда, при возникшем у двери шуме, она поднялась с подостланной ей соломы с полуобнаженной грудью и распущенными волосами и, вместо тюремного стража, которого она ожидала, увидала входящим к ней под руку с Бертой и Кунигундой камерария, своего благородного и превосходного друга, с многими следами перенесенных страданий, – жалостное и трогательное явление. – «Прочь! – воскликнула она, причем с выражением отчаяния откинулась назад на покрывало своего ложа и прижала руки к своему лицу; – если у тебя в груди тлеет хотя бы искра сострадания, прочь!» – «Как, моя дражайшая Литтегарда?» – отвечал господин Фридрих. Он стал, опираясь на свою мать, рядом с нею и склонился с невыразимым умилением над нею, чтобы схватить ее руку. «Прочь! – воскликнула она, по соломе отпрянув от него на коленях на несколько шагов; – если ты не хочешь, чтобы я сошла с ума, то не прикасайся ко мне! Ты внушаешь мне ужас; пылающее пламя для меня менее страшно, чем ты!» – «Я внушаю тебе ужас? – отвечал благородный господин Фридрих. – Чем, моя благородная Литтегарда, твой Фридрих заслужил такой прием?» При этих словах Кунигунда поставила, по знаку матери, для него стул и предложила ему, при его слабости, на него присесть. «О Иисусе! – воскликнула та, причем она в ужаснейшем страхе, совершенно распростершись лицом на полу, бросилась ниц перед ним, – уйди из комнаты, мой возлюбленный, и оставь меня! Я обнимаю в горячем сердечном порыве твои колени, я омываю твои ноги моими слезами, я умоляю тебя, как червь, извивающийся по прахе, о единственном милосердии: уйди, мой господин и повелитель, уйди из моей комнаты, уйди немедля и оставь меня!» Господин Фридрих стоял перед нею, потрясенный до глубины души. «Неужели мой вид так неприятен тебе, Литтегарда?» – спросил он, серьезно глядя на нее. «Ужасен, невыносим, уничтожающ!» – отвечала Литтегарда, в отчаянии выставив вперед руки и совершенно скрыв свое лицо между ступнями его ног. «Ад со всеми страхами и ужасами слаще для меня, и мне приятнее видеть его, чем весну твоего лица, обращенного ко мне в милости и любви!» – «Боже правый! – воскликнул камерарий, – что мне думать об этом сокрушении твоей души? Неужели, несчастная, божий суд сказал правду, и неужели ты виновна в том преступлении, за которое граф привлек тебя к суду?» – «Виновна, изобличена, отвержена, во временной и вечной жизни осуждена и приговорена! – воскликнула Литтегарда, бия себя в грудь, как безумная. – Бог праведен и непогрешим; ступай! Мое сознание разрывается, и силы мои сломлены. Оставь меня одну с моим горем и отчаянием!» При этих словах господин Фридрих упал в обморок; и в то время как Литтегарда, окутав голову покрывалом, как бы в полном отчуждении от света, снова легла на свое ложе, Берта и Кунигунда кинулись с воплем к бездыханному брату, дабы снова призвать его к жизни. «О, будь проклята! – воскликнула госпожа Елена, когда камерарий снова открыл глаза, – проклята на вечное раскаяние по сю сторону гроба, а по ту сторону – на вечное осуждение: не за твою вину, в которой ты теперь сознаешься, но за безжалостность и бесчеловечность, с которою ты не ранее в ней созналась, чем увлекла за собою в погибель моего неповинного сына! О я безумная! – продолжала она, причем с презрением отвернулась от Литтегарды, – почему я не поверила слову, доверенному мне незадолго до начала божьего суда настоятелем здешнего августинского монастыря, у которого граф, благочестиво готовясь к решительному часу, предстоящему ему, был у исповеди! Он поклялся ему на святом причастии в истинности показания, которое он дал суду относительно этой несчастной; он указал ему ту садовую калитку, у которой, согласно уговору, с наступлением ночи, она его ждала и приняла, описал и ту комнату, боковое помещение необитаемой башни, в которую она его провела незаметно от сторожей, то ложе, удобно и великолепно застланное перинами под балдахином, которое она в бесстыжем распутстве тайно с ним разделила! Клятвенное заверение, сделанное в такой час, не содержит лжи; и если бы я, ослепленная хотя бы в самое мгновенье начинавшегося поединка, дала бы моему сыну об этом знать, я бы открыла ему глаза и он отшатнулся бы от той бездны, у которой он стоял, – Но, пойдем! – воскликнула госпожа Елена, нежно обняв господина Фридриха и напечатлев на его челе поцелуй; – сокрушение, которое звучит в ее словах, оказывает ей честь; пусть она увидит наши спины и пусть, уничтоженная упреками, от которых мы ее пощадим, впадет в отчаяние!» – «Презренный! – отвечала Литтегарда, причем, задетая за живое этими словами, она приподнялась. Она горестно уронила голову на колени и, проливая на свой платок горячие слезы, проговорила: – Я вспоминаю, как мои братья и я за три дня перед той ночью святого Ремигия были в его замке: он, как часто имел обыкновение это делать, устроил в мою честь празднество, и мой отец, который охотно видел, как приветствуют прелесть моей расцветающей молодости, побудил меня, в сопровождении моих братьев, принять приглашение. Поздно, по окончании танцев, когда я вошла в свою спальню, я нашла записку, лежащую на моем столе, которая была написана незнакомой рукой и без подписи и содержала формальное объяснение в любви. Случилось, что оба мои брата для того, чтобы условиться относительно нашего отъезда, который был назначен на завтрашний день, присутствовали в комнате; и так как я не привыкла иметь от них какие-либо тайны, то я показала им, охваченная безмолвным изумлением, странную находку, которую я только что сделала. Они, тотчас узнав руку графа, воспылали бешенством, и старший был готов немедленно отправиться с бумагой в его комнату; но младший представил ему, как опасен был бы такой шаг, ибо граф был настолько умен, что не подписал записки; после чего оба в глубочайшем негодовании по поводу столь обидного поступка еще в ту же ночь сели вместе со мною в экипаж и, решив никогда больше не почтить своим посещением его замок, вернулись в замок своего отца. Вот единственное общение, – добавила она, – какое я когда-либо имела с этим негодным и низким человеком!» – «Как? – сказал камерарий, повернув к ней свое орошенное слезами лицо; – эти слова были музыкой для моих ушей! – Повтори их мне! – сказал он после краткого молчания, опустившись перед нею на колени и сложив руки, – ты не изменила мне ради этого негодяя, ты, значит, чиста от той вины, за которую он тебя привлек к суду?» – «Возлюбленный!» – прошептала Литтегарда, прижимая его руку к губам. «Так ли это? – воскликнул камерарий, – так ли это?» – «Да, как грудь новорожденного ребенка, как совесть уходящего с исповеди человека, как тело скончавшейся в ризнице при пострижении монахини!» – «О более всемогущий! – воскликнул господин Фридрих, охватив ее колени, – благодарю тебя! Твои слова снова возвращают мне жизнь; смерть меня больше не страшит, а вечность, только что расстилавшаяся передо мною, как море необозримой горести, снова встает в моих глазах, как царство, полное тысячами блистательных солнц!» – «Несчастный! – сказала Литтегарда, отступая, – как можешь ты давать веру тому, что говорят тебе мои уста?» – «Почему же нет?» – спросил господин Фридрих с жаром. «Сумасшедший! Безумец! – воскликнула Литтегарда, – разве священный суд божий не решил против меня? Разве не одолел тебя граф в этом роковом поединке и разве он не утвердил в бою истинность того, что он показал против меня на суде?» – «О моя дражайшая Литтегарда, – воскликнул камерарий, – огради свои чувства от отчаяния! Воздвигни, как скалу, то чувство, которое живет в твоей груди, держись за него и не колеблись, хотя бы земля и небо рушились под тобою и над тобою! Давай из двух мыслей, смущающих наше сознание, держаться более разумной и более понятной, и, прежде чем считать себя виновною, лучше считай, что в поединке, в котором я сражался за тебя, победил я! Боже, владыко жизни моей! – добавил он в это мгновенье, закрыв лицо руками, – огради и мою душу от смущения! Я хочу, сказать, что я не был побежден мечом своего соперника, клянусь в том своим вечным спасением, так как, уже поверженный в прах под его пятою, я снова восстал к бытию. Где обязанность высшей божественной премудрости самой указать и высказать истину в мгновение исполненного веры призыва? О Литтегарда! – сказал он в заключение, сжимая в своих руках ее руку, – в жизни будем провидеть смерть, а в смерти – вечность и питать твердую, непоколебимую веру, что твоя невиновность будет выведена на яркий, ясный свет солнца и притом тем поединком, в котором я сражался за тебя!» При этих словах вошел комендант замка, и так как он напомнил госпоже Елене, которая сидела плача за столом, что столько душевных волнений могут повредить ее сыну, то господин Фридрих, склоняясь на уговоры своих близких, вернулся в свою темницу не без сознания, что он преподал и получил некоторое утешение.
Тем временем перед трибуналом, учрежденным в Базеле императором, против господина Фридриха фон Трота, а также против его подруги, госпожи Литтегарды фон Ауэрштейн, возбуждено было дело по обвинению их в неправом обращении к божьему суду, и оба, согласно действующему закону, были приговорены претерпеть позорную казнь огнем на самом месте поединка. Была послана депутация советников, дабы возвестить об этом узникам, и приговор был бы тотчас по выздоровлении камерария приведен над ними в исполнение, если бы у императора не было тайного намерения заставить графа Якова Рыжебородого, по отношению к которому он не мог подавить в себе некоторого подозрения, присутствовать при этом. Однако последний необъяснимым и удивительным образом все еще лежал больной от той маленькой, на вид ничтожной раны, которую ему нанес господин Фридрих в самом начале поединка; крайне испорченное состояние его соков изо дня в день, с недели на неделю препятствовало ее заживлению, и все искусство врачей, которых одного за другим приглашали из Швабии и Швейцарии, не могло заставить ее закрыться. Более того, какой-то едкий гной, неизвестный всему тогдашнему врачебному искусству, до самых костей разъедал вокруг себя, подобно раку, все ткани его руки, так что оказалось необходимым, к ужасу всех его друзей, отнять у него всю поврежденную руку, а затем, так как и этим не был положен предел разъеданию гноем, то даже и предплечье. Однако и этот лечебный прием, выхваляемый, как радикальное средство, лишь усилил болезнь, как то в наши дни легко усмотрели бы, вместо того, чтобы облегчить ее; и врачи, так как мало-по-малу все тело его стало распадаться в гнилостном разложении, объявили, что для него нет спасения и что он еще до конца текущей недели должен умереть. Напрасно настоятель августинского монастыря, которому в этом неожиданном обороте вещей виделась грозная божия десница, убеждал открыть правду относительно тяжбы, возникшей между ним и герцогиней-регентшей; граф, потрясенный до глубины души, снова причастился святых тайн в подтверждение истинности своих показаний и со всеми проявлениями ужасного страха предал свою душу вечному осуждению, если он клеветнически обвинил госпожу Литтегарду. Несмотря на безнравственность его образа жизни, все же имелось двойное основание верить искренности этого заверения; во-первых, потому, что больной действительно отличался известным благочестием, которое, казалось, не дозволило бы ему принести ложную присягу, да еще в такое мгновение, и далее потому, что из допроса, произведенного сторожу башни замка фон Бреда, которого граф, по его словам, подкупил для тайного пропуска в замок, выяснилось с полной определенностью, что это обстоятельство вполне обосновано и что граф действительно был внутри замка господ фон Бреда в ночь святого Ремигия. Таким образом настоятелю почти ничего другого не оставалось, как предположить обман самого графа третьим, ему неизвестным, лицом; и вот несчастный, который, узнав о чудесном выздоровлении камерария, сам напал на эту ужасную мысль, еще не достиг конца своей жизни, когда это предположение, к его отчаянию, вполне подтвердилось. Дело в том, что граф уже давно, раньше чем его вожделение направилось на госпожу Литтегарду, жил в преступной связи с Розалией, ее камеристкой; почти каждый раз, когда ее господа посещали его замок, он обычно завлекал в свою комнату эту девушку, которая была легкомысленное и безнравственное существо. Когда же во время последнего посещения ее с братьями его замка Литтегарда получила то нежное письмо, в котором он объявлял ей о своей страсти, то это пробудило чувство обиды и ревность в девушке, уже несколько месяцев им заброшенной; она оставила при вскоре затем последовавшем отъезде Литтегарды, которую она должна была сопровождать, от ее имени записку для графа, в которой она ему сообщала, что хотя негодование ее братьев по поводу предпринятого им шага не дозволяет ей немедленного свидания, однако она приглашает его посетить с этой целью в ночь святого Ремигия покои ее отеческого замка. Граф, преисполненный радости по поводу успеха своего предприятия, тотчас отправил второе письмо Литтегарде, в коем он извещал ее о непременном своем прибытии в названную ночь и просил ее, во избежание всякой ошибки, выслать ему навстречу надежного проводника, который мог бы провести его в ее комнату; а так как камеристка, опытная во всякого рода интригах, рассчитывала на такое уведомление, то ей удалось перехватить это письмо и сказать ему во втором подложном ответе, что она сама будет его ожидать у садовой калитки. Затем, в вечер накануне условленной ночи, под тем предлогом, что ее сестра заболела, и что она хочет ее навестить, она выпросила у Литтегарды отпуск в деревню; действительно, получив его, она подвечер покинула замок с узелком белья, который несла подмышкой, и на глазах у всех отправилась в путь, в ту сторону, где жила та женщина. Однако, вместо того, чтобы завершить свое путешествие, она с наступлением ночи, под предлогом надвигающейся грозы, снова оказалась в замке, и так как, по ее словам, намеревалась следующим утром спозаранку отправиться в путь, то, чтобы не беспокоить свою госпожу, она устроилась на ночлег в одной из пустых комнат заброшенной и редко посещаемой замковой башни. Граф, сумевший посредством подкупа сторожа башни проникнуть в замок и, согласно уговору, в полночный час встреченный у садовой калитки закутанной вуалью женщиной, и не подозревал, как легко можно себе представить, разыгрываемого с ним обмана; девушка запечатлела на его устах мимолетный поцелуй и повела его по нескольким лестницам и переходам заброшенного бокового крыла в одно из великолепнейших помещений самого замка, окна которого предварительно были тщательно ею заперты. Здесь, после того как она, держа его за руку, таинственно прислушалась у дверей и, под предлогом, что спальня ее брата расположена совсем близко, шопотом приказала ему молчать, она опустилась с ним на стоявшее рядом ложе; граф, обманутый ее фигурой и сложением, был в чаду от наслаждения, что ему в его возрасте еще удалось сделать такое завоевание; и когда она его отпустила, едва забрезжил утренний свет, и надела ему в память о прошедшей ночи на палец кольцо, полученное Литтегардой от мужа, которое она похитила у нее с этой целью накануне вечером, он обещал ей как только вернется домой, как ответный подарок, другое кольцо, подаренное ему в день свадьбы его умершей женой. Три дня спустя он сдержал слово и тайно прислал в замок это кольцо, которое Розалия снова изловчилась перехватить; впрочем, опасаясь, что это приключение заведет его слишком далеко, он больше не подавал о себе никаких вестей и под различными предлогами уклонялся от вторичного свидания. Позднее, в связи с пропажей, подозрение в которой с значительной степенью вероятности, падало на нее, девушка была рассчитана и отослана в дом к родителям, жившим на Рейне, а так как по прошествии девяти месяцев последствия ее развратной жизни стали явны и мать подвергла ее строжайшему допросу, то она, раскрыв всю ту таинственную историю, которую она разыграла с графом Яковом Рыжебородым, указала на него, как на отца своего ребенка. По счастью, опасаясь прослыть за воровку, она лишь крайне робко могла предлагать на продажу кольцо, пересланное ей графом, да и действительно, благодаря большой его ценности, ей не удалось найти никого, кто бы выказал желание его приобрести; таким образом правдивость ее показания не могла подлежать сомнению, и родители, опираясь на это очевидное доказательство, подали в суд на графа Якова иск о содержании ребенка. Суд, который уже слышал о странном судебном деле, разбиравшемся в Базеле, поспешил довести до сведения трибунала это разоблачение, которое имело величайшее значение для исхода названного дела; и так как именно в это время один ратман должен был поехать по общественным делам в этот городу то они дали ему для разрешения страшной загадки, занимавшей всю Швабию и Швейцарию, письмо к графу Якову Рыжебородому с судебным показанием девушки, к которому было приложено и кольцо.









![Книга Русская живопись первой половины XIX века. Романтизм, академизм и бидермайер [статья] автора Елена Кукина](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)