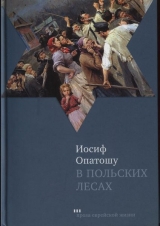
Текст книги "В польских лесах"
Автор книги: Иосиф Опатошу
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Старые хасиды, которые не раз бывали в Коцке, даже не взглянули в ту сторону и лишь слегка посмеивались над тем, с каким благоговением калека говорил об этом грешнике. Молодые же открыли рты и глаза.
У дороги, что сворачивала в город, виден был холмик, поросший высокой травой. Посреди холмика стояла кривая яблоня. Кругом было тихо. В тишине слышалось только, как плещется, разливаясь, река Вепша, будто рассказывает про подвиги отважного Берека.
С боковой дорожки налетел воз с хасидами. Хасиды опередили кибитку, подъехали к холму и остановились.
Босой Исроэл сошел с козел прямо посреди дороги, несколько хасидов с поклажей последовали за ним. Мордхе смотрел по сторонам, не понимая, что случилось, потом велел вознице остановиться.
Хасиды с шумом окружили могилу Берека. Они неистовствовали, кричали, мочились на холмик, как могли, надругались над ним и кричали, раскачиваясь, словно во время ежемесячного обряда благословения молодой луны:
– Отвергни, презри его, ибо он отлучен!
Мордхе задрожал, схватил за рукав реб Иче, который сидел бледный, с закрытыми глазами.
– Ребе, прогоните их оттуда! Я им голову сверну! Это так же верно, как то, что я еврей!
– «Горе глазам, видящим подобное», – сказал реб Иче с болью.
Тем временем старик сошел с воза, взял увесистый камень и бросил прямо в голову босому Исроэлу. Поднялся шум. Хасиды кинулись врассыпную, не понимая, откуда на них напали.
– Солдаты-иноверцы так не поступили бы! – Калека пробрался к насыпи и кричал, возмущенный: – Откуда у евреев, да еще у хасидов, которые едут к ребе, взялось столько наглости, чтобы позорить покойника? Чтоб вы сгорели, чтоб вы до города не доехали! Пусть вас Бог накажет! Чтоб вы кровью…
– Чего он хочет, этот калека? – спросил кто-то. – Братцы, отберите у него его деревяшку и оставьте его на могиле его праведного ребе, реб Берека, пусть он там валандается и тявкает себе…
Старик поднял деревяшку, замахнулся ею, вытянулся, словно часовой на посту, у могилы Берека и закричал:
– Попробуйте только! Нечестивцы! Думаете, управы на вас нет! Я вас всех прикончу!
Какой-то молодой человек стал подкрадываться к холму, хотел утащить деревяшку, но реб Иче сошел с брички, подбежал к нему, схватил за руку, поглядел ему прямо в лицо. Он был страшно бледен, дрожал от гнева и не в состоянии был произнести ни слова. Потом заговорил:
– Что ты хочешь сделать? Стыдись!.. Истинный хасид должен уметь любить и грешника… Любить – потому что, как бы ни был грешен человек, он все-таки таит в себе искру Божью… Исроэл ведь думает, что защищал Бога, а я скажу тебе, – почти кричал реб Иче, – что он только что совершил несправедливость, он не только грешил, но и других ввел в грех! Так чем же он лучше нечестивого Иеровоама?[35]35
Иеровоам – вождь восстания против правления наследников царя Давида. Это восстание привело к расколу единого Израильского царства на Израиль и Иудею.
[Закрыть]
Босой Исроэл стоял среди толпы, перевязывал на голом теле веревки, оставлявшие кровавые следы, и, не прислушиваясь к тому, что говорил реб Иче, посылал в пространство ужасные проклятия: «Отвергни и презри его, ибо он отлучен!»
Откуда ни возьмись около Мордхе появился Шмуэл, странно улыбаясь; он будто рад был всей этой истории и произнес с иронической улыбкой:
– Что скажешь про босого Исроэла? Слышал ты его неистовства и проклятия? Люди говорят, что он Божий человек, служит Господу с усердием и великой преданностью. О реб Иче и толковать нечего: что он цадик, это каждый видит. Спрашивается, кто из них прав? Я ничего не хочу сказать ни про того, ни про другого, просто мне пришла в голову эта мысль, – посмеивался Шмуэл, не спуская глаз с Мордхе. – На чьей же стороне правда?
Мордхе не отвечал; ему была противна ухмылка Шмуэла; с ненавистью отвернулся он от него, чувствуя, однако, что слова бывшего учителя его как-то задели. Действительно, кто из этих двоих прав? Один ведь опровергает другого!
Хасиды, боявшиеся проклятий босого Исроэла, совсем растерялись при словах реб Иче. Они торопливо сели в кибитку, стыдясь друг друга, и поехали в город.
Мордхе не поехал с ними. Он сказал реб Иче, что придет в город пешком. Оскорбленный, негодующий так, будто осквернили его святыню, он остановился у дерева, погруженный в размышления, и наблюдал за тем, что станет делать старик.
Тот постоял еще минуту с деревяшкой в руке. Он шевелил губами, глядя в ту сторону, куда уехали хасиды, точно посылая им вслед проклятия, потом осторожно опустился на могилу. Мордхе тихо подошел; старик плакал, и у Мордхе стало еще тяжелее на душе. Он стоял потрясенный и украдкой вытирал глаза.
Старик заметил юношу, но ничего не сказал. Он только смотрел на него, видимо думая о том, что есть еще справедливость на свете. Ему стало легче.
Было уже совсем не рано. Солнце пекло, вовсю слепило глаза, день обещал быть прекрасным. Заботы и горе иногда на мгновение оставляют человека, и тогда, как по мановению волшебства, все дурное начинает казаться преходящим.
Мордхе помог старику подняться, и по песчаной дороге они оба – дедушка и внучек – как два товарища двинулись в город.
Глава II
РЕБ МЕНДЕЛЕ ИЗ КОЦКА
На другой день Мордхе целое утро просидел у ребе в синагоге и удивлялся, что все еще не начинают молиться. Было уже больше двенадцати. Оборванные, обросшие хасиды расхаживали по пустой синагоге, не глядя друг на друга, словно чужие, и корчили невероятные гримасы, будучи погружены в свои мысли. Мордхе остановил одного из них:
– Когда здесь встают на молитву?
Хасид поднял голову, будто желая лучше понять, о чем идет речь, но, сердясь, что прервали его раздумья, огрызнулся:
– В Коцке не молятся!
Мордхе удивленно пожал плечами, посмотрел вслед хасиду и подошел к открытому окну, выходившему во двор. Двор был полон хасидов. Одни сидели на бревнах или камнях, другие лежали на траве, уютно расположившись возле своих узлов, беседовали и закусывали. Старый хасид ходил среди толпы с корзиной, которая была больше его самого. В корзине лежали булочки. Он шел и выкрикивал: «Да придет и насытится голодный…» Толпа расхватала булочки мгновенно. Мойшеле-хасиду вменялось в обязанность каждое утро брать у городских хлебопеков корзину булочек и раздавать их приезжим.
В стороне, прямо против дома ребе, сидели евреи из деревень в тяжелых лапсердаках, пожилые еврейки с дочерьми, молодые матери с увечными детьми. Они съехались со всех концов Польши, каждый со своим горем. Они прошли пешком десятки верст в надежде, что ребе им поможет. И хотя все знали, что реб Менделе уже давным-давно не принимает «записочек», они все-таки собрались со всей страны, сидели целыми днями под окнами ребе и были уверены, что один только взгляд его может принести облегчение калеке. Убитые горем, с мрачными лицами, опустив головы, как больные в приемной врача, они рассказывали друг другу про свои беды, вздыхали и советовались.
Вдруг Мордхе услышал невероятно громкий и какой-то странный собачий лай. У него даже мороз пробежал по коже. Оказалось, что какая-то молодая девушка, став на четвереньки, подняла голову, закатила глаза и принялась лаять, как собака. Толпа вокруг нее расступилась, люди стояли испуганные и беспомощные. Девушка почувствовала себя свободнее оттого, что пространство вокруг нее увеличилось, расстегнула кофту, подняла голову к самому небу и залилась еще более громким лаем. Так собака, почуяв где-то пожар, становится на задние лапы, поджимает хвост и воет, словно ветер, издалека несущий людям дурные вести.
Хасиды вскочили со своих мест, окружили больную.
– Это же дибук[36]36
Дибук – злой дух.
[Закрыть], упаси Господи! Облейте ее водой! – посоветовал кто-то из хасидов.
– Не трогайте мое дитя! – молила старая заплаканная женщина. Потом обняла дочь и начала ее целовать: – Леинька, пожалей свою больную мать, не позорь меня перед всем миром! Успокойся, дитя мое, во имя всего святого!
Тем временем какой-то хасид принес ведро воды из синагоги и облил больную. Девушка закричала от страха. Оглушенная, она перестала лаять и осталась лежать бездыханная, только сучила ногами.
Мать пробовала привести ее в чувство, тянула за волосы, за нос, но ничего не могла сделать. Тогда, вскочив на ноги и заломив руки, она стала кричать на людей так, будто оплакивала покойника:
– Что вы сделали с моей дочерью? Отдайте мне дочь!
Она бросилась к окну ребе, начала стучать обеими руками так, что стекла задребезжали. Она плакала и молила:
– Ребе, святой ребе, сжальтесь над бедной матерью! Ведь она единственная у меня! Из десяти осталась одна, слезами вскормленная! Ребе!..
Когда старая еврейка плакала у окна ребе, на дворе стало так тихо, что слышно было, как тяжело дышит больная. Все стояли взволнованные, напуганные, уверенные, что ребе прикажет немедля привести к нему бедную девушку.
Ребе, маленький, седой, обросший так, что даже лицо его еле было видно, стоя у окна со сжатыми кулаками, прокричал толпе:
– Ослы! Уйдите с моих глаз! Я не врач! Я хотел лечить людей, а вы сделали меня коновалом! Чего вы теперь хотите?
Все забыли про больную и со страхом слушали ребе. Больная тем временем пришла в себя, снова встала на ноги, подошла к окошку и, как нарочно, завыла по-собачьи прямо в лицо ребе, да так, что у всех дрожь пробежала по телу.
Мордхе смотрел на измученные, бледные, взывающие к жалости лица, на исхудавших детей, которые жались к несчастным матерям, на калек, чьи воспаленные глаза, внушая ужас, смотрели униженно на окружающих хасидов и одновременно словно бы дразнили: она лает на ребе, лает на ребе…
Мордхе стоял, полуприкрыв веки, и ему казалось, что кто-то должен вот-вот явиться. Он видел, как образ, светлый образ носится среди толпы, легкий, словно ветер, касается каждого своими бледными пальцами, разрывая сеть несчастий…
Посреди двора стояла женщина. Она сорвала с себя старую бархатную кофту, упала полунагая на песок, открыла покрытый пеной рот, и оттуда вырвался смех. Тут же прозвучал, словно отозвался, второй, потом третий смех, и один был громче другого, один грубее другого. Звуки смеха как бы нанизывались на нитку, качались в воздухе, и казалось, что среди толпы стоят старики с длинными бородами и смеются, держась за животы. Перед глазами носились круги, сплетались, смешивались с лаем, нагло отдавались эхом; казалось, это черти собрались под окном у ребе из Коцка и хотят его сбить с толку.
Из толпы выступил реб Иче, подошел к больной, положил ей руку на голову и спросил:
– Как тебя зовут?
– Лея! – пролаяла девушка.
– Что с тобой, Лея? – спросил реб Иче.
– Что-то здесь сидит, – указала девушка на сердце и расплакалась.
– Ну, не плачь, дитя мое! – начал утешать ее реб Иче; потом он взял ее за руку: – Встань! Вот так! Бог тебе поможет, ты будешь здорова.
Больная девушка начала улыбаться, потом истерически расхохоталась, обхватила реб Иче обеими руками и крикнула ему в лицо:
– Ты мой жених!
Реб Иче не вырвался из рук больной, он остался в ее объятиях, смотрел на нее полным сострадания взглядом, как смотрит отец на больную дочь, и просил ее:
– Успокойся, Лея! Я – твой жених! Твой жених!
– Сумасшедшая! – оторвала девушку старуха мать от реб Иче. – У тебя уже совсем стыда нет?
Больная оглянулась, будто только теперь заметила толпу вокруг себя, сообразила, что она только что наделала, и, смущенная, опустив глаза, прижалась к старухе матери.
– Она перестала лаять! – сказал кто-то из толпы.
– Дьявол не имеет власти над праведниками.
– Где реб Иче?
– Он здесь!
– Где?
– Реб Иче – истинный праведник нашего поколения! – воскликнул босой Исроэл.
– Смотрите, реб Менделе еще стоит у окна, – показал кто-то пальцем наверх.
Реб Менделе действительно все время стоял, смотрел вниз на реб Иче, и его старое, морщинистое лицо сияло.
Реб Иче подвел больную девушку к бревну, посадил ее и только тут увидел, что ребе стоит у окна и смотрит на него; он сконфузился и остановился.
Затем он вошел в синагогу, несколько раз быстро прошелся по залу взад и вперед, пожевывая черную бородку, потом внезапно остановился, схватил книгу с полки, оперся ногой о скамейку, перелистал книгу, поставил ее обратно на место и снова начал шагать по залу.
Вслед за ним пришел Мордхе. Реб Иче глянул на него как на незнакомого, будто никогда его не видел. Мордхе растерялся, хотел было уйти, но реб Иче подошел, обнял его:
– Мордхе, ты уже позавтракал?
Мордхе утвердительно кивнул головой, хотя во рту у него ничего не было со вчерашнего вечера.
– Тогда пойдем к ребе.
Реб Иче взял Мордхе под руку и вышел с ним из синагоги.
Служка, пожилой человек с длинными, густыми пейсами, быстро прошмыгнул мимо. Пейсы его развевались, словно птичьи крылья. Реб Иче остановил служку:
– Доброе утро, реб Файвуш!
– О! – воскликнул служка. Он хотел подать реб Иче руку, но, вспомнив, что держит двумя пальцами понюшку табаку, сунул ее в нос, вдохнул, поморщился и вытер руки о рипсовый пиджак. – Здравствуйте, реб Иче!
– Как поживает ребе?
– Слаб, реб Иче, очень слаб! – вздохнул служка. – Со вчерашнего дня у него ни крошки во рту не было.
– Можно к нему сейчас зайти?
– Собственно, зайти-то можно, – пожал плечами служка, – но, если вы сейчас к нему заглянете, ребе уже совсем не будет есть. Простите меня, реб Иче, зайдите пока к реб Довидлу, а как только ребе покушает, я вас тотчас позову. Хорошо?
– Прекрасно! – потер реб Иче руки и пошел с Мордхе к реб Довидлу, старшему сыну ребе.
* * *
Реб Довидл, благочестивый еврей лет сорока с полными, румяными щеками и сильно вьющимися пейсами, гибкий, как пружина, в полосатом шелковом шлафроке и персидских мягких шлепанцах, поставил на стол стакан чаю, который держал в руках, встал и пошел навстречу гостям. Он подал реб Иче руку и спросил про Мордхе:
– А кто этот юноша? Знакомое лицо…
– Это сын реб Аврома – управляющего.
– Вот как! Действительно, похож на отца. – Реб Довидл протянул Мордхе мягкую, теплую руку, не сразу взял ее обратно, потом подвел его к столу и предложил: – Садись. Ты, кажется, единственный сын, а? Как поживает отец?
Мордхе смутился, но прежде, чем он успел что-нибудь ответить, реб Довидл уже начал беседу с реб Иче.
Реб Довидл слыл человеком весьма нездоровым: у него сильно болели ноги, он жаловался на камни в печени и к тому же опасался, что вот-вот получит астму. Каждый год он ездил за границу, на воды, всегда возвращался в состоянии худшем, чем до отъезда, да еще с новой болезнью, о которой никто пока не слышал, и носился с нею, точно с драгоценностью. Когда он говорил о своих хворобах, он всегда оживлялся, ему нравилось пугать близких, требовать сочувствия, и не раз, когда при «дворе» происходил какой-нибудь спор, он грозил всем, что пойдет на операцию. Весь «двор» жил болезнями Довидла. Жена целыми днями думала только о том, какое блюдо приготовить, чтобы поддержать слабое здоровье мужа. Дети ходили в доме на цыпочках, говорили тихо, будто в больнице, постоянно помнили о том, что папочка плохо себя чувствует. Сам Довидл не слишком занимался изучением Талмуда и Библии; по большей части он возился в собственной аптечке, где на полочках стояли сотни баночек и бутылочек с разными лекарствами, а также играл в шахматы. Два-три раза в неделю, когда приходила «Ежедневная газета», Шлойме-фельдшер сохранял номер для реб Довидла и читал ему про то, что слышно на белом свете. Реб Довидл знал все без исключения сплетни о жизни «двора», следил, чтоб никого не допускали к отцу, и руководил «двором» твердой рукой.
Довидл повернулся к жене, сидевшей с чашкой чаю у открытого окна в глубоком плюшевом кресле:
– Сореле, знаешь, кто это? Это сын Двойреле. Единственный сын!
Сореле, в черном шелковом наряде, с черной повязкой, закрывавшей лоб до половины, удивленная, приподнялась было с кресла, словно хотела подойти к Мордхе, но осталась сидеть у окна.
– Какой молодец, чтоб не сглазить! Ты знаешь, Довидл, он ведь одних лет с нашей Ривкеле!
Ривкеле, склонившись над столом, вышивала по черному шелку серебром и золотом; мотки ниток висели у нее на шее. Она широко раскрыла свои светлые, скромные глаза, которые так часто встречаются у дочерей хасидских ребе, глянула краем глаза на Мордхе и еще ниже опустила голову над вышиванием, и волна черных волос скрыла ее глаза.
– Сореле, смотри же, прими гостей как следует! – благодушно улыбался Довидл.
Сореле поставила стакан чаю, прозрачного, как вино, на черный восьмиугольный столик и обратилась к дочери:
– Ривкеле, принеси торт и вино!
Ривкеле была стройна и гибка, словно молодое деревце.
Мордхе посмотрел, как она исчезает в дверях, заметил, что из-под платья у нее выглядывает белое кружево нижней юбки и бьет по черным шелковым чулкам, и почувствовал себя как человек, который в нестерпимую жару вдруг ощутил веяние прохладного ветерка.
У другого окна сидела молодая женщина в шляпе и длинных белых перчатках; она нервно шевелила губами, будто разговаривала сама с собой. Мордхе заметил, что она даже не повернулась, когда они вошли, и сидела над книгой, почему-то гримасничая, – словно одна находилась в комнате. Юноша сбоку взглянул на ее бледное продолговатое лицо, и ему вдруг пришло в голову: так, вероятно, выглядела Сореле в молодости. Он догадался, что это старшая дочь Довидла, жена Даниэля Эйбешюца, о котором он так много слышал.
Женщина в чепчике внесла серебряный поднос с тортом, корзиночку с двумя бутылками вина, обвитую серебряным шнурком, поставила все это на стол и на цыпочках вышла.
Потом вернулась Ривкеле, принесла несколько рюмок, постояла минуту, как бы не зная, что дальше делать, и встала у окна возле матери.
Она раздвинула тюлевые занавески, складками падавшие на пол, выглянула в густой сад, сорвала листик с куста, пожевала его, шепнула что-то Сореле на ухо и смущенно улыбнулась.
Реб Довидл налил рюмки, выпил за здоровье гостей и повел рукой в сторону подноса с тортом:
– Угощайтесь!
После первой рюмки глаза хозяина дома затуманились. Он закусил выпитое куском торта, придвинулся к реб Иче и начал с ним тихо беседовать.
Мордхе тем временем рассматривал тяжелую мебель, которая местами потрескалась от ветхости, будто переходила по наследству от поколения к поколению, и пол с пушистыми персидскими коврами, в которых тонул каждый шаг; даже беспрерывное тиканье больших часов, стоявших в углу, отдавалось так глухо, точно и часы были завернуты в ковер. Сквозь тюлевые оконные занавеси заглядывали ветки; листья на них едва шевелились, тихий их шелест навевал дремоту. Старинное матовое серебро на угловых столиках, мягкие диваны, женщина в белых шелковых перчатках, которая сидела, как восковая, и только едва шевелила губами, – все молчало, будто из уважения к древности буфетов и диванов.
Сореле глубже уселась в кресло, поставила ногу на маленькую скамеечку и дружелюбно спросила у Мордхе:
– Где ты остановился?
Мордхе не сразу понял, о чем его спрашивают. Смущенный, он пересел на свободный стул, который стоял около Сореле, с минуту смотрел на нее, почувствовал, что делает глупость, покраснел и, продолжая сидеть, тихо ответил:
– У реб Йоселе.
– Я совсем забыла, – взмахнула Сореле рукой, будто что-то вспомнив. – Реб Йосл ведь с вами в родстве.
– Да, – кивнул Мордхе головой.
– Реб Йосл – крупный богач. – Сореле зажмурила глаза и покачала головой, как бы желая придать больше веса своим словам. – Большой благотворитель, грех жаловаться, много и щедро дает, но все-таки он поступил нехорошо. Мы ведь свои люди, нас здесь никто не услышит! Он не должен был ссориться с детьми и жениться на старости лет на молодой девушке. Он же глубокий старик: ему за шестьдесят. А она? Сомневаюсь, чтоб ей было больше двадцати трех – двадцати четырех лет…
– Ее отец тоже был против этого брака, – ответил Мордхе, – но он ничего не мог сделать. Сахарный завод его разорил, и, если б реб Йосл не дал ему тридцать тысяч злотых, завод давно был бы продан с торгов.
– A-а… Это другое дело! Значит, он ее купи-ил! – растягивала слова Сореле, как будто теперь ей все стало понятно.
– Говорят, она очень образованная, – вмешалась в беседу Ривкеле.
– А если она образованная, так нужно ходить без парика и водить дружбу с иноверцами? – вконец рассердилась Сореле.
– Все-таки, если б меня даже озолотили, я бы не вышла за такого старика! – рассмеялась Ривкеле и покраснела.
– Кто же об этом говорит? – Мать погладила ее по голове и обратилась к Мордхе, чтобы перевести разговор на другое: – А как поживает твоя мама? Она ведь всегда была такого слабого здоровья?
Мордхе не знал, что ответить, отрешенно смотрел, как Ривкеле срывает листики с куста, жует их, а когда собрался было что-то сказать, его уже никто не слушал.
Сореле говорила дочери:
– Я росла вместе с его матерью, мы были подругами с самого детства…
Ривкеле подняла глаза, смелее посмотрела на Мордхе, будто то обстоятельство, что их матери когда-то дружили, сближало ее с юношей. Мордхе о чем-то задумался, потом услышал, как реб Довидл говорит о своем отце, о ребе, говорит совершенно буднично; он хотел прислушаться, но в это время появился служка.
– Реб Иче, вы можете войти.
Реб Иче встал и сделал рукою знак Мордхе, чтобы тот пошел с ним.
– Зачем он тебе? – остановил реб Иче реб Довидл. – Оставь его здесь!
– Ну? – поглядел реб Иче на Мордхе и пожал плечами. – Чего ты сам хочешь?
Мордхе был в замешательстве, смотрел то на реб Довидла, то на реб Иче и не знал, что делать. Он колебался и со странной улыбкой, будто был чем-то обязан реб Довидлу, почти молил его разрешить ему познакомиться с ребе.
– Я пойду с реб Иче!
– Как хочешь. – Довидл направился в соседнюю комнату, но остановился на пороге. – У нас ты можешь чувствовать себя как дома. Слышишь?
– Приходи к ужину, – добавила Сореле.
Мордхе попрощался, счастливый, не понимая, отчего эти люди так заботятся о нем. Он почувствовал вдруг, что их дом становится ему близким. Не мог только понять равнодушия, какого-то будничного отношения этих людей к ребе, с которым они живут под одной крышей.
* * *
Служка, проведя их через несколько комнат, оставил подождать в той, где было особенно много книг, а сам на цыпочках подошел к двери комнаты ребе и остановился, прислушиваясь. Он должен был спросить, примет ли ребе гостей.
Мордхе пришел в восхищение от того, с каким благоговением относится к ребе служка, который жил вместе с ним свыше тридцати лет. Ему стало еще непонятнее, отчего реб Довидл говорит о ребе, своем отце, без всякого уважения, как о выжившем из ума старике.
Прошло уже тринадцать лет с тех пор, как реб Менделе перестал принимать хасидов и заперся у себя в комнате. Кроме родственников, к нему теперь никого не допускали. В первое время хасиды перестали ездить в Коцк, остались только немногие, веровавшие в ребе. Для них было достаточно того, что реб Менделе вообще существует. Оборванные, грязные, заросшие щетиной, они хранили и поддерживали мерцающий огонек польского хасидизма.
Приближенные боялись, чтобы ребе своим учением не оттолкнул и остальных хасидов. Его стерегли, следили, чтобы к нему не допускали людей. Хасиды, которые покинули Коцк, разъехались по другим городам, к другим ребе, но мучились в невольном изгнании и, страстно стремясь к слову истины, поодиночке возвращались. Рассерженные тем, что их не допускают к Учителю, они однажды прогнали служек и взломали дверь: они хотели освободить заключенного ребе, но ребе сам гнал их от себя, не давая подходить близко и обрушивая на их головы ужасные проклятия.
Реб Менделе видел, что хасидизм выдыхается, видел, что в нем нет больше глубинной сути, нет прежнего смысла. Кресло цадика переходит по наследству. Хасидизм как истинно великое учение исчезает. Хасиды взялись за бытовые заповеди, истинное понимание учения великого Баал-Шем-Това ускользало. Его перестали толковать, оно стало восприниматься таким же незыблемым, как Тора, дарованная еврейскому народу через Моше.
Реб Менделе тосковал, целых семь лет провел в уединении, углубился в изучение каббалы, но когда почувствовал в себе силы вдохнуть в польский хасидизм новую жизнь, увидел, до какой степени его не понимают. Он обнаружил, что люди по большей части довольны собой, что истина им не нужна, что они ничего не ищут и только о немногих можно сказать: «Не хлебом единым жив человек».
Реб Менделе погрузился в глубокую печаль, не ел, не пил и говорил только одно:
– Господи Боже, если я даже соберу горсточку хасидов, взыскующих Тебя, и уйду с ними в леса, разве Ты будешь доволен? И что делать грешникам, тем, что погружены с головой в проблемы материального мира и слишком слабы, чтобы познать Тебя? Что им делать, Отец милосердный? А ведь из них состоит большинство!
С тех пор «двор» окружил ребе бдительной стражей, почти никого не допуская к нему. И тринадцать лет он уже сидел один, ни с кем, в сущности, не общаясь. И когда им овладевала скорбь (а это происходило часто), ребе выбивал стекло в окне, окровавленными руками распахивал раму и, обросший, точно зверь в клетке, гнал от себя всех и проклинал мир Божий. И трудно было поверить, что этот человек, бывший воплощением милосердия, покровительствовавший больше грешнику, чем цадику, сидел в заточении, ненавидел людей и посылал им одни только проклятия.
– Пожалуйте, реб Иче! – Служка открыл дверь в комнату ребе и сделал знак рукой.
Ребе шел им навстречу. Мордхе дрожал от волнения. Ребе, маленький, обросший так, словно он никогда не жил среди людей, с дикими глазами, которые наполовину прикрывали кудлатые брови, вошел в чулках, держа в левой руке серебряную табакерку без крышки, всмотрелся в реб Иче, потом в Мордхе, понюхал табак и сказал раздраженно, как бы про себя:
– А кто этот парень?
– Это сын реб Аврома-управляющего, – ответил реб Иче.
Ребе сморщил и без того изборожденный морщинами лоб, хотел вспомнить, но не смог, махнул рукой и заговорил еще более сердитым тоном:
– Знакомо мне это имя, знакомо, но не припомню, о ком речь. Ах да, – вдруг спохватился он и подал руку Мордхе, – вспомнил! Ты, мне кажется, славный малый. Я знал твоего дедушку… Тебя, должно быть, зовут его именем?
Ребе подвинул им два стула, а сам сел на кровать.
Это была большая светлая комната. Вдоль стен на сбитых из обструганных досок полках стояли книги. Кровать, стол, стулья – все было сделано из таких же обструганных некрашеных досок. На столе лежало несколько табакерок с табаком, стояла медная чернильница, в которую были вставлены свеча и несколько гусиных перьев.
– Файвл-Мойше, где мои туфли? – крикнул ребе служку, притулившегося у дверей, и обратился к реб Иче: – А ты чудотворцем стал? Изгоняешь даже злого духа, а?
Реб Иче смутился, опустил глаза, будто в чем-то провинился, и ничего не ответил.
Служка принес туфли, хотел надеть их на ребе, но тот отстранил его рукой, нагнулся, внезапно почувствовал головокружение и с минуту оставался сидеть в такой позе.
Потом он медленно выпрямился и, измученный, без сил, покачал головой, как бы желая оправдаться перед реб Иче за свою слабость:
– Они заперли меня! Все, все они Бог знает что выделывают, все еще боятся, чтобы мое учение не сбило с пути истинных приверженцев Коцка. Ослы! Они убеждают мир, что человеку дана свобода воли. Но если он ею и обладал, то давно передал ее нам в руки! И мы, ребе, жаждавшие освободить мир от Виленских гаонов, мы все взяли на себя, но у нас сил не хватило. Не хватило даже на то, чтобы поставить наших хасидов у дверей и пробить им уши[37]37
Пробивание ушей – по библейскому обычаю – акт обращения в раба.
[Закрыть]. И если даже мы им пробили бы уши, они все равно приняли бы это с великой покорностью. Так низко пал человек.
Во время разговора у ребе выступили капли пота на лбу, на прозрачных висках вздулись жилы, брови совершенно закрыли глаза, лицо стало желтым и каким-то бессмысленным.
Реб Иче вскочил и поддержал рукой голову ребе, умоляя его:
– Ребе, ради Бога, выпейте хоть немного воды. Вы слишком много сидите в комнате! Выйдите во двор!
Ребе поднял брови, посмотрел на реб Иче глазами, в которых стояли слезы, и ответил слабым голосом:
– Если они заперли меня, если тринадцать лет могли без меня обходиться – я к ним не выйду!
– Ребе, уверяю вас, что все жаждут вашего слова! Неделями люди сидят в Коцке, и счастлив тот, кому удастся на вас посмотреть! Простые евреи съезжаются к вам со всей Польши. Никто вас не оставил, ребе! Смотрите! – указал реб Иче рукой на окно. – Двор полон хасидов!
Ребе поднялся, и реб Иче подвел его к открытому окну.
Хасиды бродили по двору. Атласные лапсердаки блестели на солнце, длинные чулки сияли белизной, пейсы локонами спускались на плечи. Правда, если долго всматриваться, можно было заметить, что атлас у многих потерт, у некоторых осталась вообще только подкладка… На траве, в тени, тоже сидели хасиды, играли в карты, пили чистый спирт, пели тихо и задушевно – так, что невольно хотелось прислушаться.
Ребе стоял, облокотившись обеими руками на подоконник. Он чувствовал какую-то легкость, будто с глаз у него сняли пелену; в первый раз за долгие годы он смотрел на своих хасидов без проклятий на устах. Он видел, как они лежат, вытянувшись, словно покойники, лежат в одних только лапсердаках и спят, видел, как босой Исроэл бегает, погруженный в хлопоты, по двору, надвигает ермолку на обросшую голову и заламывает руки, точно у него большое горе. Ребе вдруг как будто что-то понял и задумался. Его слабые глаза не выносили блеска атласных лапсердаков, сияния белых чулок, и он опустил веки, забыв, что позади стоят люди; он слушал пение хасидов и вдруг увидел себя в Пшисхе.
Обуреваемый мыслями, метался он по синагоге, опрокидывал пюпитры для молитвенников, перескакивал через скамейки, носился как ураган, сметал все, что ему попадалось на пути. Все расступались перед ним, освобождали ему место, думали, что он предается служению Богу, а на самом деле его тогда обуревала зависть к ребе, реб Бунему. В душе он уже тогда был уверен, что он ученее ребе, и все-таки он всегда чувствовал, что ему чего-то не хватает, что для того, чтобы стать истинным ребе, недостаточно быть ученым, нужно еще уметь читать «записочки», а когда он берет в руки «записочки», он там ничего не понимает. Это его страшно огорчало. Он думал, что никто к нему не будет ездить, что он никогда не достигнет той высоты, что реб Бунем. Однако, оставшись наедине с собою, он чувствовал, что таит в душе великое слово, которое вызовет переворот в мире, чувствовал, что превзойдет Баал-Шем-Това. Он должен только найти орудие истины, и он был уверен, что не сегодня-завтра найдет его и тогда прогремит на весь мир. Но когда он являлся к хасидам, ловившим каждое его слово и жаждавшим услышать от него что-нибудь новое и важное, он вдруг немел и не мог раскрыть рта. Зато если начинал толковать какой-нибудь библейский текст, то уж проявлял тогда все свои знания, остроумие и, казалось, не упускал ни одной мелочи. Но ему недоставало чего-то главного, того, чего нельзя достигнуть одним усилием воли: не было всклокоченной бороды, полуприкрытых глаз, ясного высокого лба – всего, что так привлекает людей. Если же реб Бунем брался за тот же текст, он не занимался подробным его толкованием, говорил два-три слова, приводил какой-нибудь пример, и текст преображался, оживал. Хасиды наслаждались Торой, передавали толкования ребе своим детям, и слава его росла из поколения в поколение.








