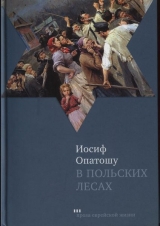
Текст книги "В польских лесах"
Автор книги: Иосиф Опатошу
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
* * *
На рассвете кибитка остановилась у деревенской корчмы. Пассажиры проснулись и не поверили, что уже проехали Седлец и что совсем недалеко до Лукова… Довольные, они вошли в корчму.
Несколько хасидов, облаченных в талесы, ходили по корчме и молились вслух. На полу, на длинных скамьях, под столами лежали юноши, старые хасиды, мальчишки… Положив узлы под голову, все дружно спали. Лишь за длинным столом бодрствовали несколько крестьян, они пили пиво и неспешно беседовали. Иногда какой-нибудь еврей останавливался около них, поправлял талес и, не переставая молиться, прислушивался к разговору. В углу на маленьком столике, согнувшись и поджав под себя босые ноги, примостился деревенский портной. Глаза у портного были красные, на кончике носа сидели очки, в которых виднелось только одно стеклышко, на шее болталась неряшливо сложенная бумажная мерка. Он шил халат для корчмаря.
Корчмарь, здоровый краснощекий еврей с длинной рыжей бородой, сидел за стойкой на плетеном стуле, держа на руках сильно раскормленного малыша в короткой рубашечке, и кормил его размоченным в сладком чае сухарем. Малыш, задрав толстую ножку, внимательно изучал крохотного котенка.
Корчмарь положил в ложечку кусочек сухаря, долго дул на него, потом открыл ребенку ротик и насильно впихнул туда сухарь, откармливая дитя, словно гуся. Ребенок давился, потом проглотил сухарь, но расплакался.
– Я с ума сойду! – кричала жена корчмаря, маленькая беременная женщина, бегая среди гостей и с трудом переваливаясь под тяжестью своего огромного живота. – Что опять случилось? Чтобы нельзя было ни на кого ни в чем положиться!
Корчмарь не ответил, он звенел ложечкой о стакан. Ребенок засмотрелся и успокоился.
Мордхе и реб Иче принялись молиться. Постепенно все проснулись, поднялись с полу, слезли со скамеек, выползли из-под столов, и корчма стала похожа на ярмарку.
Хасиды группировались по землячествам. В центре находились варшавяне. Их сразу можно было узнать. Рипсовые лапсердаки до пят сидели на каждом как влитые, белые чулки были будто только что выстираны. Бархатные, шелковые шапки с широкими донышками, спускавшиеся чуть ли не на уши, меховые шапки с пушистыми хвостиками, свисавшими с головы, как колокольчики, все это кричало: уважения! Я варшавянин! Говорили они все сразу, на певучем варшавском диалекте, то и дело горячились, от каждой мелочи приходили в восторг, успевая заигрывать и с женой корчмаря, и с крестьянской девушкой, в соседней комнате склонившейся над корытом с бельем. Эти люди почти не имели вещей, ехали к ребе налегке, с палочками в руках. Платили они корчмарю щедро и были поэтому самыми желанными гостями.
Вокруг варшавян группировалась провинция – евреи с мечтательными глазами в тяжелых лапсердаках, внешне походивших на жестяные, в грубо сшитых из одного куска кожи сапогах, в суконных и бархатных шапках с пуговицей посредине. Они везли с собой увесистые мешки с провизией, прочно сидели на своих узлах, остерегаясь воров, дичились варшавян, словно боясь, чтобы те их как-нибудь не надули. Они давали небольшую прибыль корчме и жалели варшавян, которые сорят деньгами, тратя последние гроши.
Время от времени в разных углах на молитву собирались группы хасидов. Едва сняв талесы и тфилин, они пускали по кругу бутылку водки, которая резво переходила от одного рта к другому.
В стороне стоял молодой человек, закутанный в талес. Он бил себя кулаками в грудь, качался из стороны в сторону, периодически ударяясь головой об стену, и одновременно испускал нечеловеческие крики.
Одни смеялись над ним, другие молча смотрели, наслаждаясь необычным зрелищем: при такой молодости и такой молитвенный экстаз!
Варшавянин в бархатной шапке подошел к молодому человеку и проговорил негромко, но так, что слышно было на всю корчму:
– Что ты так себя терзаешь? Тебе ночью ведьма снилась?
Молодой человек не ответил, точно обращались не к нему, и продолжал раскачиваться.
– Если не угостишь всех водкой, – взял его варшавянин за талес, – тебе не дадут молиться!
Молодой человек выпрямился, умоляюще взглянул на варшавянина, прося оставить его в покое, и приложил к губам палец, показывая, что не может теперь прервать молитву.
Мордхе, только что сняв тфилин, опускал рукава. Он не мог равнодушно смотреть, как варшавянин пристает к юноше: подбежал, со злостью схватил варшавянина за шиворот и отбросил его прочь с такой силой, что тот, падая, повалил двух евреев.
Поднялся шум. Варшавяне обступили Мордхе, грозили палками, кричали, что его нужно положить поперек стола и хорошенько выпороть. Мордхе взял со стойки увесистую кружку и стоял, спокойно ожидая, что произойдет дальше.
Высокий еврей, босой, оборванный, с лохматой головой, вылез из-под стола, локтями пробился вперед и принялся ругаться:
– Обжоры вы поганые! Мало того что сами грешите – так не можете видеть, как другой сосредоточенно молится! Куда вы едете? К вероотступнику? Он ведь гонит вас от себя. Сидит и мудрствует! Ничего Божественного в нем уже нет, остался только ум, иссушенный ум! Слышите?
Все забыли про Мордхе, окружили босого Исроэла, которого иногда называли «проповедник из Коцка». Он был единственный, кого ребе ежегодно накануне Йом Кипура зазывал к себе в комнату и приказывал читать себе назидания. Хасидская молодежь его не любила, и, если бы не богобоязненные старики, его вообще не пускали бы в Коцк.
Услышав, что он поносит ребе, варшавяне сжали кулаки, подняли палки и закричали:
– Молчать, наглец! Почтение к ребе!
– Хватайте его! Пороть его! Чего стоите?
– Подвиньте поближе скамью!
– Кладите его поперек!
– Вот так!
В тот момент, когда варшавяне уже было подняли босого Исроэла над скамейкой, намереваясь швырнуть вниз, перед ними вырос реб Иче. Он стоял, не произнося ни слова. Матовое лицо казалось утомленным, глаза смотрели с такой печалью и укоризной, что окружающие смутились и попятились назад.
Варшавяне отпустили босого Исроэла. Тот слез со скамейки, подтянул брюки, сшитые из мешков из-под соли, и бросился к реб Иче, растянулся у его ног, обнял их, целуя, и закричал:
– Ребе, веди нас, будь нашим наставником! Ты ведь знаешь, что нет у нас пастыря, что настоящие хасиды околачиваются у чужих ребе и не приезжают больше в Коцк… Нет там ныне святости, нет! Святой дух от него отвернулся, черти пляшут там кругом… Ребе, веди нас!
– Горе ушам, слышащим такое! – крикнули несколько хасидов.
– Его надо извести под корень! – откликнулся кто-то.
Пожилой хасид со сжатыми кулаками бросился к босому Исроэлу, хотел растоптать его, искалечить, но вдруг остановился перед реб Иче, будто его парализовало.
Реб Иче еще больше побледнел, поднял Исроэла с полу и тихо сказал:
– Не греши, Исроэл, реб Менделе – величайший праведник нашего поколения. Поезжай и проси; он наложит на тебя покаяние!
Все стали на цыпочки, рвались к реб Иче, ловили каждое его слово.
Реб Иче взял босого Исроэла за руку, вывел его в боковую комнату и закрыл за собой дверь.
Люди разбились на группы, кричали и спорили, размахивая руками. Одни твердили, что нельзя пускать Исроэла в Коцк, другие считали, что, раз реб Иче посылает его к ребе за покаянием, никто не должен в это вмешиваться.
Мордхе стоял в стороне, смотрел, как волнуется толпа, забыв, что из-за него поднялся весь этот шум, и думал: мог бы он стать перед толпой евреев, как босой Исроэл, и обличать их, и читать наставления? Тут он заметил, что из-за угла на него кто-то посматривает. Он вгляделся в незнакомца, и у него возникла уверенность, что этого человека он уже где-то видел. Мордхе стал вспоминать. Вспомнил дедушку, которого обокрал, чтобы поехать в Коцк, и ему все стало ясно. Незнакомец был тот самый парень, у которого он учился, когда дедушка состарился. Он хотел увильнуть от него, смешаться с толпой, но молодой человек остановил его:
– Мордхе, ты меня не узнаешь?
– Шмуэл! – спохватился Мордхе, словно пораженный неожиданностью. – Ты давно из Плоцка?
– Я уже почти три недели в дороге.
Шмуэл засунул большие пальцы обеих рук за пояс и переминался с ноги на ногу.
– Итак, мы снова встретились! «Человек человека встречает», да? Один едешь?
– Нет, с реб Иче.
Мордхе заметил, что Шмуэл слегка улыбнулся, когда услышал имя реб Иче.
– Что ты думаешь об Исроэле? – спросил Шмуэл, чтобы сказать хоть что-нибудь. – Я уже от нескольких хасидов слышал, что в Коцке что-то неладно…
– А именно? – Мордхе посмотрел ему прямо в глаза.
– Говорят, – растягивал слова Шмуэл, как бы желая придать им больше весу, – ребе никого не принимает, не подает даже руки, и с тех пор, как случилось это несчастье, сидит взаперти в своей комнате…
– Какое несчастье? – удивился Мордхе.
– Разве ты ничего не знаешь? – Шмуэл огляделся: не подслушивает ли их кто-нибудь. – Едешь с реб Иче и ничего не знаешь?
Он взял Мордхе под руку, вышел с ним из корчмы во двор.
– Значит, ты ничего не слышал про то, что случилось в Коцке?
– Нет.
Шмуэл нагнулся к Мордхе, заговорил тише, как бы собираясь поведать ему некую тайну:
– Говорят, ребе перед всем народом заявил: «Нет закона, нет и судьи!» Приближенные ребе опасаются, что он может разогнать всех, поэтому к нему никого не допускают. При «дворе» ребе творится нечто невероятное. Ребе хочет выйти к толпе, стучит кулаками в запертую дверь, проклинает… Понимаешь, что это значит? Постигаешь? Ведь реб Менделе – настоящий мудрец, величайший праведник нашего поколения, наделенный острым, ясным умом. Он почувствовал приближение истины, и вот его запирают в комнате, как безумного, отодвигая приближение Избавления, и многие хасиды уже перестали к нему ездить… Поговаривают, что народ будет ездить теперь к реб Иче…
Мордхе растерялся, не веря своим ушам. Он видел перед собой опустевший Коцк, двор, заросший травой, и одинокого ребе, сидящего на развалинах и проклинающего весь мир. Его охватили страх и сильная жалость, и он решил тотчас же пойти к реб Иче, умолять его, целовать ему руки, чтобы он не принимал к себе хасидов, ушедших от реб Менделе. Он был уверен, что реб Иче не сделает такого.
– Ты не веришь? – продолжал Шмуэл. – Положись на меня! Впрочем, мы скоро будем в Коцке. Ты уже поел? У меня сегодня во рту ни крошки не было…
– Пойдем, пойдем в корчму, вместе позавтракаем. – Мордхе положил руку Шмуэлу на плечо.
В корчме стоял тот же шум, что и прежде. Хасиды перебегали от одной группы к другой, ссорились, пили за здоровье друг друга. Каждая группа хотела переманить противников на свою сторону. Варшавяне всех подряд угощали пивом, водкой, дорогим табаком. Упрямые провинциалы твердо стояли на своем, ничто не могло их переубедить; они избегали говорить о реб Менделе и, в общем, твердо решили про себя, что, если на этот раз реб Иче не признают в качестве ребе, они совсем перестанут ездить в Коцк.
Мордхе заказал завтрак и сел со Шмуэлом за столик в углу. Проголодавшись, оба ели, что называется, «как из голодного края». Шмуэл говорил без умолку.
Мордхе заметил, что его бывший учитель не омыл рук перед едой, а теперь над всем посмеивается. «Э, чепуха все это!» – повторял он то и дело.
– Заходишь ли ты иногда к моему деду? – спросил Мордхе.
– Видишь ли… – Шмуэл чуть не подавился куском, который не успел проглотить. – Твой дед – порядочный, благочестивый еврей! На старости лет он стал еще большим противником хасидов. Ты будешь смеяться: в первый день Пейсаха он выставил в окне миску с кнейдлех[26]26
Традиционное блюдо, клецки из мацовой муки. Согласно хасидской традиции считается запретным в праздник Пейсах.
[Закрыть] для бедняков. Ну и в городе начался скандал! Хасиды скрипели зубами, но открыто никто ему слова не сказал. Все-таки евреи относятся к реб Авремлу с почтением! Да и с другой стороны, а что есть бедняку? Раньше-то ели картошку с борщом, но кто в этом году может себе позволить картошку? Такая дороговизна! Денег не хватит!
– Знаешь, мой дедушка когда-то ездил в Коцк, – возразил Мордхе.
– Знаю, как же, но хасидом он никогда не был, – улыбнулся Шмуэл в свои русые усы. Он несколько раз открывал рот, явно желая о чем-то спросить, но не решался. Потом все-таки набрался смелости: – Мне хотелось бы знать, неужели ты веришь, что он станет принимать «записочки»[27]27
Хасиды подавали ребе письменное обращение, в котором излагали свои просьбы, и ребе просил Бога об исполнении их желаний.
[Закрыть] в Коцке, станет признанным ребе?
– Кто? – удивился Мордхе.
– Ну, реб Иче…
– Кто знает, – пожал плечами Мордхе. – А ты что думаешь по этому поводу?
– Да ничего я не думаю, – усмехался Шмуэл, будто зная какую-то тайну. – Я просто так спросил… И ты полагаешь, что сын реб Менделе Довид смолчит? А другие дети? Каждый захочет восседать за столом после отца. Все четверо сыновей ребе из Стрикова стали ребе, и каждый имеет своих приверженцев… Скоро в каждом городе будет свой ребе…
Мордхе был огорчен. По усмешке Шмуэла он понял, что тот ко всем этим вещам относится совершенно несерьезно, хотел прекратить разговор, но все-таки добавил:
– Если ребе принимает «записочки», значит, это дано свыше.
– Конечно, конечно, все предначертано свыше! – Но глаза Шмуэла смеялись. – Знаешь, на могилу ребе из Пшисхи, тотчас же после его погребения, села птица, сидела неподвижно, не ела, не пила, только пела, пока не испустила дух прямо тут же, на могиле ребе! Это тоже свыше?
– Конечно! – почти крикнул Мордхе.
Он заметил, что Шмуэл покраснел, смутился, губы его задрожали, а сам он, казалось, хочет в чем-то признаться собеседнику. Он взял Мордхе за плечо, нагнулся к его уху и проговорил с ухмылкой:
– Между нами говоря, никакая птица там не сидела. Реб Гирш из Плинска, богач, маскил[28]28
Маскил – «просвещенец». «Просвещенцы» – идеологи еврейской буржуазии конца XVIII – первой половины XIX в.
[Закрыть], один из тех, что посылают детей учиться светским наукам, сообщил мне по секрету, что наутро после погребения сам положил мертвую птичку на могилу. Ну что тут сделаешь? Расскажи это хасиду – он тебя растерзает! Хасиды утверждают, что это символ. Никакой птицы, мол, не было. Сам архангел Гавриэль прикинулся птицей. Птица – символ; как Суламифь из «Песни Песней» – символ Израиля.
Тут Шмуэл спохватился, не подслушивает ли их кто-нибудь, и умолк. В этот момент подошел реб Иче, посмотрел на обоих с таким выражением лица, точно все слышал, и обратился к Мордхе:
– Едем.
– Может быть, и для меня местечко найдется? – смиренно спросил Шмуэл у Мордхе. – Хоть на козлах, и то хорошо будет – лишь бы дотащиться до Коцка.
Мордхе Шмуэл все больше не нравился, он хотел сказать, что в бричке нет мест, но, поколебавшись немного, все-таки утвердительно кивнул головой:
– Хорошо, место тебе будет.
– У тебя, может, есть несколько злотых – в порядке выполнения заповеди о милосердном подаянии, – сказал Шмуэл как бы между прочим, – мне нужно уплатить корчмарю.
– Сколько?
– Пяти, пожалуй, мне хватит.
Мордхе дал Шмуэлу серебряную монету в пять злотых и несколько секунд смотрел, как тот исчезает в толпе. Мордхе так и не понял, зачем Шмуэл рассказал ему историю с птицей. Если вероотступник действительно положил мертвую птицу на могилу, то разве этим была поругана честь ребе? И зачем он примешивает сюда «Песню Песней»? Неужели и впрямь думает, что «Песня Песней» не должна быть понята как символ? Когда-то этот же самый Шмуэл посвящал его в основы хасидизма. Как бережно передавал он ему каждое словечко реб Менделе! Если этот человек так изменился за короткое время, зачем же он едет в Коцк? И какова его вера?
Рассерженный, недоумевающий, Мордхе вышел из корчмы. Вопросы, один другого сложнее, мучили его, не давая покоя, как докучливые мухи, а на губах у него вертелись слова: «Четверо вошли в сад…»[29]29
Слова из притчи о четырех мудрецах, один из которых умер, другой сошел с ума, третий предал и лишь четвертый прошел сад, т. е. тайны Торы, до конца.
[Закрыть]
* * *
Вечером кибитка, полная до отказа, выехала из деревни. Все были веселы, все давно забыли мелочные ссоры и радостно распевали песни; предполагалось, что к рассвету они окажутся в Коцке.
Мордхе несколько раз заговаривал со Шмуэлом, но, заметив, что тот отвечает скупо и неохотно, сел в стороне. Он решил, что Шмуэл, вероятно, боится, чтобы кто-нибудь их не подслушал.
Шмуэл сидел среди хасидов, говорил только о Торе. Все почтительно прислушивались к его словам. Мордхе удивлялся Шмуэлу, не понимал его и чувствовал, что ему становится грустно. Он смотрел на бескрайние тихие поля, на перелески, издали походившие на черные тучи. Заходящее солнце ярким пламенем на миг озарило верхушки леса. Тоска Мордхе усилилась. Реб Иче сидел с закрытыми глазами и бормотал себе что-то под нос. Закат постепенно угасал. Вокруг темнело, песни в кибитке зазвучали тише, печальнее, Мордхе, подавленный, ощутил, что и в душе у него что-то исчезает вместе с заходящим солнцем. Он опустил голову, сунул ладони в рукава, сжал губы и начал покачиваться.
Кибитка въехала в Луковские леса. Стало совсем темно. Лошади медленно ступали по песку. В темноте мерещилось, будто из леса выходят люди и останавливаются посреди дороги.
Босой Исроэл, который сидел на козлах, ни разу не проронив ни слова, воскликнул первым:
– Пора совершить вечернюю молитву!
Кибитка остановилась. Все вышли, приготовились, вытерли руки влажным от росы мхом, обвязались кто платком, кто поясом и вступили в лес.
Старый хасид стал лицом к востоку, оперся обеими руками о дерево и начал, раскачиваясь, читать вечернюю молитву:
– «И Он милосерден, искупит прегрешение…»
Толпа подхватила слова, и они зазвучали громче. Звуки летели от дерева к дереву, ударяясь о высокие сосны, как о натянутые струны, и долго отдавались эхом в Луковских лесах, словно голоса заблудившихся.
Проходящий мимо крестьянин снял шапку и со страху начал креститься, но, разобрав, что это молятся евреи, постоял немного и, ободренный тем, что рядом стоят и молят Бога живые люди, уверенно шагая, исчез в темном лесу.
После молитвы пассажиры снова заполнили кибитку, и лошади потащились дальше. Часть хасидов, привычно расположившись на узлах, смотрела на звездное небо, висевшее над темным лесом, кто-то дремал, несколько человек, сбившись в кучу, сидели, освещенные бледным светом, который посылала луна, старались не смотреть в темноту и, чувствуя свою беспомощность и страх перед ночью, рассказывали, пытаясь отвлечься, всевозможные истории.
Босой Исроэл, сидевший на козлах, напевал что-то тоскливое, жужжал как муха, схваченная за крыло. Он слегка прихлопывал в ладоши и вытягивал тона с полнотой такого горя, что в кибитке все приумолкли. Мордхе почувствовал, как по спине у него поползли мурашки, словно его окатили холодной водой, и задрожал.
Босой Исроэл рвал теперь на себе длинные спутанные волосы, стонал сквозь стиснутые зубы, как от нестерпимой боли, сплетал пальцы, оборачивался во все стороны – к востоку, к западу, к северу, к югу, как лулов[30]30
Соединенные вместе ветви пальмы, мирта и ивы, один из обязательных атрибутов праздника Суккот (Кущей).
[Закрыть] во время благословения, – и тихо плакал:
– Ой, Господь, ой, Бог наш, ой, великолепие, ой, один… на царском престоле…
Плач этот долго стоял у всех в ушах, как бы подчеркивая лесную тишь, усиливал страх, сгущал тьму. Все невольно задрожали.
Мордхе неожиданно понял, что сидит рядом с реб Иче. Вдруг он увидел, что небо прояснилось, а звезды, став больше, загорелись непривычно ярким огнем. Они лежали, как насыпанные, рядом друг с другом, спустились ниже и, казалось, вот-вот начнут падать всем на головы.
Реб Иче взял Мордхе за руку, посмотрел на небо, с минуту помолчал и тихо спросил:
– Слышишь?
Ослепленный, Мордхе широко раскрыл глаза; тысячи звуков, один другого нежнее, неслись к нему. Эти звуки пришли из леса, из тьмы, со звезд. Он чувствовал руку реб Иче в своей, слышал, как тот шепчет ему на ухо, да так тихо, будто гладит его щеку пушинкой:
– …истинной мелодией можно подняться до пророчества, мелодия заключает в себе все тайны милосердия, и настоящий праведник общается с Господом Богом только через музыку…
Мордхе не разбирал слов реб Иче. Он только смотрел, как звезды прыгают, выстраиваются в ряд, складываются в буквы, и огненное слово «Господь» зажигается в небе справа, а слова «Бог наш» – слева.
«Отец» сгибается втрое, корчится, тянется к «матери». «Мать» начинает плакать, ибо теперь она связана. Поднимается шум, звезды раздвигаются, освобождают место, и мелодия достигает неба. Ее напевают мириады звезд, ее напевает лес. Мелодия укутывает «мать», как одеяние из света. Она разрывает веревки и ведет пляшущую «мать» к «отцу». «Отец» и «мать» встречаются, обнимаются и сливаются с мелодией. Вдруг вокруг воцаряется тишина, все создания – на небесах, на земле, в глубинах лесов и вод, – трепеща, подхватывают немой напев и предаются любви.
* * *
С наступлением утра Мордхе проснулся. Слезы стояли у него в глазах, он еще чувствовал поцелуи Рохеле на своих щеках и, огорченный, в первую минуту старался понять, за что его отрывают от нее. Потом вспомнил, что только что проснулся, и осмотрелся по сторонам. Кибитка стояла. Старик на деревянной ноге и с мешком за спиной подошел к ним с дороги:
– Доброе утро! Подвезите человека в город!
Люди потеснились, старика посадили в кибитку. Кто-то спросил:
– Вы родом из Коцка?
– Почти, – улыбнулся старик. – То есть родился я в Праге, но живу в Коцке больше сорока лет.
– Сколько же вам лет, дедушка? – потянул его за рукав какой-то молодой человек.
– А зачем тебе знать? – обиделся было старик, но тут же смягчился: – Скажу честно, я сам не знаю! Когда я служил у Берека[31]31
Берек (Дов Бер) Иоселевич (1764–1809) – уроженец города Кретинги в Литве, полковник польского войска времен антирусского восстания Тадеуша Костюшки и наполеоновский войн. В 1794 г. получил поручение от Костюшки набрать из евреев кавалерийский полк и принял деятельное участие в защите Варшавы. Большинство его солдат погибли в боях с войсками Суворова. Бежал в Италию к генералу Домбровскому и там записался в польский легион. Пал в бою в Коцке.
[Закрыть] под Прагой, мне сравнялось как раз шестнадцать, а это было… Сейчас… Было в пятьсот пятьдесят четвертом году[32]32
По европейскому календарю – 1794 г.
[Закрыть]. Ну, сосчитайте! – улыбался старик, показывая два уцелевших зуба, торчавших, как вилы.
– Вам уже около восьмидесяти, – произнес кто-то.
– Вы неверно сосчитали, дяденька! – улыбнулся старик. – Я старше!
– Конечно, конечно, – вмешался Шмуэл, – этому человеку больше восьмидесяти.
– Молодой человек угадал, – покачал головой старик. – В первый день Швуэс[33]33
Весенний праздник.
[Закрыть] мне пошел восемьдесят первый год.
Лошади выехали на шоссе, рванули кибитку и с грохотом повезли ее вперед. Кибитка стонала, ее колеса со скрипом терлись о несмазанные оси.
Мордхе внимательно посмотрел на человека, принимавшего участие в битве под Прагой, и придвинулся к нему поближе, но растерялся, не зная, о чем спросить.
Не раз слышал Мордхе от своего отца, что их родственник, Шлойма из Збиткова, платил тогда казакам серебряный рубль за каждого убитого еврея и золотую трехрублевку за живого.
– Вы действительно служили у Берека Иоселевича? – заговорил вдруг хасид, все время лежавший на своем мешке. – У того самого, который похоронен за Коцком?
– Да, да… – Старик вынул табакерку, основательно затянулся, чихнул себе в бороду и передал табакерку другим. – У этого самого, у Иоселевича, я и служил.
– И была действительно бойня, да? – Хасид сдвинул набок бархатную шапку. – Ведь говорили, что ужасная бойня… Я, конечно, точно не знаю, но, кажется, весь еврейский полк был уничтожен…
– Правда, правда. – Старик показал рукой на деревянную ногу: – Тогда я и ногу потерял!
– В самом деле? Ай, ай! – Старые хасиды с удивлением смотрели на протез, будто он приобрел теперь особое значение.
Старик задумался и вздохнул:
– Эх, давно, давно все это происходило…
– А он действительно был – как его звали, Берек, кажется? – опять спросил хасид в сдвинутой шапке, – такой великий вождь? Должно быть, большого ума был человек. Шутка ли – руководить войском! Это ведь трудное дело!
– Он был грешник, – бросил кто-то. – Он открыто осквернял субботу.
– Ты не достоин говорить о нем! – загорячился старик. – Кто ты такой, деланный праведник, который ни о ком, кроме себя, не думает? Вспомни лучше о собственных грехах!
– Даже в Йом Кипур он дрался, – отозвался кто-то еще.
– И пусть! – Со злости старик поднял свою деревянную ногу вверх, как бы замахиваясь на хасида. – Реб Меирл разрешил ему. Если не знаешь, так молчи!
– Только не ссорьтесь, только не ссорьтесь! – начал Шмуэл успокаивать старика.
– Кто ссорится? – еще громче закричал старик. – Я не люблю, когда человек говорит про то, чего сам не знает.
Мордхе вынул бутылку подслащенной водки, поднес старику, тот потянул из нее, разом оставив меньше половины, согрелся и оживился.
– Как он говорил с вами, Берек, по-еврейски? – спросил Мордхе.
– О чем вы спрашиваете? Конечно, по-еврейски! – улыбался старик. – Я ясно помню, как если бы это сейчас было предо мною. Когда он сидел на белой лошади, он выглядел царем. А усы у него были… Не один поляк ему завидовал: без преувеличения можно сказать, они ему до плеча едва не доставали.
– Пожилые люди тоже служили в полку? – поинтересовался Мордхе.
– Пожилые? – Старик закрыл один глаз и подумал с минуту, как бы не очень понимая, о чем его спрашивают. – Мало было пожилых, все больше молодые. Но нашему полку стыдиться не приходилось. Даже уланы отступали, не могли устоять перед огнем врага, а мы, евреи, лежали больше четырех недель возле старого кладбища в окопах и дали-таки противнику пороху понюхать. Правда, продержались недолго. Но если бы мы получили тогда хоть один полк в подкрепление, – старик заговорил тише, словно желая сообщить что-то секретное, – Варшава осталась бы в наших руках. Даже в Йом Кипур мы не уходили из окопов. Реб Меирл разрешил. Помню как сегодня: после чтения Кол нидрей[34]34
Синагогальная молитва, которая читается в Судную ночь.
[Закрыть] на землю опустилась светлая ночь, небо было густо усеяно звездами. Никто из нас глаз не сомкнул. Мы сидели кучками у костров, беседовали о разном, говорили немного и на религиозные темы и ждали: враг каждую минуту мог начать штурмовать наши окопы. Берек тоже был с нами, переходил от костра к костру, для каждого солдата находил теплое словечко, шутку. В общем, куда только он не подходил, везде становилось веселее. Это был душа-человек!.. Да, так с чего я начал? Враг был уверен, что евреи в Йом Кипур драться не станут, и с наступлением дня начал штурмовать наши окопы. Что вам сказать, дети мои? Воздух был раскален, так и сыпались снаряды… Мы тоже не молчали; каждый раз, когда враг наступал на нас из лесу, казалось, что все леса сдвинулись с места. Страшно было… Но когда враги подошли ближе к окопам, наши пушки их всех как косой скосили. Так продолжалось почти до вечера. Берек бегал от одного окопа к другому. Три лошади пали под ним в то утро, и каждый раз, когда он кричал: «Пли!» – пушки начинали грохотать так, что уши закладывало. Враг придвигался все ближе. Загорелись деревянные еврейские домики, у нас огонь был тоже и сзади, и спереди. Но мы стояли все, как один человек, до последней минуты, и, когда враг ворвался в окопы, мы и тогда не удрали, бились за каждую пядь земли, и кровь лилась рекой. Понимаете?.. Десять солдат-язычников против одного еврея. Как саранча, они высыпали из леса; лишь тогда Берек приказал отступить. От всего полка нас оставалось только несколько десятков. Но никто не сдался врагу, а я, убегая, получил пулю в ногу.
– Говорят, что Шмуэл из Збиткова… – начал один из хасидов.
– Знал ли я Шмуэла из Збиткова? Ха-ха-ха! Это был ангел! – прервал хасида старик. – Когда казаки вошли в Прагу, они там устроили такую бойню, что упаси Господи! И если бы не Шмуэл из Збиткова, едва ли уцелел бы хоть один еврей в Праге. Он послал гонцов и дал знать, что каждый казак получит за мертвого еврея серебряный рубль, а за живого – золотую трехрублевку. Понятно, что к нему привели больше живых…
Старик замолчал, по привычке пощупал, на месте ли его деревяшка, вздохнул и опустил голову.
– А куда девался Берек? – спросил Шмуэль. – Остался в Польше?
– Он был не дурак, – усмехнулся старик. – В тот же день уехал за границу! Если бы он остался в Праге, он был бы повешен. Не думайте, все было рассчитано до мелочей, там, да будет вам известно, было достаточно умных людей!
– Но он же вернулся обратно, этот Берек, – прервал пожилой хасид старика.
– Дайте же рассказать, – старик сделал рукой знак хасиду, чтобы тот замолчал, – не забегайте вперед! Что я хотел вам сказать? Да. В первое время ничего не слышно было о нем, о Береке, как будто он в воду канул. Позже люди рассказывали, что он стал адъютантом у Наполеона, завоевывал страну за страной, и все думали, даже христиане, что наш Берек освободит Польшу. Теперь, господа, оставим в покое Берека и поговорим о моей ноге. Послушайте, какие чудеса бывают. Я пролежал в лазарете до поздней зимы. Возились, возились – лучше не стало. Коротко говоря, мне отняли ногу выше колена. Не стоит вспоминать, как мне было горько: калека, ни гроша за душой, а тут надвигается Пейсах. Ничего не оставалось делать, кроме как взять суму и побираться. Но есть Бог на свете, Он ниспосылает исцеление от всех болезней. В тот день, когда я должен был выписаться из лазарета, туда зашел совершенно чужой человек, спросил мое имя, оставил мне кошелек с двумя сотнями злотых и, прежде чем я успел прийти в себя, скрылся. Позже я узнал, что это один еврейский магнат посылал каждому из полка Берека, кто уцелел, по двести злотых. В те годы, понятно, это была большая сумма. Мне, конечно, начали сватать невесту из Коцка, младшую дочь Шлоймы-банщика. Словом, что тут долго рассказывать: я женился. После свадьбы тесть сказал мне (умный человек был Симха): «Мой совет тебе: становись цирюльником. Если для всякого другого это дело выгодно, то для тебя тем более! Стричь! Кровь пускать! Не унывать!.. И ты, с Божьей помощью, заработаешь на жизнь». В те времена, понимаете ли, каждый обыватель раз в месяц стригся в бане и пускал себе кровь. Все удовольствие стоило три копейки, ха-ха-ха!.. Так, на чем я остановился? Я сделался цирюльником. Первое время приходилось биться, как льву, из-за хлеба насущного, дети у меня, не про вас будь сказано, не выживали, но не в этом суть. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Однажды послали за мной из дальней деревни, чуть ли не из-за Лукова. Арендатор заболел и желал непременно, чтобы только я пустил ему кровь. Тогда это была нелегкая поездка. Коцк, понимаете ли, принадлежал австрийцам, а Луков – русским! Такая поездка была связана с опасностью для жизни. Но ничего, я знал, что меня, калеку, никто трогать не будет. Словом, я пустил кровь, этому еврею стало лучше, а как только я выехал из деревни, я встретил Берека. Он совсем не изменился. Те же усы, тот же шрам на лбу, только другая шапка – меховая, медвежья. Я сейчас же слез с телеги, стал перед ним на своей деревянной ноге, как в добрые старые времена, руку под козырек, и заговорил: так, мол, и так, пан полковник; произнес весь титул… Что вам сказать? Вы не поверите. Он обнял меня, прослезился, расспрашивал, как я поживаю, напомнил мне, как мы вместе лежали в окопах. Берек меня не отпускал, я должен был с ним выпить, и, уверяю вас, если б он мне тогда сказал, что я ему нужен, я бы бросил жену с детьми и остался с ним. Перед отъездом я ему говорю: «Пан полковник, австрийские уланы причиняют нам зло». «Терпение, – говорит он, – скоро Польша опять будет наша». Кто мог тогда думать, что его ждет такой тяжкий конец! Как там дело было, я и до сих пор не знаю. Я думаю, что враг, вероятно, заманил его за коцкинский шлагбаум, и, когда он со своей горсточкой солдат вышел на базар, за ним закрыли шлагбаум и стали палить. Удрать, понимаете ли, некуда: это была дьявольская западня. Тогда он шашкой стал прокладывать себе дорогу. Евреи-лавочники, в то время бывшие на базаре, рассказывали мне, что он снимал головы с врагов, как капустные кочаны, и, если б лошадь под ним не пала, он бы спасся. Он оборонялся, не выпуская шашки из рук, пока не подкрался к нему какой-то улан и не угостил его саблей по голове. И когда Берек уже лежал в луже крови, уланы Гунтци рассчитались-таки с ним: изрезали его в куски. Скоро пришло польское войско, прогнали австрийцев из Коцка и Берека торжественно похоронили у самого въезда в город… Вот мы уже и у самой могилы!








